Война, язык и неврастения
Факты никогда не “говорят сами за себя”. Полагать обратное значило бы впадать в наивность философствующего чиновника либо в лукавство мифотехнолога, сделавшего достаточно для того, чтобы сама немота вещей заговорила удобным ему языком.
Взять даже такие “красноречивые факты”, как сводки о боевых потерях: в разных мирах, разных ситуациях, разных сердцах сообщения о павших будут значить разное. В них может звучать обещание прямого транзита к кораническому седьмому небу или вагнеровский полет к навеки далекой скандинавской Вальхалле; а может — может и то, что услышит в них наша усталая постхристианская культура.
Факты никогда не говорят сами за себя. Возможность говорить за них составляет предмет некой постоянной подспудной войны, войны языков. Поступая в распоряжение ее победителей, факты могут внушать гордость, причинять боль или убивать наповал.
Факты потерь в Чечне наше общество переживает травматически. И кажется, дело не ограничивается текущим дискомфортом. Обильно вдыхаемые информационные пары оседают на дне “коллективной души” свинцовым осадком. Это накопление травматического переживания представляется столь же закономерным, сколь ненормальным. Было бы в высшей степени недостаточно отнести его на счет особой сострадательности или той психической нагрузки, которой чревата близость — пусть даже деградированная, информационная близость — смерти. Нагрузка никогда не чрезмерна сама по себе — но лишь в отношении тех опор, что призваны ее выдерживать. В нашем случае к этому призваны структуры смысловой легитимации происходящего. Иначе говоря, избыток травматического эффекта определяется недостатком смысловой компенсации, символической слабостью задействованного языка.
Казалось бы, какая уж тут “слабость”, когда Путин, еще будучи лишь новым премьером, уверенно нарушал формат официозного вещания, взлелеянного весомой невнятностью Черномырдина или дипломатической корректностью Примакова. Не повторяя набивших оскомину крутых пассажей, признаемся себе: сила языка, сила текста имеет мало отношения к резкости выражений. Энергия, живущая “красным словцом”, мимолетней аффекта; глубока и долговечна энергия смысла.
Дух войны в текстуре порядка
На волне вторжения в Дагестан и взрывов в Москве удалось сопрячь воедино правовой мотив конституционного порядка с социальным мотивом личной безопасности граждан. Сплести их на уровне массовой психологии (ибо в учебниках политологии и государственного права все увязано гладко с самого начала). Контрапунктическим выражением единства этих мотивов явилась ключевая информационная стратагема второй чеченской кампании: “антитеррористическая операция”. (Ведь терроризм опосредует угрозу государственному строю жизнями конкретных граждан.) На первых порах легитимирующий и мотивационный эффект этой смысловой фигуры был, кажется, вполне достаточным. Однако время, кровь, тревожные ожидания и информационный накал взвинтили социально-психологическую нагрузку до предела. Конечно, не вообще “до предела”, а до того предела, когда она стала превышать резистентность смысловых опор официального языка, его легитимирующую мощь.
Время, вызревшее в уверенность, что “это надолго”, вскоре пошатнуло тот дух “оперативности”, которым веяли слова “антитеррористическая операция”, ассоциативно воскрешающие в памяти какие-нибудь кадры молниеносных вторжений “спецназа” в захваченные дома, автобусы и самолеты.
Кровь, превращенная в официальную и, хуже того, неофициальную новостную статистику, с некоторых пор стала зашкаливать за тот порог социально приемлемой жертвы, который столь же неявно, сколь явственно положен полицейской операции — борьбе, ведомой под знаменами законности и безопасности. Вести под их сенью войну, сопряженную с большими ставками и потерями, по правде сказать, почти столь же странно, как вести умирать на баррикадах под голубыми флагами Федерации независимых профсоюзов.
Между тем, как в официальных текстах о Чечне еще с 94-го года преобладает полицейская семантика правопорядка, военно-тактическая и социально-психологическая реальность боевых действий остается реальностью войны. В традиции Клаузевица и Карла Шмитта, пробным камнем этой реальности можно бы назвать некое повседневное и судьбоносное различение своих и чужих, достигающее накала смертельной и отнюдь не личной вражды. Сколь бы ни были сильны корпоративные эмоции стражей правопорядка, их борьба с преступностью не создает форм устойчивого размежевания, ни пафоса коллективной судьбы. В чеченской кампании действительность этого социально-психологического опыта войны, напротив, кажется неоспоримой. Вне зависимости от того, что по данному поводу могла бы вычитать вдумчивая голова в Основах конституционного строя, российские солдаты в столь же малой степени воюют “против собственных граждан”, как “солдаты Ичкерии” — против собственного правительства. Речь, повторюсь, не о нормативной оценке, а о социально-психологической реальности войны, о самой ее “субстанции”.
Взять даже такие “красноречивые факты”, как сводки о боевых потерях: в разных мирах, разных ситуациях, разных сердцах сообщения о павших будут значить разное. В них может звучать обещание прямого транзита к кораническому седьмому небу или вагнеровский полет к навеки далекой скандинавской Вальхалле; а может — может и то, что услышит в них наша усталая постхристианская культура.
Факты никогда не говорят сами за себя. Возможность говорить за них составляет предмет некой постоянной подспудной войны, войны языков. Поступая в распоряжение ее победителей, факты могут внушать гордость, причинять боль или убивать наповал.
Факты потерь в Чечне наше общество переживает травматически. И кажется, дело не ограничивается текущим дискомфортом. Обильно вдыхаемые информационные пары оседают на дне “коллективной души” свинцовым осадком. Это накопление травматического переживания представляется столь же закономерным, сколь ненормальным. Было бы в высшей степени недостаточно отнести его на счет особой сострадательности или той психической нагрузки, которой чревата близость — пусть даже деградированная, информационная близость — смерти. Нагрузка никогда не чрезмерна сама по себе — но лишь в отношении тех опор, что призваны ее выдерживать. В нашем случае к этому призваны структуры смысловой легитимации происходящего. Иначе говоря, избыток травматического эффекта определяется недостатком смысловой компенсации, символической слабостью задействованного языка.
Казалось бы, какая уж тут “слабость”, когда Путин, еще будучи лишь новым премьером, уверенно нарушал формат официозного вещания, взлелеянного весомой невнятностью Черномырдина или дипломатической корректностью Примакова. Не повторяя набивших оскомину крутых пассажей, признаемся себе: сила языка, сила текста имеет мало отношения к резкости выражений. Энергия, живущая “красным словцом”, мимолетней аффекта; глубока и долговечна энергия смысла.
Дух войны в текстуре порядка
На волне вторжения в Дагестан и взрывов в Москве удалось сопрячь воедино правовой мотив конституционного порядка с социальным мотивом личной безопасности граждан. Сплести их на уровне массовой психологии (ибо в учебниках политологии и государственного права все увязано гладко с самого начала). Контрапунктическим выражением единства этих мотивов явилась ключевая информационная стратагема второй чеченской кампании: “антитеррористическая операция”. (Ведь терроризм опосредует угрозу государственному строю жизнями конкретных граждан.) На первых порах легитимирующий и мотивационный эффект этой смысловой фигуры был, кажется, вполне достаточным. Однако время, кровь, тревожные ожидания и информационный накал взвинтили социально-психологическую нагрузку до предела. Конечно, не вообще “до предела”, а до того предела, когда она стала превышать резистентность смысловых опор официального языка, его легитимирующую мощь.
Время, вызревшее в уверенность, что “это надолго”, вскоре пошатнуло тот дух “оперативности”, которым веяли слова “антитеррористическая операция”, ассоциативно воскрешающие в памяти какие-нибудь кадры молниеносных вторжений “спецназа” в захваченные дома, автобусы и самолеты.
Кровь, превращенная в официальную и, хуже того, неофициальную новостную статистику, с некоторых пор стала зашкаливать за тот порог социально приемлемой жертвы, который столь же неявно, сколь явственно положен полицейской операции — борьбе, ведомой под знаменами законности и безопасности. Вести под их сенью войну, сопряженную с большими ставками и потерями, по правде сказать, почти столь же странно, как вести умирать на баррикадах под голубыми флагами Федерации независимых профсоюзов.
Между тем, как в официальных текстах о Чечне еще с 94-го года преобладает полицейская семантика правопорядка, военно-тактическая и социально-психологическая реальность боевых действий остается реальностью войны. В традиции Клаузевица и Карла Шмитта, пробным камнем этой реальности можно бы назвать некое повседневное и судьбоносное различение своих и чужих, достигающее накала смертельной и отнюдь не личной вражды. Сколь бы ни были сильны корпоративные эмоции стражей правопорядка, их борьба с преступностью не создает форм устойчивого размежевания, ни пафоса коллективной судьбы. В чеченской кампании действительность этого социально-психологического опыта войны, напротив, кажется неоспоримой. Вне зависимости от того, что по данному поводу могла бы вычитать вдумчивая голова в Основах конституционного строя, российские солдаты в столь же малой степени воюют “против собственных граждан”, как “солдаты Ичкерии” — против собственного правительства. Речь, повторюсь, не о нормативной оценке, а о социально-психологической реальности войны, о самой ее “субстанции”.
Эта движущая энергия войны, энергия различения “своего” и “чужого” перед лицом смерти, в любой культуре является колоссальным смыслообразующим ресурсом. Иными словами, компенсация и легитимация жертв и лишений, любых травматических эффектов войны в известном смысле черпается из самой действительности военного положения. Задействование этого внутреннего психологического ресурса войны в масштабах всего общества достигается символизацией ее базовой эмоциональной действительности (опыт переживания “врага”, опыт “бытия-в-риске”) и, разумеется, заявлением войны как таковой.
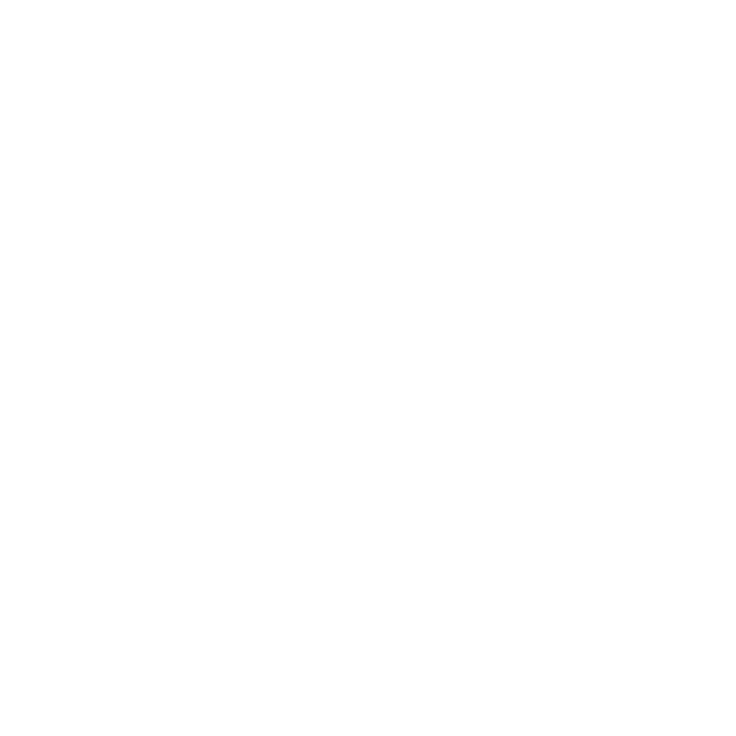
Воплощаясь в символический текст, волевая действительность войны хотя бы отчасти делается достоянием всего общества и культуры. Вы думали, люди войны нуждаются в донорской, реабилитационной помощи нашего общества? Выходит напротив: инъекции их воли спасают народ от того, чтобы стать коллективным невротиком, коллективным неудачником, коллективным диссидентом.
В нашей ситуации действительная энергия войны подчас остается безъязыкой, не узнавая себя в вездесущем языке полицейских истин (“порядок должен быть восстановлен”, “зачинщики должны быть наказаны”, “вор должен сидеть в тюрьме”); а сама война фигурирует в сниженном статусе антитеррористических мероприятий или (в позднейшей, “партизанской” фазе) большой проверки паспортного режима. В этом разрыве между сильной фактичностью и слабым языком как раз и гнездится избыток “травматического сознания”.
Похоже, что и сама власть отдает себе отчет в этой коллизии. Недаром в недели грозненского штурма, самые тяжелые в военно-тактическом и социально-психологическом отношении, когда казалось, будто судьба кампании на изломе, и каждые новые “Итоги” шли в информационное наступление все решительнее, — недаром в те дни люди власти и близкие к ним журналисты находили укрытие в более сильных, чем полицейцски-правовое, семантических полях. Взять безусловно знаковую речь Путина на похоронах генерала Малофеева. Речи на похоронах — в своем роде идеально-типическая ситуация развертывания языка компенсации. Представьте, сколь неловко и бездарно звучали бы слова о борьбе за “конституционную законность”, “гибель при исполнении”, “бандитской пуле” или больше того, о “территориальной целостности Российской Федерации”. Напротив, многажды и акцентированно употребленное слово “русский” (под прикрытием смягчающих штампов: “русская армия”, “русский солдат”, “простые русские люди”) звучало, хоть и на грани “политической корректности” и за гранью официозной идеологии РФ, зато в унисон трагическому катарсису военных похорон. Между тем заметьте: полицейский ровно в той же мере, что и бандит, “не имеет национальности”.
Верховенство права
Такого рода отклонения от магистрали социальных и полицейски-правовых мотивов, носят скорее эпизодический, ситуативно обусловленный характер. Эта ограниченность символического маневра имеет, конечно, серьезные предпосылки. Ведь боевые действия на территории “субъекта федерации” против некоторой части его населения и без участия суверенного интервента не могут считаться войной. Враждебная часть населения не может считаться врагом, поскольку не может быть вынесена за рамки правового поля Российской Федерации. Не может — в силу конституционного постулата о невозможности лишения гражданства. Все эти невозможности, конечно же, относительны, и порогом их действенности является, как обычно, не сама упругость вещей, но нечто в нас, а именно, “оптика”, концептуальная оптика “правового государства”. Идея “верховенства права” значит нечто большее, чем тривиальное “все должны соблюдать закон”. Если спрашивать по сути — над чем же верховенствует право? — то ответом могло бы стать: “право” верховенствует над “политикой”, претендуя в обход нее определять субстанцию государства. В обиходном политическом словаре базовое значение слова “политика” — ругательное. В этом ключе понимать сказанное не продуктивно. Вся интрига, сама претенциозность “верховенства права” состоит, пожалуй, в том, что никакой правовой порядок не имеет оснований в самом себе.
В нашей ситуации действительная энергия войны подчас остается безъязыкой, не узнавая себя в вездесущем языке полицейских истин (“порядок должен быть восстановлен”, “зачинщики должны быть наказаны”, “вор должен сидеть в тюрьме”); а сама война фигурирует в сниженном статусе антитеррористических мероприятий или (в позднейшей, “партизанской” фазе) большой проверки паспортного режима. В этом разрыве между сильной фактичностью и слабым языком как раз и гнездится избыток “травматического сознания”.
Похоже, что и сама власть отдает себе отчет в этой коллизии. Недаром в недели грозненского штурма, самые тяжелые в военно-тактическом и социально-психологическом отношении, когда казалось, будто судьба кампании на изломе, и каждые новые “Итоги” шли в информационное наступление все решительнее, — недаром в те дни люди власти и близкие к ним журналисты находили укрытие в более сильных, чем полицейцски-правовое, семантических полях. Взять безусловно знаковую речь Путина на похоронах генерала Малофеева. Речи на похоронах — в своем роде идеально-типическая ситуация развертывания языка компенсации. Представьте, сколь неловко и бездарно звучали бы слова о борьбе за “конституционную законность”, “гибель при исполнении”, “бандитской пуле” или больше того, о “территориальной целостности Российской Федерации”. Напротив, многажды и акцентированно употребленное слово “русский” (под прикрытием смягчающих штампов: “русская армия”, “русский солдат”, “простые русские люди”) звучало, хоть и на грани “политической корректности” и за гранью официозной идеологии РФ, зато в унисон трагическому катарсису военных похорон. Между тем заметьте: полицейский ровно в той же мере, что и бандит, “не имеет национальности”.
Верховенство права
Такого рода отклонения от магистрали социальных и полицейски-правовых мотивов, носят скорее эпизодический, ситуативно обусловленный характер. Эта ограниченность символического маневра имеет, конечно, серьезные предпосылки. Ведь боевые действия на территории “субъекта федерации” против некоторой части его населения и без участия суверенного интервента не могут считаться войной. Враждебная часть населения не может считаться врагом, поскольку не может быть вынесена за рамки правового поля Российской Федерации. Не может — в силу конституционного постулата о невозможности лишения гражданства. Все эти невозможности, конечно же, относительны, и порогом их действенности является, как обычно, не сама упругость вещей, но нечто в нас, а именно, “оптика”, концептуальная оптика “правового государства”. Идея “верховенства права” значит нечто большее, чем тривиальное “все должны соблюдать закон”. Если спрашивать по сути — над чем же верховенствует право? — то ответом могло бы стать: “право” верховенствует над “политикой”, претендуя в обход нее определять субстанцию государства. В обиходном политическом словаре базовое значение слова “политика” — ругательное. В этом ключе понимать сказанное не продуктивно. Вся интрига, сама претенциозность “верховенства права” состоит, пожалуй, в том, что никакой правовой порядок не имеет оснований в самом себе.
“
Идея “верховенства права” значит нечто большее, чем тривиальное “все должны соблюдать закон”. Если спрашивать по сути — над чем же верховенствует право? — то ответом могло бы стать: “право” верховенствует над “политикой”, претендуя в обход нее определять субстанцию государства. В обиходном политическом словаре базовое значение слова “политика” — ругательное. В этом ключе понимать сказанное не продуктивно. Вся интрига, сама претенциозность “верховенства права” состоит, пожалуй, в том, что никакой правовой порядок не имеет оснований в самом себе.
Прав Жижек, повторяя многажды сказанное “реалистами”: “единственным основанием власти Закона является акт его провозглашения”. Речь, конечно, о провозглашении особого рода — том, что всецело принадлежит стихии исторического действия. Полагание некоего правового “порядка” происходит изнутри некоего социального “хаоса” (порядок всегда младше хаоса) — революции, войны, национально-освободительные движения, любые другие эксцессы этногенеза. Своим утверждением всякий правовой порядок обязан опыту “коллективной воли” и “властного решения”, если угодно, опыту реального суверенитета.
Это и есть политический опыт по преимуществу.
Право, всякое конкретное право точно так же, как право вообще, в долгу у политики — у Цезаря, переходящего Рубикон, у толпы, взявшей Бастилию, у Ленина на броневике, у первых декретов большевиков и даже у Ельцина на танке. Даже тогда, когда власть Закона не восходит к какой-либо предельной, пороговой исторической ситуации, например, в случае традиционного обычая, — она коренится в харизматическом авторитете сообщества и, кажется, почти всегда возводится к некой мифической точке “провозглашения” (не без привлечения божественных сил или, на худой конец, каких-нибудь отцов-основателей). Право всегда в долгу у политики. “Правовое государство” есть идеология абсолютизации правового порядка, благонамеренная уловка Закона, скрывающего свою подвешенность в политическом акте провозглашения. Лишь ригорист, ничего не ведающий о спасительности иллюзий, мог бы счесть это упреком.
Эта основополагающая “уловка”, между тем, отзывается эхом в нашем вопросе. “Фундаментальное неузнавание” реальности, лежащей по ту сторону правового порядка, в области его онтологических условий подчас чревато, увы, слепотой к специфической логике чрезвычайной политической ситуации. Так, всякий организованный вооруженный сепаратизм ставит под вопрос суверенитет, действительное верховенство над собою, включающего государственного сообщества. Он бросает вызов той инстанции, чьим авторитетом учрежден данный правовой порядок. “Правовое государство” описывает эту чрезвычайную ситуацию в терминах нормальной ситуации — ведь логика правового порядка есть всегда лишь логика “нормальной ситуации”. Как следствие, власть ведет борьбу от имени права в то время, когда затронут сам источник любого возможного права. Ситуация не прочитывается по существу, вызов не принимается во всей его внеправовой серьезности.
Сам суверенитет “правовым государством” не принимается всерьез. От реальности суверенного существования сообщества идеология правового государства отслаивает некую установочную, постулированную, номинальную суверенность. В последнем качестве суверенитет уже вполне становится внутренним элементом текстуры правового порядка. Не тем, что провозглашает, а тем, что провозглашено. Не тем, что учреждает право, а тем, на что может быть дано право (пресловутое право на самоопределение). В этой пассивности постулата суверенитет покидает мир политического и впадает в некую успокоенность гарантированного бытия: ибо, “что написано пером, не вырубишь топором”. Тогда как бодрствование реального суверенитета сурово. Все живое, активное, “провозглашающее” может быть “вырублено топором” и ежемоментно поставлено под вопрос.
Гражданство как изнанка суверенитета воспроизводит эту двойственность фактичного и номинального. Суверенитету как фактическому статусу сообщества, требующему постоянного подтверждения, соответствует содержательный и обязывающий статус гражданина, определяемый опытом принадлежности “своей стороне”. Логика верховенства права, напротив, трактует о формальном гражданстве. Гражданство — изнанка суверенитета. И если в правовом государстве “никто не может быть лишен гражданства”, то это обратная сторона того, что написанный на бумаге суверенитет не может быть вырублен топором. Иными словами, для идеологии правового государства ни суверенитета, ни гражданства в содержательном смысле не существует, она не склонна узнавать их в присущей им глубине фактичности. Поэтому, когда “правовое государство” встречается с большой враждебной группой людей, организованных на почве неприятия его суверенитета над собою или, что то же самое, своей принадлежности к нему, оно не до конца понимает, о чем идет речь и продолжает считать всех этих людей “собственными гражданами”. При этом оно готово усмирить их, недоумевая перед рудиментами “неразумного эгоизма”. И если мы, остальные, отчасти понимаем, “о чем идет речь”, то исключительно благодаря тому, что еще носим в себе некоторые идеи, помимо идеи верховенства права.
Концептуальная безопасность
Маркирование противника как террориста представляет собой зыбкую возможность пройти по острию бритвы. С одной стороны, это статус, не исключающий гражданской принадлежности обществу, с другой — образ несет отчетливо “исключающие” коннотации, отмежевывая противника от других членов гражданского общества, общества “всех нормальных людей”. Разумеется, исключающая энергия образа подкрепляет возможность применения особо сильных мер (но, повторимся, отнюдь не способность переживания особо сильных потерь). И вместе с тем “антитеррористический” язык противостояния остается внутренне уязвимым для гуманитарной критики и прочих стратегий пацифистской деконструкции. Достаточно сделать акцент на “включающем” аспекте понятий “террорист” или “бандит”, т. е. на формальной включенности противника в правовое сообщество граждан, и вот — боевые потери с обеих сторон и особенно среди мирного населения легко читаются как, скажем, “превышение полномочий при задержании”. Аналогичная внутренняя уязвимость присуща и “социальной” стороне официального легитимирующего текста. Компенсация военных тягот перспективами “налаживания нормальной жизни” нейтрализовывалась целой армией медийных персонажей, вереницей неких обездоленных претендентов на будущую нормальную жизнь из числа беженцев или, того хуже, упорных жителей Грозного, не согласных, чтобы их “так спасали”.
Естественно, официальная позиция имеет свои ответы на “гуманитарный саботаж”, причем достаточно веские (“достаточно” — по крайней мере в перспективе 26 марта). Не будем перечислять их, лишь заметим себе: по сравнению с первой чеченской кампанией, ставшей информационно-смысловым поражением, в идеологическом обеспечении военной политики изменилось лишь одно — событийный фон. За три года независимости (с августа 96-го по август 99-го) к пьянящему воздуху свободы примешались запахи разрухи и трупного гниения, к образу маленького гордого народа — черты средневековой разбойной вольницы. Вторжение в Дагестан обозначило невозможность, закрывая на все глаза, отгородиться и оставить друг друга в покое. А вместе с рухнувшими домами в Москве пошатнулась (пока только пошатнулась) та перегородка, что отделяет политическую судьбу страны от жизненного мира “обычных людей”. При том, что “факты никогда не говорят сами за себя”, говорить посредством событий — конечно же, самая сильная модуляция речи. Но право же, общество, которое усваивает тривиальные политические истины только с помощью таких вот коммуникативных передозировок, — это общество (нет, не дебилов)... неврастеников.
На волне этих событий власть получила известное превосходство над противниками по информационной войне. Между тем, в своей логике и в своем языке она не перешла к символическому дискурсу более сильного порядка и осталась в пределах принципиальной досягаемости уже привычным стратегиям деконструкции: от стихийного пацифизма обществ солдатских матерей до гуманитарной озабоченности “мирового сообщества”.
Ролан Барт называл “фигурой системности” те идеологические ходы, что “замыкают дискурсивную систему”, обеспечивая ее плотность, изгоняя из нее противника. “Общая задача таких фигур — включить другого в свой дискурс в качестве простого объекта, чтобы тем вернее исключить его из сообщества говорящих на сильном языке”. Замыкающая “фигура системности” — пожалуй именно то, чего не хватало языку власти для полноценной “концептуальной безопасности” перед лицом “смысловых диверсий”. Идеологически геометрия этого “замыкания” ясна: переход к логике реального суверенитета и содержательного гражданства, позволяющей трактовать врага как врага и действовать на войне, как на войне.
Оставаясь под одной идеологической крышей со своими критиками, власть тем не снискала их снисхождения. На правах неугомонной совести, как обычно, выступил Сергей Ковалев: сказал встревоженно о “полицейском государстве”. Упрек, кстати, вполне закономерный в свете некоторой передозировки полицейской силы — не силы как таковой, а именно полицейски мотивированной силы. Атмосфера “полицейского государства” — побочное выделение духа войны, сдавленного ложным языком правопорядка. Судьба слов, как всякая настоящая судьба, иронична: “полицейское государство” оказывается предельной модуляцией “правового государства”. Судите сами: “правовому государству” не остается ничего другого, как стать “полицейским” перед лицом серьезного оборота дел. Необходимый для решения вопросов исторического бытия уровень мобилизации несколько превосходит сонливую ритмику поддержания правопорядка (повседневной защиты жизни, собственности и достоинства “граждан”). Возникает ложный эффект завышенной мобилизации, приводящий “правовое государство” к его пороговым значениям, одним из которых является “полицейское государство”. Вообще, интимная связь полицейской силы с верховенством права явно недооценена. Иначе мысль о том, что “правовое” и “полицейское” государство — лишь вариации одной темы, сменяющие друг друга в зависимости от обстоятельств, не казалась бы неожиданной.
Для обиходной политической аналитики, ограниченной горизонтами электоральных перспектив, коллизия духа войны с языком власти и связанная с ней “травма общественного сознания” вряд ли вполне значительны, коль скоро им не суждено сыграть роковых ролей в рейтинговой судьбе основного кандидата. Ведь общество все же выдерживает информационный прессинг военной фактичности (в смысле, не впадает в пораженчество). Но именно постольку, поскольку переживает эту фактичность в структурах военно-политического, а не полицейски-правового символизма. Постольку, поскольку думается о родине, когда говорят “закон”, о враге, когда говорят “преступник”, о наших, когда говорят “федералы”, и, скажем больше — о победе, когда говорят “безопасность”. Слова первого ряда, не правда ли, — сплошь мифы? Все верно: лишь “иррациональное” несет заряд социальной энергии. И обратно: чем выше степень “рациональной” тематизации интереса, тем ниже его мобилизующий потенциал. “Рациональной” — в кавычках, ибо с рациональностью, нейтрализующей основной ресурс большой политики (политики большого стиля) — коллективную волю, — с такой рациональностью еще надо бы разобраться.
Помнится, доктор Юнг, внимательный диагностик “цивилизованного человека”, связал всеобщее “поклонение Богине Разума” с “психологической неспособностью к нужным политическим реакциям”. В свете этой неспособности нельзя исключать, что политика большого стиля и впрямь “отошла без возврата”. Однако в противном случае ее первым предприятием, столь же отважным, сколь пропащим, станет мятеж против “символической нищеты” культуры, не выдерживающей нагрузки даже ограниченных мобилизаций. Актуальные символические тексты не служат более полноценной регенерации социальной энергии и обрекают общество на невротическое существование между пиками “повышенной возбудимости” и спадами “быстрой утомляемости”.
Нечто вполне сносное для международных клубов исторических пенсионеров является чем-то весьма роковым для обществ беспокойной судьбы — замирающих в низком старте большого рывка, живущих в атмосфере диверсионной войны...
Болезненная, местами до кровавых мозолей истертая, историческая память нашей культуры вот-вот получит свежее воспоминание. Расфасованная в картинках телевизионных агентств, осколочных фразах ньюсмейкеров, война отправляет один за одним свои эшелоны в некое “вчера”. Что прокричим вслед, то и запомнится. Война: уважительно назвать ее по имени значило бы заручиться покровительством могущественного божества, которое переработает кровь и грязь в знамена и памятники (а нам, сделанным из глины, здесь нечему удивляться). Строить памятники — способ снятия травмы, жест компенсации. Памятники нужны живым. Так что мы будем писать на них?
Это и есть политический опыт по преимуществу.
Право, всякое конкретное право точно так же, как право вообще, в долгу у политики — у Цезаря, переходящего Рубикон, у толпы, взявшей Бастилию, у Ленина на броневике, у первых декретов большевиков и даже у Ельцина на танке. Даже тогда, когда власть Закона не восходит к какой-либо предельной, пороговой исторической ситуации, например, в случае традиционного обычая, — она коренится в харизматическом авторитете сообщества и, кажется, почти всегда возводится к некой мифической точке “провозглашения” (не без привлечения божественных сил или, на худой конец, каких-нибудь отцов-основателей). Право всегда в долгу у политики. “Правовое государство” есть идеология абсолютизации правового порядка, благонамеренная уловка Закона, скрывающего свою подвешенность в политическом акте провозглашения. Лишь ригорист, ничего не ведающий о спасительности иллюзий, мог бы счесть это упреком.
Эта основополагающая “уловка”, между тем, отзывается эхом в нашем вопросе. “Фундаментальное неузнавание” реальности, лежащей по ту сторону правового порядка, в области его онтологических условий подчас чревато, увы, слепотой к специфической логике чрезвычайной политической ситуации. Так, всякий организованный вооруженный сепаратизм ставит под вопрос суверенитет, действительное верховенство над собою, включающего государственного сообщества. Он бросает вызов той инстанции, чьим авторитетом учрежден данный правовой порядок. “Правовое государство” описывает эту чрезвычайную ситуацию в терминах нормальной ситуации — ведь логика правового порядка есть всегда лишь логика “нормальной ситуации”. Как следствие, власть ведет борьбу от имени права в то время, когда затронут сам источник любого возможного права. Ситуация не прочитывается по существу, вызов не принимается во всей его внеправовой серьезности.
Сам суверенитет “правовым государством” не принимается всерьез. От реальности суверенного существования сообщества идеология правового государства отслаивает некую установочную, постулированную, номинальную суверенность. В последнем качестве суверенитет уже вполне становится внутренним элементом текстуры правового порядка. Не тем, что провозглашает, а тем, что провозглашено. Не тем, что учреждает право, а тем, на что может быть дано право (пресловутое право на самоопределение). В этой пассивности постулата суверенитет покидает мир политического и впадает в некую успокоенность гарантированного бытия: ибо, “что написано пером, не вырубишь топором”. Тогда как бодрствование реального суверенитета сурово. Все живое, активное, “провозглашающее” может быть “вырублено топором” и ежемоментно поставлено под вопрос.
Гражданство как изнанка суверенитета воспроизводит эту двойственность фактичного и номинального. Суверенитету как фактическому статусу сообщества, требующему постоянного подтверждения, соответствует содержательный и обязывающий статус гражданина, определяемый опытом принадлежности “своей стороне”. Логика верховенства права, напротив, трактует о формальном гражданстве. Гражданство — изнанка суверенитета. И если в правовом государстве “никто не может быть лишен гражданства”, то это обратная сторона того, что написанный на бумаге суверенитет не может быть вырублен топором. Иными словами, для идеологии правового государства ни суверенитета, ни гражданства в содержательном смысле не существует, она не склонна узнавать их в присущей им глубине фактичности. Поэтому, когда “правовое государство” встречается с большой враждебной группой людей, организованных на почве неприятия его суверенитета над собою или, что то же самое, своей принадлежности к нему, оно не до конца понимает, о чем идет речь и продолжает считать всех этих людей “собственными гражданами”. При этом оно готово усмирить их, недоумевая перед рудиментами “неразумного эгоизма”. И если мы, остальные, отчасти понимаем, “о чем идет речь”, то исключительно благодаря тому, что еще носим в себе некоторые идеи, помимо идеи верховенства права.
Концептуальная безопасность
Маркирование противника как террориста представляет собой зыбкую возможность пройти по острию бритвы. С одной стороны, это статус, не исключающий гражданской принадлежности обществу, с другой — образ несет отчетливо “исключающие” коннотации, отмежевывая противника от других членов гражданского общества, общества “всех нормальных людей”. Разумеется, исключающая энергия образа подкрепляет возможность применения особо сильных мер (но, повторимся, отнюдь не способность переживания особо сильных потерь). И вместе с тем “антитеррористический” язык противостояния остается внутренне уязвимым для гуманитарной критики и прочих стратегий пацифистской деконструкции. Достаточно сделать акцент на “включающем” аспекте понятий “террорист” или “бандит”, т. е. на формальной включенности противника в правовое сообщество граждан, и вот — боевые потери с обеих сторон и особенно среди мирного населения легко читаются как, скажем, “превышение полномочий при задержании”. Аналогичная внутренняя уязвимость присуща и “социальной” стороне официального легитимирующего текста. Компенсация военных тягот перспективами “налаживания нормальной жизни” нейтрализовывалась целой армией медийных персонажей, вереницей неких обездоленных претендентов на будущую нормальную жизнь из числа беженцев или, того хуже, упорных жителей Грозного, не согласных, чтобы их “так спасали”.
Естественно, официальная позиция имеет свои ответы на “гуманитарный саботаж”, причем достаточно веские (“достаточно” — по крайней мере в перспективе 26 марта). Не будем перечислять их, лишь заметим себе: по сравнению с первой чеченской кампанией, ставшей информационно-смысловым поражением, в идеологическом обеспечении военной политики изменилось лишь одно — событийный фон. За три года независимости (с августа 96-го по август 99-го) к пьянящему воздуху свободы примешались запахи разрухи и трупного гниения, к образу маленького гордого народа — черты средневековой разбойной вольницы. Вторжение в Дагестан обозначило невозможность, закрывая на все глаза, отгородиться и оставить друг друга в покое. А вместе с рухнувшими домами в Москве пошатнулась (пока только пошатнулась) та перегородка, что отделяет политическую судьбу страны от жизненного мира “обычных людей”. При том, что “факты никогда не говорят сами за себя”, говорить посредством событий — конечно же, самая сильная модуляция речи. Но право же, общество, которое усваивает тривиальные политические истины только с помощью таких вот коммуникативных передозировок, — это общество (нет, не дебилов)... неврастеников.
На волне этих событий власть получила известное превосходство над противниками по информационной войне. Между тем, в своей логике и в своем языке она не перешла к символическому дискурсу более сильного порядка и осталась в пределах принципиальной досягаемости уже привычным стратегиям деконструкции: от стихийного пацифизма обществ солдатских матерей до гуманитарной озабоченности “мирового сообщества”.
Ролан Барт называл “фигурой системности” те идеологические ходы, что “замыкают дискурсивную систему”, обеспечивая ее плотность, изгоняя из нее противника. “Общая задача таких фигур — включить другого в свой дискурс в качестве простого объекта, чтобы тем вернее исключить его из сообщества говорящих на сильном языке”. Замыкающая “фигура системности” — пожалуй именно то, чего не хватало языку власти для полноценной “концептуальной безопасности” перед лицом “смысловых диверсий”. Идеологически геометрия этого “замыкания” ясна: переход к логике реального суверенитета и содержательного гражданства, позволяющей трактовать врага как врага и действовать на войне, как на войне.
Оставаясь под одной идеологической крышей со своими критиками, власть тем не снискала их снисхождения. На правах неугомонной совести, как обычно, выступил Сергей Ковалев: сказал встревоженно о “полицейском государстве”. Упрек, кстати, вполне закономерный в свете некоторой передозировки полицейской силы — не силы как таковой, а именно полицейски мотивированной силы. Атмосфера “полицейского государства” — побочное выделение духа войны, сдавленного ложным языком правопорядка. Судьба слов, как всякая настоящая судьба, иронична: “полицейское государство” оказывается предельной модуляцией “правового государства”. Судите сами: “правовому государству” не остается ничего другого, как стать “полицейским” перед лицом серьезного оборота дел. Необходимый для решения вопросов исторического бытия уровень мобилизации несколько превосходит сонливую ритмику поддержания правопорядка (повседневной защиты жизни, собственности и достоинства “граждан”). Возникает ложный эффект завышенной мобилизации, приводящий “правовое государство” к его пороговым значениям, одним из которых является “полицейское государство”. Вообще, интимная связь полицейской силы с верховенством права явно недооценена. Иначе мысль о том, что “правовое” и “полицейское” государство — лишь вариации одной темы, сменяющие друг друга в зависимости от обстоятельств, не казалась бы неожиданной.
Для обиходной политической аналитики, ограниченной горизонтами электоральных перспектив, коллизия духа войны с языком власти и связанная с ней “травма общественного сознания” вряд ли вполне значительны, коль скоро им не суждено сыграть роковых ролей в рейтинговой судьбе основного кандидата. Ведь общество все же выдерживает информационный прессинг военной фактичности (в смысле, не впадает в пораженчество). Но именно постольку, поскольку переживает эту фактичность в структурах военно-политического, а не полицейски-правового символизма. Постольку, поскольку думается о родине, когда говорят “закон”, о враге, когда говорят “преступник”, о наших, когда говорят “федералы”, и, скажем больше — о победе, когда говорят “безопасность”. Слова первого ряда, не правда ли, — сплошь мифы? Все верно: лишь “иррациональное” несет заряд социальной энергии. И обратно: чем выше степень “рациональной” тематизации интереса, тем ниже его мобилизующий потенциал. “Рациональной” — в кавычках, ибо с рациональностью, нейтрализующей основной ресурс большой политики (политики большого стиля) — коллективную волю, — с такой рациональностью еще надо бы разобраться.
Помнится, доктор Юнг, внимательный диагностик “цивилизованного человека”, связал всеобщее “поклонение Богине Разума” с “психологической неспособностью к нужным политическим реакциям”. В свете этой неспособности нельзя исключать, что политика большого стиля и впрямь “отошла без возврата”. Однако в противном случае ее первым предприятием, столь же отважным, сколь пропащим, станет мятеж против “символической нищеты” культуры, не выдерживающей нагрузки даже ограниченных мобилизаций. Актуальные символические тексты не служат более полноценной регенерации социальной энергии и обрекают общество на невротическое существование между пиками “повышенной возбудимости” и спадами “быстрой утомляемости”.
Нечто вполне сносное для международных клубов исторических пенсионеров является чем-то весьма роковым для обществ беспокойной судьбы — замирающих в низком старте большого рывка, живущих в атмосфере диверсионной войны...
Болезненная, местами до кровавых мозолей истертая, историческая память нашей культуры вот-вот получит свежее воспоминание. Расфасованная в картинках телевизионных агентств, осколочных фразах ньюсмейкеров, война отправляет один за одним свои эшелоны в некое “вчера”. Что прокричим вслед, то и запомнится. Война: уважительно назвать ее по имени значило бы заручиться покровительством могущественного божества, которое переработает кровь и грязь в знамена и памятники (а нам, сделанным из глины, здесь нечему удивляться). Строить памятники — способ снятия травмы, жест компенсации. Памятники нужны живым. Так что мы будем писать на них?
Опубликовано в журнале "Логос", на портале ruthenia.ru. 2000 год
