«Органическая работа» для русской нации
2017 г.
«Церковь отделена от государства, но не отделена от общества» – таково традиционное возражение православных сторонникам жесткого секуляризма. Примерно то же можно сказать о «русском вопросе». Российская Федерация не видит и не признает русский народ в качестве субъекта государственности. Это прискорбно, но это не значит, что русская идентичность не может оформляться и воспроизводиться на уровне общества. Казалось бы, может и должна. Но и здесь мы сталкиваемся со своеобразной самоцензурой, когда любые формы национального самоутверждения русских воспринимаются как недопустимые на том основании, что «мы живем в многонациональном государстве».
Этот аргумент парадоксален сразу в двух отношениях. Во-первых, присутствие других ни в коей мере не должно нам мешать быть собой. Для людей это столь же верно, как и для народов, и если вас убедили в обратном, значит, у вас проблемы с самооценкой или вы попали в плохую компанию. Собственно, это и есть критерий «плохой компании» – невозможность «быть собой» в рамках ее коммуникативных правил. Во-вторых, двусмысленным оказывается само использование категории «многонациональное государство». Называть множественные этнические сообщества, проживающие на территории страны, нациями значит признавать за ними определенный политический статус (в принятых категориях, нация – это народ, реализующий право на самоопределение) и допускать присутствие их интересов в публичном и даже публично-правовом пространстве наряду с общегосударственными интересами. Иными словами, категория «многонационального государства» подразумевает утверждение национальных прав «по максимальному стандарту». Но тогда почему применительно к одной из наций она так часто используется для их отрицания? Не является ли такое использование понятий дискриминационным?
Преодоление этой дискриминационной схемы мышления – важное условие для нормализации самой постановки «русского вопроса» в российской политике. «Ответ» на него начинается с малого – с признания того, что ни ссылка на государство, ни ссылка на другие народы не должны служить препятствием к тому, чтобы реализовывать свое право на жизнь.
Этот аргумент парадоксален сразу в двух отношениях. Во-первых, присутствие других ни в коей мере не должно нам мешать быть собой. Для людей это столь же верно, как и для народов, и если вас убедили в обратном, значит, у вас проблемы с самооценкой или вы попали в плохую компанию. Собственно, это и есть критерий «плохой компании» – невозможность «быть собой» в рамках ее коммуникативных правил. Во-вторых, двусмысленным оказывается само использование категории «многонациональное государство». Называть множественные этнические сообщества, проживающие на территории страны, нациями значит признавать за ними определенный политический статус (в принятых категориях, нация – это народ, реализующий право на самоопределение) и допускать присутствие их интересов в публичном и даже публично-правовом пространстве наряду с общегосударственными интересами. Иными словами, категория «многонационального государства» подразумевает утверждение национальных прав «по максимальному стандарту». Но тогда почему применительно к одной из наций она так часто используется для их отрицания? Не является ли такое использование понятий дискриминационным?
Преодоление этой дискриминационной схемы мышления – важное условие для нормализации самой постановки «русского вопроса» в российской политике. «Ответ» на него начинается с малого – с признания того, что ни ссылка на государство, ни ссылка на другие народы не должны служить препятствием к тому, чтобы реализовывать свое право на жизнь.
Время «заниматься жизнью»
Впрочем, здесь возникает другой вопрос – почему реализация этого права вообще является проблемой, требует специальных усилий и имеет публичное значение?
Обыденное сознание всегда тяготеет к тому, чтобы «просто жить», но в данном случае это обманчивая простота. Как говорил Ортега-и-Гассет, «жить в политике значит очень серьезно, осознанно заниматься жизнью». К жизни народов, то есть к истории, это относится в наибольшей мере.
Впрочем, здесь возникает другой вопрос – почему реализация этого права вообще является проблемой, требует специальных усилий и имеет публичное значение?
Обыденное сознание всегда тяготеет к тому, чтобы «просто жить», но в данном случае это обманчивая простота. Как говорил Ортега-и-Гассет, «жить в политике значит очень серьезно, осознанно заниматься жизнью». К жизни народов, то есть к истории, это относится в наибольшей мере.
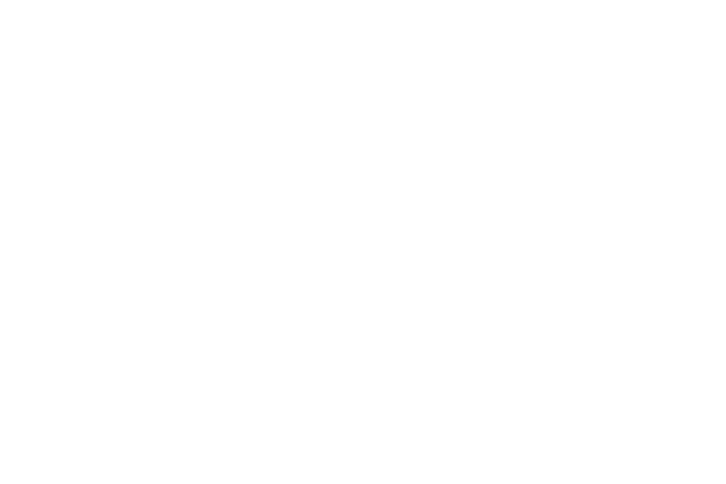
Это связано с несколькими специфическими характеристиками этнонациональных сообществ. Прежде всего – с их самореферентностью (в терминах Никласа Лумана, это свойство системы воспроизводиться через самоописание) и с их межпоколенческим характером. Для советского этнолога Юлиана Бромлея сам факт «межпоколенческой устойчивости» идентитарных форм является критерием их этнической природы.[1]
Сочетание этих свойств – продуцирование «формирующих самоописаний» (которые собственно и могут быть названы идентичностью) и необходимость их передачи в поколениях – делает этническую реальность открытой для сознательного участия людей. И этот целенаправленный, «проектный» компонент в конструкции сообщества выражен тем сильнее, чем ближе оно к той современной («модерной») стадии развития, когда все большую роль в идентичности начинает играть «авторский контент» (сначала высокая культура как совокупность формирующих письменных текстов, а затем массовая культура) и «промышленные» технологии тиражирования информации (книгопечатание, СМИ, кинематограф и т.д.).
Иными словами, сами «законы жанра» современной эпохи требуют от народа сознательных усилий по самовоспроизводству. По удачному выражению недавно ушедшего из жизни британского историка Энтони Смита, нации – это не достигнутые раз и навсегда состояния, а «долгосрочные процессы, постоянно возобновляемые и реконструируемые».[2]
Если это так, то для русского народа после серии перенесенных в ХХ веке сокрушительных ударов явно пришло время такой реконструкции и самовозобновления. А учитывая масштаб народа (как количественный, так и качественный), этот процесс по определению должен быть одним из ключевых формирующих факторов для стратегии развития страны.
Возможно, кстати, именно поэтому русское самоопределение и самоутверждение (даже сугубо позитивное, не идущее в противовес другим) всякий раз оказывается на подозрении – оно слишком многое «потянет за собой» в смысле вектора развития государства и общества. Но что делать? Если для того, чтобы «слезть с печи», нам придется кого-то потревожить, это не повод всю оставшуюся жизнь лежать на боку.
В программных документах государственной национальной политики говорится о «сложном социокультурном самочувствии русского народа»[3], однако этот тезис не раскрывается ни в описательном плане, ни в плане целеполагания – остается неясным, каковы факторы этого сложного самочувствия и как с ними быть.
Особенно значимой в этой связи представляется инициатива Всемирного русского народного собора по разработке «Общественной концепции развития русского народа», которая «предусматривала бы решение насущных демографических, социальных, духовных проблем русских» и «способствовала бы преемственному развитию национальной идентичности». Понятно, что комплекс этих проблем невозможно разрешить и даже охватить отдельно взятым документом, независимо от его качества и статуса. Но важно формирование самой культуры обсуждения и продвижения интересов этнонациональной общности, которая, хотя и является в нашей стране крупнейшей и преобладающей, действительно сталкивается с целым рядом вызовов своей жизнеспособности.
«Сложности» самочувствия»
Многие из этих вызовов не являются «этноспецифичными» и относимы к стране в целом, однако в наибольшей мере затрагивают именно интересы русского народа – имея в виду не только отдельных его представителей, но сами условия его сохранения и воспроизводства как целостного образования. Перечислим некоторые из них.
Социально-демографическое неблагополучие
Несмотря на отмечаемый с начала 2000-х гг. существенный рост рождаемости, его текущий суммарный коэффициент – порядка 1,8 ребенка на одну женщину – по-прежнему не обеспечивает простое замещение поколений. При этом, как правило, зонами депопуляции остаются «русские регионы» ЦФО, СЗФО, ДВФО или «национальные республики» с незначительной долей «титульного населения». В Послании Федеральному Собранию в 2012 г. Президент признал целесообразной дифференциацию мер демографической поддержки по регионам. Некоторые шаги в этом направлении были сделаны (выплаты дополнительных пособий при рождении третьего и последующего детей в тех регионах страны, где демографическая ситуация хуже, чем в среднем по стране). Однако спектр мер демографической поддержки остается довольно узким, а их масштаб (за исключением «неселективного» материнского капитала) не столь значительным. Есть много незадействованных механизмов в сфере налоговой, социально-жилищной, социально-трудовой политики, которые могут серьезно воздействовать на демографическую ситуацию. Логично задействовать эти меры адресно по регионам. При этом не обязательно с акцентом на «худшие» по демографическим показателям (например, в ряде случаев демографическое неблагополучие обусловлено объективными климатическими и экономгеографическими показателями, и «закрепление» населения на таких территориях не всегда является самоцелью). А скорее – с акцентом на потенциальные «группы роста». То есть регионы, где, с одной стороны, не достигнуто естественное воспроизводство населения, с другой – есть потенциал для роста рождаемости.
Не менее, а возможно и более тревожными являются качественные характеристики населения. Общество охвачено социальными эпидемиями, нередко переходящими в медицинские. По данным Интерпола, объем российского рынка героина и синтетических наркотиков сопоставим с общеевропейским. Разумеется, это бедствие этнически не селективно, но от этого не менее эффективно в «выкашивании» демографического потенциала нашего народа.
Дисбалансы пространственного развития
Жизнеспособность русского народа немыслима баз жизнеспособности русской провинции. Наше развитие, в плане концентрации ресурсов и расстановки приоритетов, слишком сильно сдвинуто в сторону столицы (как уже не национального города, а одного из глобальных мегаполисов) и этнических периферий (со времен присоединения Финляндии, Польши и Закавказья Россия развивалась как «империя наоборот», предоставлявшая «колониям» налоговые, таможенные и иные преференции за счет «метрополии», в советское время ситуация усугубилась, в постсоветское – воспроизвелась в новых границах). Недопустимо ослабленным оказывается пространственное ядро российской цивилизации и русского этноса, каковым, следуя мысли Вадима Цымбурского, можно считать областные и районные центры европейской России и «второй Великороссии», как он называл Южную Сибирь. Наглядным выражением этого ослабления традиционно русских пространственных очагов стало кольцо депрессивных регионов вокруг московской и петербургской агломераций. Их опережающее развитие стало бы непосредственным социально-экономическим эквивалентом русского этнического возрождения.
Замещающая миграция
Степень озабоченности общества миграционной ситуацией варьирует по периодам и особенно по регионам, но в целом остается довольно высокой. Респондентами ВЦИОМ в 2014 г. «заселение страны представителями иных национальностей» было названо главной угрозой. Однако в официальных документах (в миграционном разделе «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года», «Концепции государственной миграционной политики до 2025 г.») это отнюдь не угроза, а базовый сценарий. В своих концептуальных основах наша государственная миграционная политика по-прежнему исходит из моделизамещающей миграции, т.е. ставит задачей компенсировать естественную убыль населения (особенно трудоспособного) за счет внешнего миграционного притока, что в долгосрочной перспективе чревато сменой этнического состава населения страны, а также (учитывая социокультурные характеристики преобладающего миграционного притока) множественными социальными, этноконфессиональными и геополитическими рисками. Интерес не только русского, но и других коренных народов страны состоит в том, чтобы в корне преодолеть эту логику этнического замещения и допускать только ту иммиграцию, которая не идет во вред уровню социального развития и культурной целостности общества.
Положение разделенной нации
В своей «крымской речи» президент впервые признал положение русских как крупнейшей разделенной нации в Европе. Но как раньше, так и по сей день этот кардинальный факт не учитывается государством ни де-юре, ни де-факто. Отчасти виной тому – нарочито широкое определение «соотечественника» в российском законодательстве (в частности, к категории «соотечественников за рубежом», по закону, относятся «лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР»). Русские диаспоры за рубежом не являются в должной мере адресатом государственной поддержки со стороны РФ; русские не имеют должных преимуществ в приобретении российского гражданства (программа переселения соотечественников не оказалась полноценным решением – как в силу незначительного масштаба применения, так и в силу все того же расширенного определения «соотечественников»); не имеют никаких преференций в сфере трудовой и образовательной миграции (в этом отношении была бы крайне востребована так называемая «карта русского» – по аналогии с «картой поляка», «картой венгра» – дающая широкий набор прав в «материнском» государстве без обязательного переезда и смены гражданства). Иными словами, международный опыт «разделенных наций» (Германии, Израиля, Венгрии, Польши, Казахстана и других стран) пока не стал ориентиром для Российской Федерации.
После присоединения Крыма и войны на Донбассе восполнить этот пробел представляется особенно важным. С одной стороны – для того, чтобы реализовать возросшие ожидания русского населения прирубежных территорий (и, разумеется, самой России). С другой – для того, чтобы снять опасения международных партнеров по поводу того, что после долгого периода бездействия попранные национальные права будут восстанавливаться «внезапно» и в «максимальном» варианте (по крымскому сценарию). Наиболее адекватное средство от подобных опасений – предсказуемая настойчивость и последовательность в отстаивании культурно-языковых и иных прав русского населения.
Внутренняя дискриминация
Если не брать в расчет период антирусских этнических чисток в самопровозглашенной Ичкерии, ущемление национальных прав русских в РФ не носило столь масштабного характера, как в Прибалтике, отдельных государствах Средней Азии или на Украине после Евромайдана. Однако целый ряд симптомов дискриминации приняли устойчивый, фоновый характер. К числу таковых относится дискриминация представителей «нетитульных этносов» на государственной службе (в целом, в системе государственных институтов) в национальных республиках; подчас – в системе образования (этнолингвистический конфликт в Татарстане и Башкортостане, где родители лишены права выбирать стандарт образования, позволяющий изучать русский не только как государственный, но и как родной язык); в сфере гражданского общества (ограничения деятельности русских национальных организаций в отдельных регионах и необеспеченность их правового статуса)[4]. На это накладывается общая проблема правовой незащищенности обывателя, не принадлежащего к сплоченным «социальным корпорациям» (включая диаспоры и этнические кланы), которая проявляется в ситуации этнически окрашенных бытовых и социально-экономических конфликтов. В целом, реализация «русских интересов» в правовой сфере требует не «этнических привилегий», а упразднения таковых и более действенной политики равенства граждан перед законом.
Перечень подобных болевых точек «национального самочувствия» можно множить, и будем надеяться, что они еще станут предметом дискуссии и анализа при подготовке «Общественной концепции развития русского народа».
Но социально-демографические и социально-экономические интересы народа могут быть сформулированы лишь в контексте его идентичности, т.е. есть комплекса символов и представлений о себе, через которые он отграничивает себя от других народов и воспроизводит себя как целостность. Методологически, это базовый уровень существования народа, и если вызовы в этой сфере подчас сложнее адекватно диагностировать, то тем важнее попытаться начать именно с них.
Сочетание этих свойств – продуцирование «формирующих самоописаний» (которые собственно и могут быть названы идентичностью) и необходимость их передачи в поколениях – делает этническую реальность открытой для сознательного участия людей. И этот целенаправленный, «проектный» компонент в конструкции сообщества выражен тем сильнее, чем ближе оно к той современной («модерной») стадии развития, когда все большую роль в идентичности начинает играть «авторский контент» (сначала высокая культура как совокупность формирующих письменных текстов, а затем массовая культура) и «промышленные» технологии тиражирования информации (книгопечатание, СМИ, кинематограф и т.д.).
Иными словами, сами «законы жанра» современной эпохи требуют от народа сознательных усилий по самовоспроизводству. По удачному выражению недавно ушедшего из жизни британского историка Энтони Смита, нации – это не достигнутые раз и навсегда состояния, а «долгосрочные процессы, постоянно возобновляемые и реконструируемые».[2]
Если это так, то для русского народа после серии перенесенных в ХХ веке сокрушительных ударов явно пришло время такой реконструкции и самовозобновления. А учитывая масштаб народа (как количественный, так и качественный), этот процесс по определению должен быть одним из ключевых формирующих факторов для стратегии развития страны.
Возможно, кстати, именно поэтому русское самоопределение и самоутверждение (даже сугубо позитивное, не идущее в противовес другим) всякий раз оказывается на подозрении – оно слишком многое «потянет за собой» в смысле вектора развития государства и общества. Но что делать? Если для того, чтобы «слезть с печи», нам придется кого-то потревожить, это не повод всю оставшуюся жизнь лежать на боку.
В программных документах государственной национальной политики говорится о «сложном социокультурном самочувствии русского народа»[3], однако этот тезис не раскрывается ни в описательном плане, ни в плане целеполагания – остается неясным, каковы факторы этого сложного самочувствия и как с ними быть.
Особенно значимой в этой связи представляется инициатива Всемирного русского народного собора по разработке «Общественной концепции развития русского народа», которая «предусматривала бы решение насущных демографических, социальных, духовных проблем русских» и «способствовала бы преемственному развитию национальной идентичности». Понятно, что комплекс этих проблем невозможно разрешить и даже охватить отдельно взятым документом, независимо от его качества и статуса. Но важно формирование самой культуры обсуждения и продвижения интересов этнонациональной общности, которая, хотя и является в нашей стране крупнейшей и преобладающей, действительно сталкивается с целым рядом вызовов своей жизнеспособности.
«Сложности» самочувствия»
Многие из этих вызовов не являются «этноспецифичными» и относимы к стране в целом, однако в наибольшей мере затрагивают именно интересы русского народа – имея в виду не только отдельных его представителей, но сами условия его сохранения и воспроизводства как целостного образования. Перечислим некоторые из них.
Социально-демографическое неблагополучие
Несмотря на отмечаемый с начала 2000-х гг. существенный рост рождаемости, его текущий суммарный коэффициент – порядка 1,8 ребенка на одну женщину – по-прежнему не обеспечивает простое замещение поколений. При этом, как правило, зонами депопуляции остаются «русские регионы» ЦФО, СЗФО, ДВФО или «национальные республики» с незначительной долей «титульного населения». В Послании Федеральному Собранию в 2012 г. Президент признал целесообразной дифференциацию мер демографической поддержки по регионам. Некоторые шаги в этом направлении были сделаны (выплаты дополнительных пособий при рождении третьего и последующего детей в тех регионах страны, где демографическая ситуация хуже, чем в среднем по стране). Однако спектр мер демографической поддержки остается довольно узким, а их масштаб (за исключением «неселективного» материнского капитала) не столь значительным. Есть много незадействованных механизмов в сфере налоговой, социально-жилищной, социально-трудовой политики, которые могут серьезно воздействовать на демографическую ситуацию. Логично задействовать эти меры адресно по регионам. При этом не обязательно с акцентом на «худшие» по демографическим показателям (например, в ряде случаев демографическое неблагополучие обусловлено объективными климатическими и экономгеографическими показателями, и «закрепление» населения на таких территориях не всегда является самоцелью). А скорее – с акцентом на потенциальные «группы роста». То есть регионы, где, с одной стороны, не достигнуто естественное воспроизводство населения, с другой – есть потенциал для роста рождаемости.
Не менее, а возможно и более тревожными являются качественные характеристики населения. Общество охвачено социальными эпидемиями, нередко переходящими в медицинские. По данным Интерпола, объем российского рынка героина и синтетических наркотиков сопоставим с общеевропейским. Разумеется, это бедствие этнически не селективно, но от этого не менее эффективно в «выкашивании» демографического потенциала нашего народа.
Дисбалансы пространственного развития
Жизнеспособность русского народа немыслима баз жизнеспособности русской провинции. Наше развитие, в плане концентрации ресурсов и расстановки приоритетов, слишком сильно сдвинуто в сторону столицы (как уже не национального города, а одного из глобальных мегаполисов) и этнических периферий (со времен присоединения Финляндии, Польши и Закавказья Россия развивалась как «империя наоборот», предоставлявшая «колониям» налоговые, таможенные и иные преференции за счет «метрополии», в советское время ситуация усугубилась, в постсоветское – воспроизвелась в новых границах). Недопустимо ослабленным оказывается пространственное ядро российской цивилизации и русского этноса, каковым, следуя мысли Вадима Цымбурского, можно считать областные и районные центры европейской России и «второй Великороссии», как он называл Южную Сибирь. Наглядным выражением этого ослабления традиционно русских пространственных очагов стало кольцо депрессивных регионов вокруг московской и петербургской агломераций. Их опережающее развитие стало бы непосредственным социально-экономическим эквивалентом русского этнического возрождения.
Замещающая миграция
Степень озабоченности общества миграционной ситуацией варьирует по периодам и особенно по регионам, но в целом остается довольно высокой. Респондентами ВЦИОМ в 2014 г. «заселение страны представителями иных национальностей» было названо главной угрозой. Однако в официальных документах (в миграционном разделе «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года», «Концепции государственной миграционной политики до 2025 г.») это отнюдь не угроза, а базовый сценарий. В своих концептуальных основах наша государственная миграционная политика по-прежнему исходит из моделизамещающей миграции, т.е. ставит задачей компенсировать естественную убыль населения (особенно трудоспособного) за счет внешнего миграционного притока, что в долгосрочной перспективе чревато сменой этнического состава населения страны, а также (учитывая социокультурные характеристики преобладающего миграционного притока) множественными социальными, этноконфессиональными и геополитическими рисками. Интерес не только русского, но и других коренных народов страны состоит в том, чтобы в корне преодолеть эту логику этнического замещения и допускать только ту иммиграцию, которая не идет во вред уровню социального развития и культурной целостности общества.
Положение разделенной нации
В своей «крымской речи» президент впервые признал положение русских как крупнейшей разделенной нации в Европе. Но как раньше, так и по сей день этот кардинальный факт не учитывается государством ни де-юре, ни де-факто. Отчасти виной тому – нарочито широкое определение «соотечественника» в российском законодательстве (в частности, к категории «соотечественников за рубежом», по закону, относятся «лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР»). Русские диаспоры за рубежом не являются в должной мере адресатом государственной поддержки со стороны РФ; русские не имеют должных преимуществ в приобретении российского гражданства (программа переселения соотечественников не оказалась полноценным решением – как в силу незначительного масштаба применения, так и в силу все того же расширенного определения «соотечественников»); не имеют никаких преференций в сфере трудовой и образовательной миграции (в этом отношении была бы крайне востребована так называемая «карта русского» – по аналогии с «картой поляка», «картой венгра» – дающая широкий набор прав в «материнском» государстве без обязательного переезда и смены гражданства). Иными словами, международный опыт «разделенных наций» (Германии, Израиля, Венгрии, Польши, Казахстана и других стран) пока не стал ориентиром для Российской Федерации.
После присоединения Крыма и войны на Донбассе восполнить этот пробел представляется особенно важным. С одной стороны – для того, чтобы реализовать возросшие ожидания русского населения прирубежных территорий (и, разумеется, самой России). С другой – для того, чтобы снять опасения международных партнеров по поводу того, что после долгого периода бездействия попранные национальные права будут восстанавливаться «внезапно» и в «максимальном» варианте (по крымскому сценарию). Наиболее адекватное средство от подобных опасений – предсказуемая настойчивость и последовательность в отстаивании культурно-языковых и иных прав русского населения.
Внутренняя дискриминация
Если не брать в расчет период антирусских этнических чисток в самопровозглашенной Ичкерии, ущемление национальных прав русских в РФ не носило столь масштабного характера, как в Прибалтике, отдельных государствах Средней Азии или на Украине после Евромайдана. Однако целый ряд симптомов дискриминации приняли устойчивый, фоновый характер. К числу таковых относится дискриминация представителей «нетитульных этносов» на государственной службе (в целом, в системе государственных институтов) в национальных республиках; подчас – в системе образования (этнолингвистический конфликт в Татарстане и Башкортостане, где родители лишены права выбирать стандарт образования, позволяющий изучать русский не только как государственный, но и как родной язык); в сфере гражданского общества (ограничения деятельности русских национальных организаций в отдельных регионах и необеспеченность их правового статуса)[4]. На это накладывается общая проблема правовой незащищенности обывателя, не принадлежащего к сплоченным «социальным корпорациям» (включая диаспоры и этнические кланы), которая проявляется в ситуации этнически окрашенных бытовых и социально-экономических конфликтов. В целом, реализация «русских интересов» в правовой сфере требует не «этнических привилегий», а упразднения таковых и более действенной политики равенства граждан перед законом.
Перечень подобных болевых точек «национального самочувствия» можно множить, и будем надеяться, что они еще станут предметом дискуссии и анализа при подготовке «Общественной концепции развития русского народа».
Но социально-демографические и социально-экономические интересы народа могут быть сформулированы лишь в контексте его идентичности, т.е. есть комплекса символов и представлений о себе, через которые он отграничивает себя от других народов и воспроизводит себя как целостность. Методологически, это базовый уровень существования народа, и если вызовы в этой сфере подчас сложнее адекватно диагностировать, то тем важнее попытаться начать именно с них.
“
Идентичность должна реализовываться, «практиковаться» в этих сферах, чтобы органично воспроизводиться в поколениях.
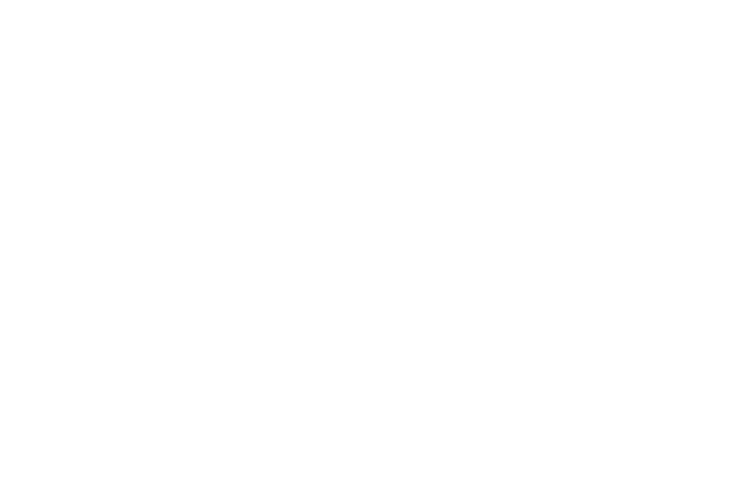
Бегство от себя
Передача идентичности из поколения в поколение может происходить через семью, через соседские и общинные связи. Но для воспроизводства идентичности большого народа этого недостаточно. Нужны еще – школа, СМИ, массовая культура, публичные институты. Идентичность должна реализовываться, «практиковаться» в этих сферах, чтобы органично воспроизводиться в поколениях. Благодаря официальному стандарту «этнически нейтрального» патриотизма и эффекту самоцензуры, о котором шла речь выше, русская идентичность из этих сфер практически полностью выключена. Школа отдана под производство «многонациональных» россиян (как некогда – «советских людей»).[5] В массовой культуре и массовой коммуникации присутствие «русскости» легитимно лишь в сниженных форматах – в качестве прилагательного к пьянству, лени, «извечному воровству и коррупции». Иногда – «фашизму». В лучшем случае – квасу или лубочному искусству.
Разумеется, это не может не сказываться на содержании идентичности и процессах национальной самоидентификации на личностном уровне. Они глубоко деформированы. Перечислим лишь некоторые наиболее очевидные эффекты такой деформации.
Эффект негативной идентичности – вызывающей неприятные ассоциации и переживания и, как следствие, стремление по возможности дистанцироваться от нее. Русская идентичность засорена большим количеством негативных самообразов, самоедских стереотипов. Можно было бы сказать, что большая часть из них далека от действительности, если бы с определенного момента они не начинали действовать по принципу самосбывающегося прогноза. Если долго повторять самим себе – «в этой стране всегда так было и так будет», «русские – вечно отстающий народ», «вечно страдающий и страдательный, женственный народ» – то мера истинности этих плоских сентенций будет неуклонно возрастать.
Эффект фрагментированной идентичности – воспринимаемой не как качественная, а как количественная характеристика, выражаемая в «процентах крови» того или иного происхождения. Биологизация этничности, выступающая, как об этом уже не раз говорилось, наследием советской национальной политики, торпедирует в первую очередь именно русскую идентичность, поскольку выступает альтернативой культурно-языковому критерию национальной принадлежности, который для русских наиболее благоприятен и органичен. Как в количественном (в силу очевидного преобладания русского языка и культуры в России), так и в качественном плане (в силу предпочтительности целостной, а не «долевой» самоидентификации»).
Эффект подавленной идентичности – воспринимаемой как социально неодобряемая, неконвенциональная в своих публичных проявлениях. Представители других народов России, как правило, воспринимают общероссийскую идентичность как надстройку над базовой, этнической идентичностью. Только в случае с русскими общегражданская идентичность подается и воспринимается как альтернатива этнонациональной, а собственная этнонациональная самоидентификация (о чем уже шла речь выше) воспринимается как «раскалывающая» общество. Почему так происходит? Возможно, в силу того, что общегражданскую «униформу» можно сшить только из русской культурно-исторической ткани. Значит, нужно либо признать русскую культуру «титульной» (что наше государство последовательно отвергает), либо денационализировать ее доступными средствами (что мы и наблюдаем с советских времен). Тем самым этническое самоопределение оказывается в вынужденной оппозиции к государственному. Кто-то реагирует на это конформистски, принимая замену «русского» на «российское» (ранее «советское»), кто-то, напротив, самоопределяется «в пику» официозу. В обоих случаях русская идентичность оказывается обречена на маргинализацию.
Эффект пассивной идентичности – существующей в отрыве от социальных практик. Чтобы быть жизнеспособной, идентичность – повторюсь – должна практиковаться, т.е. быть связанной с действием, хотя бы символическим и формальным. Даже в своей нормальной, не поврежденной форме русская идентичность оторвана от практик взаимной солидарности, от объединяющих ритуалов (праздничных и траурных, возвышенных и повседневных), каковые есть не только у «архаических», но у многих современных городских народов (японцев, немцев, татар, евреев, ирландцев, поляков...). Некоторое исключение составляют элементы православной церковной жизни, «прошивающие» повседневность, но их «нациеобразующее» действие ограничено относительно низким уровнем «воцерковленности» общества и частичной утратой прежней синергии русской и православной идентичности. В итоге, русская идентичность остается обездвиженной и омертвленной в социальном отношении.
В пределе эти и подобные им тенденции сулят распад русского этнического поля. Симптомы этого распада уже налицо. Было бы желание их увидеть.
На протяжении столетий многие русские люди бежали от государственного «тягла» во «фронтирное» пространство. При этом они несли туда русскую культуру, веру, цивилизацию, а на следующем шаге – и государственность. Сегодня все куда хуже. Русские бегут не от государства, а от себя.
Бегут в альтернативные этнополитические проекты. Самый наглядный пример – «украинство». Процитирую Олега Неменского, который, рассуждая об эволюции русской и украинской идентичности после Евромайдана, связывает «русскоязычное украинство» с «традицией русской русофобии, разве что развитой до форм «местной» националистической идеологии».[6] Это «украинство по выбору» (распространенное, как мы понимаем, не только на территории Украины) является не позитивной / аффирмативной национальной самоидентификацией, а превращенной формой русской самоненависти, предельной формой отказа от своего национального Я.
Бегут в альтернативные религиозные проекты. 1990-е гг. характеризовались настоящей эпидемией «новых религиозных движений», с начала 2000-х гг. в центре внимания оказался так называемый «русский ислам». Численно «русские мусульмане» по сей день существенно уступают неофитам НРД протестантского толка, зато имеют громкую славу. Их численность оценивается разными экспертами в диапазоне от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч человек. При этом, как отмечает религиовед Роман Силантьев, они «дали стране террористов больше, чем мусульмане-татары, которых почти 4 миллиона». Т.е. для многих новообращенных речь идет о выборе не просто ислама, а исламизма, утоляющего их «идентификационный голод», позволяющего одновременно выразить чувство протеста и превосходства по отношению к окружающей действительности.
Бегут в квазинациональные идентичности регионального толка. Субэтнические и региональные идентичности («сибиряки», «поморы», «казаки») начинают подаваться не как дополнение, а как альтернатива общерусской идентичности. Пока этот процесс локализован на уровне отдельных групп активистов, но проекты дерусификации западнорусского населения (малорусского и белорусского) также в свое время начинались в лабораторных условиях.[7] А когда сложились политические предпосылки – вышли на новый уровень. Стимулом к такому развитию событий вновь, хотя и в иной форме, чем в СССР, может стать этнотерриториальное устройство страны. Этнические регионы де-факто имеют несколько иной статус в отношениях с федеральным центром, чем обычные регионы. И обычные области и края видят привлекательность такого подхода – этнически окрасить себя или максимально подчеркнуть свою региональную специфику, чтобы во взаимоотношениях с федеральным центром отвоевать аналогичные права. В настоящее время федеральный центр силен, и эта тенденция не так заметна. Но при изменении баланса сил она может проявиться в полной мере.
Наконец, бегут в субкультуры. Это могут быть аполитичные или, напротив, идеологические субкультуры, романтические ретро-утопии или жесткие молодежные группировки. Парадоксальным образом, даже русский идентификационный запрос – на контрасте с пассивной и подавленной идентичностью большинства – реализуется в субкультурной форме («националисты», «фанаты»). В результате, активная и пассионарная часть народа, вместо того, чтобы задавать тон в идентификационных процессах, становиться их ядром, оказывается своего рода изолятом, отстойником, где стерилизуется избыточная энергия. К числу субкультур, реализующих в превращенной форме русский идентификационный запрос, можно отнести и так называемых «родноверов». Сегодня это уже не просто курьез, а довольно показательное явление, символический универсум, куда вовлечены знаковые фигуры молодежной культуры, бойцы элитных силовых подразделений, спортсмены-единоборцы. Для абсолютного большинства этот выбор – не плод религиозных поисков, а выражение потребности быть русскими в ситуации, когда окружающая среда не дает для этого привлекательных и приемлемых культурных моделей.
Передача идентичности из поколения в поколение может происходить через семью, через соседские и общинные связи. Но для воспроизводства идентичности большого народа этого недостаточно. Нужны еще – школа, СМИ, массовая культура, публичные институты. Идентичность должна реализовываться, «практиковаться» в этих сферах, чтобы органично воспроизводиться в поколениях. Благодаря официальному стандарту «этнически нейтрального» патриотизма и эффекту самоцензуры, о котором шла речь выше, русская идентичность из этих сфер практически полностью выключена. Школа отдана под производство «многонациональных» россиян (как некогда – «советских людей»).[5] В массовой культуре и массовой коммуникации присутствие «русскости» легитимно лишь в сниженных форматах – в качестве прилагательного к пьянству, лени, «извечному воровству и коррупции». Иногда – «фашизму». В лучшем случае – квасу или лубочному искусству.
Разумеется, это не может не сказываться на содержании идентичности и процессах национальной самоидентификации на личностном уровне. Они глубоко деформированы. Перечислим лишь некоторые наиболее очевидные эффекты такой деформации.
Эффект негативной идентичности – вызывающей неприятные ассоциации и переживания и, как следствие, стремление по возможности дистанцироваться от нее. Русская идентичность засорена большим количеством негативных самообразов, самоедских стереотипов. Можно было бы сказать, что большая часть из них далека от действительности, если бы с определенного момента они не начинали действовать по принципу самосбывающегося прогноза. Если долго повторять самим себе – «в этой стране всегда так было и так будет», «русские – вечно отстающий народ», «вечно страдающий и страдательный, женственный народ» – то мера истинности этих плоских сентенций будет неуклонно возрастать.
Эффект фрагментированной идентичности – воспринимаемой не как качественная, а как количественная характеристика, выражаемая в «процентах крови» того или иного происхождения. Биологизация этничности, выступающая, как об этом уже не раз говорилось, наследием советской национальной политики, торпедирует в первую очередь именно русскую идентичность, поскольку выступает альтернативой культурно-языковому критерию национальной принадлежности, который для русских наиболее благоприятен и органичен. Как в количественном (в силу очевидного преобладания русского языка и культуры в России), так и в качественном плане (в силу предпочтительности целостной, а не «долевой» самоидентификации»).
Эффект подавленной идентичности – воспринимаемой как социально неодобряемая, неконвенциональная в своих публичных проявлениях. Представители других народов России, как правило, воспринимают общероссийскую идентичность как надстройку над базовой, этнической идентичностью. Только в случае с русскими общегражданская идентичность подается и воспринимается как альтернатива этнонациональной, а собственная этнонациональная самоидентификация (о чем уже шла речь выше) воспринимается как «раскалывающая» общество. Почему так происходит? Возможно, в силу того, что общегражданскую «униформу» можно сшить только из русской культурно-исторической ткани. Значит, нужно либо признать русскую культуру «титульной» (что наше государство последовательно отвергает), либо денационализировать ее доступными средствами (что мы и наблюдаем с советских времен). Тем самым этническое самоопределение оказывается в вынужденной оппозиции к государственному. Кто-то реагирует на это конформистски, принимая замену «русского» на «российское» (ранее «советское»), кто-то, напротив, самоопределяется «в пику» официозу. В обоих случаях русская идентичность оказывается обречена на маргинализацию.
Эффект пассивной идентичности – существующей в отрыве от социальных практик. Чтобы быть жизнеспособной, идентичность – повторюсь – должна практиковаться, т.е. быть связанной с действием, хотя бы символическим и формальным. Даже в своей нормальной, не поврежденной форме русская идентичность оторвана от практик взаимной солидарности, от объединяющих ритуалов (праздничных и траурных, возвышенных и повседневных), каковые есть не только у «архаических», но у многих современных городских народов (японцев, немцев, татар, евреев, ирландцев, поляков...). Некоторое исключение составляют элементы православной церковной жизни, «прошивающие» повседневность, но их «нациеобразующее» действие ограничено относительно низким уровнем «воцерковленности» общества и частичной утратой прежней синергии русской и православной идентичности. В итоге, русская идентичность остается обездвиженной и омертвленной в социальном отношении.
В пределе эти и подобные им тенденции сулят распад русского этнического поля. Симптомы этого распада уже налицо. Было бы желание их увидеть.
На протяжении столетий многие русские люди бежали от государственного «тягла» во «фронтирное» пространство. При этом они несли туда русскую культуру, веру, цивилизацию, а на следующем шаге – и государственность. Сегодня все куда хуже. Русские бегут не от государства, а от себя.
Бегут в альтернативные этнополитические проекты. Самый наглядный пример – «украинство». Процитирую Олега Неменского, который, рассуждая об эволюции русской и украинской идентичности после Евромайдана, связывает «русскоязычное украинство» с «традицией русской русофобии, разве что развитой до форм «местной» националистической идеологии».[6] Это «украинство по выбору» (распространенное, как мы понимаем, не только на территории Украины) является не позитивной / аффирмативной национальной самоидентификацией, а превращенной формой русской самоненависти, предельной формой отказа от своего национального Я.
Бегут в альтернативные религиозные проекты. 1990-е гг. характеризовались настоящей эпидемией «новых религиозных движений», с начала 2000-х гг. в центре внимания оказался так называемый «русский ислам». Численно «русские мусульмане» по сей день существенно уступают неофитам НРД протестантского толка, зато имеют громкую славу. Их численность оценивается разными экспертами в диапазоне от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч человек. При этом, как отмечает религиовед Роман Силантьев, они «дали стране террористов больше, чем мусульмане-татары, которых почти 4 миллиона». Т.е. для многих новообращенных речь идет о выборе не просто ислама, а исламизма, утоляющего их «идентификационный голод», позволяющего одновременно выразить чувство протеста и превосходства по отношению к окружающей действительности.
Бегут в квазинациональные идентичности регионального толка. Субэтнические и региональные идентичности («сибиряки», «поморы», «казаки») начинают подаваться не как дополнение, а как альтернатива общерусской идентичности. Пока этот процесс локализован на уровне отдельных групп активистов, но проекты дерусификации западнорусского населения (малорусского и белорусского) также в свое время начинались в лабораторных условиях.[7] А когда сложились политические предпосылки – вышли на новый уровень. Стимулом к такому развитию событий вновь, хотя и в иной форме, чем в СССР, может стать этнотерриториальное устройство страны. Этнические регионы де-факто имеют несколько иной статус в отношениях с федеральным центром, чем обычные регионы. И обычные области и края видят привлекательность такого подхода – этнически окрасить себя или максимально подчеркнуть свою региональную специфику, чтобы во взаимоотношениях с федеральным центром отвоевать аналогичные права. В настоящее время федеральный центр силен, и эта тенденция не так заметна. Но при изменении баланса сил она может проявиться в полной мере.
Наконец, бегут в субкультуры. Это могут быть аполитичные или, напротив, идеологические субкультуры, романтические ретро-утопии или жесткие молодежные группировки. Парадоксальным образом, даже русский идентификационный запрос – на контрасте с пассивной и подавленной идентичностью большинства – реализуется в субкультурной форме («националисты», «фанаты»). В результате, активная и пассионарная часть народа, вместо того, чтобы задавать тон в идентификационных процессах, становиться их ядром, оказывается своего рода изолятом, отстойником, где стерилизуется избыточная энергия. К числу субкультур, реализующих в превращенной форме русский идентификационный запрос, можно отнести и так называемых «родноверов». Сегодня это уже не просто курьез, а довольно показательное явление, символический универсум, куда вовлечены знаковые фигуры молодежной культуры, бойцы элитных силовых подразделений, спортсмены-единоборцы. Для абсолютного большинства этот выбор – не плод религиозных поисков, а выражение потребности быть русскими в ситуации, когда окружающая среда не дает для этого привлекательных и приемлемых культурных моделей.
Проект «национальное воспитание»
Такого рода примеры бегства от русской идентичности или ее реализации в искаженной и превращенной форме можно множить. Все это и есть симптомы того «сложного социокультурного самочувствия» русского народа, которое констатируется в официальных программах. Но это, увы, не «лечится» ни «укреплением единства российской нации», ни дальнейшим «развитием этнокультурного многообразия». Это лечится – русским национальным воспитанием.
Пожалуй, всесторонняя программа такого воспитания представляется наиболее актуальной задачей для русского гражданского общества на текущем этапе.
В свое время именно такую задачу поставил на первый план Иоганн Готлиб Фихте в своих «Речах к немецкой нации» на фоне отрезвляющего и во многом унизительного для немцев опыта наполеоновских войн. И судя по всему, нация его услышала. Или скорее, учитывая, что мышление – это социальный процесс, «подумала» о том же самом. Система национального воспитания, целенаправленно и планомерно созданная в германских землях, дала свои плоды. В частности, благодаря ей немцы глубоко реформировали свое самовосприятие и свою репутацию (в начале XIX века, на уровне стереотипов, это «парящие над миром» романтики, в конце века – «владеющие миром» инженеры).
В качестве «возобновляемых и реконструируемых процессов» нации действительно могут меняться и менять себя.
Перечислим, в первом приближении, некоторые из форм и элементов политики идентичности, которые могли бы быть полезны в нашем случае.
Реформа категорий национальной самоидентификации
Сегодня концепция идентичности, принятая на государственном уровне и преобладающая в общественном сознании, – об этом уже шла речь – балансирует между двумя крайностями: абсолютно произвольное самоопределение (без каких-либо определенных критериев), с одной стороны, и «кровь», происхождение – с другой (льготы по принадлежности к коренным малочисленным народам выдаются именно на основании этого критерия). Эти две крайности, во-первых, противоречат друг другу, применяясь государством фактически одновременно. Во-вторых, неудачны каждая в отдельности, поскольку искусственно фрагментируют даже однородное в культурно-языковом отношении общество. Альтернативой им обеим является представление о том, что базовым формальным критерием этнической принадлежности (над которым надстраивается этническое самосознание) является родной язык. При этом последний должен пониматься не как язык, который «предписан» человеку по происхождению и которым он может даже не владеть, а как «первый» язык, усваиваемый непосредственно в детстве, формирующий для человека естественную среду мышления и речи. Именно так истолковали понятие родного языка 6,2% участников переписи населения 2010 г., которые назвали родным язык, не соответствующий национальности. Естественно, в абсолютном большинстве речь идет о людях, называющих русский в качестве родного языка, но не идентифицирующих себя как русские. Именно они образуют довольно существенный потенциал для естественной ассимиляции.
Но ассимиляция в данном случае – далеко не главное. Главное – снятие барьера, по сути, блокировки на реализацию русской идентичности, связанного с ее стереотипной биологизацией (когда сама постановка вопроса об этой идентичности и сопутствующих ей интересах воспринимается как вторжение в «святая святых» генетики каждого отдельного человека, где все «очень интимно и очень запутано»). Эта блокировка – проявление тяжелой болезненности идентитарных процессов. Ее преодоление потребует времени, и здесь неуместна излишняя категоричность. Не нужно и бессмысленно отрицать происхождение как фактор этнической самоидентификации – оно таковым является. Но нужно (всеми доступными средствами просвещения) настойчиво вводить в качестве достаточного фактора такой самоидентификации – родной язык и культуру. Не единственного и даже не необходимого (учитывая, например, случай русских, выросших в эмиграции в иноязычной среде, но сохранивших идентичность), но именно достаточного.
Точно так же, не стоит исключать возможности двойнойэтнической самоидентификации – по происхождению и по культурно-языковой принадлежности. Это вряд ли может быть массовой нормой, но вполне может быть нормой для промежуточных и переходных идентификационных процессов.
Обновление «политики памяти»
И происхождение, и язык – это «объективный» слой идентичности над которым надстраивается самосознание. «Минимальный» вариант принадлежности к этнонациональному сообществу – отсутствие отторжения такой принадлежности при наличии ее объективных признаков (происхождение и/или язык). «Стандартный» вариант – осознание и принятие такой принадлежности. «Максимальный» вариант – сознательное утверждение вытекающих из нее обязательств. На этой шкале задается, скажем так, мера «интенсивности» сообщества, и она будет тем выше, чем более притягательным является тот комплекс символов и смыслов, с которым ассоциируется его самоназвание. Важнейшую роль в этом «шлейфе» играет историческая память.
Сегодня наша историческая память остается разорванной между историческими эпохами, каждая из которых утверждалась в противовес предыдущей; отравленной негативными стереотипами самовосприятия, часто беспочвенными и наносными. Проблемы и возможные решения в этой сфере требуют отдельного и обстоятельного анализа. Здесь отмечу лишь два пусть частных, но по-своему показательных пробела в сфере политики памяти.
Первый связан с не разобранными завалами советского прошлого. Мы продолжаем жить в русских городах на улицах, названных в честь немецких левых публицистов, не имеющих к истории этих городов никакого отношения; в честь «бомбистов» и революционеров, сыгравших в этой истории, по меньшей мере, неоднозначную роль; в честь членов семьи вождя, о которых поколения, не читавшие воспитательных историй «из жизни Ильича», ничего не знают и, по большому счету, уже не обязаны знать. Мне, по сути, нечего ответить детям на вопрос о том, зачем на центральной площади почти всех наших городов стоит памятник Ленину, кроме ссылки на сложившиеся исторические обстоятельства. Но национальная память – это не «сложившиеся обстоятельства», а пространство живого осмысления своей судьбы. То есть – ее наделения смыслом. Та же топонимика – это акценты, которые мы расставляем в своем прошлом и будущем. В советское время эти «метки» были расставлены очень последовательно и повсеместно, в рамках идеологии, которая, просто по факту, больше не является для нашего общества руководящей, направляющей и единственно верной. Марксизм остается одним из великих идеологических учений. Но та концентрация марксистких «брендов», которая наблюдается в окружающем нас пространстве, уже не соответствует ничему в нашем актуальном историческом опыте. Наш жизненный мир загроможден артефактами, выпавшими из того контекста, в котором они имели смысл. Принимать их просто как данность – это не проявление уважения к своему прошлому, а проявление пугающего безразличия к нему.
В отечественной истории много фигур, выдающихся, но полузабытых или даже толком не открытых, которые могли бы пополнить обезлюженный пантеон героев, на уровне как национального, так и земельного патриотизма. «Кастинг» таких фигур в ходе процесса обновления топонимики и историко-мемориального облика городов мог бы сам по себе стать хорошей формой актуализации национальной памяти в массовом сознании и дать ему более объемную панораму собственного прошлого.
Советская эпоха должна занять в этой панораме причитающееся ей выдающееся место, но именно в качестве одной из исторических форм, в которых выразил себя дух нашего народа, а не в качестве базового кода, организующего принципа, который мы больше не исповедуем, но продолжаем принимать по привычке.
Безусловно, проблема касается не только топонимики, но и других культурных шаблонов. Она касается самого человеческого типа. «Советский человек» был значим и интересен своей самоотверженной одержимостью проектом. «Советский человек» в постсоветском издании одержим чем-то прямо противоположным, а именно – инерцией самовосприятия. Соглашаться, во имя привычки, жить среди артефактов, объективно утративших смысл – это, в самом деле, нечто прямо противоположное проектному подходу к себе и к истории. Это апофеоз утраты субъектности. Поэтому из уважения к великим людям прошедшей эпохи нам пора уже, наконец, перестать быть «советскими людьми». А если мы хотим подчеркнуть свою преемственность по отношению к ним, нет ничего лучше, чем назвать и их, и себя – русскими. Условно, я вижу здесь две логические операции – сначала высвободить русское из-под спуда советского (освободить пространство для ранее подавленной / вытесненной идентичности). Затем – частично реабилитировать советскоекак форму русского.
И повторюсь, то, что до сих пор нам не удалось органично провести эти операции – это не вопрос идеологического выбора или отношения к советскому прошлому. Это именно не выполненная работа по наведению порядка в собственной голове.
Другой пример «не сделанной домашней работы» в сфере политики памяти касается самой схемы отечественной историографии. Заложивший ее каноны Николай Карамзин написал историю российского государства. Но так и не написанной, по большому счету, осталась история русского народа. Безусловно, традиционная российская историография, при всей своей государствоцентричности, является также и этноцентричной. Она, например, не описывала историю Улуса Джучи и Монгольской империи в целом в качестве собственнойгосударственной истории (такие предложения появились позже).
Но ее этноцентричность в основном была и остается стихийнойи в этом смысле не соответствует ни современному состоянию научной методологии (основные исследования природы этничности, наций и национализма приходятся на XX в. и отчасти конец XIX в.), ни постоянным вызовам в сфере политики памяти, тестирующим на прочность любую историографическую схему. Например, сегодня заметна тенденция к тому, чтобы переосмыслить историю страны как историю пространства, территории. В процессе этого переосмысления, с одной стороны, все больше теряется связь с корневой для нас концепцией «Русской земли» (существенная часть которой оказалась к западу от российских границ), с другой – выступают на первый план пласты дорусской истории колонизованных земель (Урала, Сибири, Северо-Запада, Дальнего Востока), в которой «московская» колонизация выглядит как преходящий исторический эпизод. Вероятно, она таковым и окажется, если не удастся преодолеть центробежных тенденций на уровне исторического самосознания общества. В этом отношении методологически выверенная и сфокусированная на своем предмете история русского народапредставляется жизненно важной проектной задачей.
Разумеется, она должна выступать при этом не в качестве замены, а в качестве дополнения и смысловой подосновы традиционной российской историографии и общегосударственной политики памяти.
Взаимодополняемость русского и общероссийского пластов исторического самосознания может быть обеспечена как на уровне содержания, так и на уровне социальных практик, в которых кристаллизуются соответствующие слои идентичности. Удачным и впечатляющим опытом в этом отношении стала акция «Бессмертный полк» как торжественный ритуал живого единства поколений, органично сочетающий семейно-родовую, этнонациональную и государственно-политическую линии преемственности.
На повседневном уровне не менее важной и системообразующей для национального самосознания практикой может стать внутренний историко-патриотический туризм. Проекция русского историографического стандарта на географическую карту дает некоторое количество «мест силы», которые, представляя разные эпохи и стороны национальной истории, могут образовать национальный «туристический минимум» в рамках школьной программы национального воспитания. В этом отношении полезен и показателен американский опыт, где школьный «патриотический» туризм – одна из ключевых национально-формирующих практик. Разумеется, для того, чтобы такого рода практика приобрела всеобщий характер в нашей стране, необходимы социальные и благотворительные программы, ориентированные на ее поддержку.
Национальное содержание школьных дисциплин
Когда речь идет о форме и содержании национального воспитания, в центре внимания волей-неволей оказывается школа. Критики российских образовательных реформ не раз справедливо отмечали, что сама их концепция оперирует «сервисными» категориями «конкурентоспособности человеческого капитала», но не категориями формирования нации, а основной заботой государства давно стал контроль форм и результатов образовательного процесса, но не его содержание. Неудивительно, что базовые с точки зрения национального воспитания школьные предметы – отечественная история и русская литература – оказываются в довольно плачевном состоянии. Они выпадают из системы приоритетов учебного процесса, их освоение выхолащивается из-за тестовой системы, их идеологическое наполнение задается эклектичным сочетанием унаследованного советского шаблона и не всегда удачных постсоветских экспериментов.
Создание качественной методической базы преподавания этих «мировоззренческих» предметов в школе представляется одной из наиболее насущных задач русского национального воспитания. И это явно тот случай, когда оно, опять же, должно идти рука об руку с процессом общегражданской социализации.
Некоторые из этих проблем обсуждались на заседании недавно воссозданного под председательством Патриарха Кирилла Общества русской словесности. В частности, в выступлении Патриарха была отмечена необходимость баланса между стандартизацией и вариативностью в учебных программах. Действительно, в ситуации, когда у нас нет безусловного канона преподавания соответствующих дисциплин, сама вариативность образовательных процессов важна как шанс на его формирование и совершенствование.
Сегодня мы можем констатировать относительное многообразие образовательных программ и моделей, с одной стороны, и относительно низкое (причем зачастую – заслуженно низкое) доверие к ним со стороны родительского сообщества – с другой. В этой ситуации может оказаться важной и востребованной роль авторитетных негосударственных площадок, подобных тому же Обществу русской словесности или ВРНС, которые могли бы осуществлять общественную «сертификацию» формирующих национальное самосознание предметов, давать им своего рода «знак качества» с точки зрения их мировоззренческого содержания.
Национальное измерение в массовой культуре и потребительской сфере
«Советскими людьми» наши соотечественники остаются в той мере, в какой основой социализации даже постсоветских поколений остаются элементы советской массовой культуры. Это происходит «не от хорошей жизни», а просто по факту того, что постсоветская и глобальная массовая культура малопригодны для социализации человека и, тем более, для формирования его национальных свойств.
Еще в начале 1980-х гг. Ю.В. Бромлей отмечал «этнический парадокс» современной эпохи, а именно – «тенденцию к усилению этнического самосознания» при одновременном «ослаблении этнических свойств такого главного объективного его носителя, как культура».[8] Со времен самого Бромлея этот парадокс, наверное, только усилился: мы видим, что глобализация культурной среды не стала препятствием для определенной реэтнизации самосознания, которую мы наблюдаем по сравнению с той же советской эпохой. Однако в случае с русскими эта реэтнизация, если и происходила, то в основном в ответ на процессы этнической мобилизации тех народов, которые в куда большей мере, чем мы, сохранили механизмы воспроизводства своей этничности на «низовом» уровне (менее зависимом от «массовых коммуникаций»). Т.е. она носит преимущественно реактивный, как следствие – не всегда органичный характер. И может оказаться непрочной.
Русская идентичность очень слабо укоренена как в сфере современной массовой культуры, так и в сфере бытовой культуры. Отмеченная глобализация культурной среды отнюдь не может служить этому факту достаточным объяснением или извинением. В конце концов, она не мешает французам культивировать свои кулинарные традиции, баварцам – носить в торжественных случаях национальный костюм или праздновать «октоберфест», американцам слушать музыку «кантри», а постсоветским казахам восстанавливать (естественно, в стилизованном виде) традиционный свадебный обряд. К сожалению, у нас практически нет такого рода «якорных» этнических практик в культуре, но это не значит, что они не могут быть созданы. Евреям в Израиле удалось, ни много ни мало, оживить мертвый язык. Нет никаких причин, по которым мы не могли бы актуализировать русскую идентичность на уровне бытовой культуры и массового искусства. Более того, в этой сфере ощутим довольно сильный общественный запрос. Создание соответствующей инфраструктуры идентичности может происходить в логике «социально значимых бизнес-проектов» (в сфере уже упомянутого внутреннего туризма, национальной кухни, национально ориентированной моды и музыки, кинематографа и анимации, других креативных индустрий). Для этого не требуется каких-то судьбоносных решений в сфере большой политики. Достаточно финансовых ресурсов, навыков проектного менеджмента и хорошего вкуса. Сочетание довольно редкое, но отнюдь не невозможное.
Такого рода примеры бегства от русской идентичности или ее реализации в искаженной и превращенной форме можно множить. Все это и есть симптомы того «сложного социокультурного самочувствия» русского народа, которое констатируется в официальных программах. Но это, увы, не «лечится» ни «укреплением единства российской нации», ни дальнейшим «развитием этнокультурного многообразия». Это лечится – русским национальным воспитанием.
Пожалуй, всесторонняя программа такого воспитания представляется наиболее актуальной задачей для русского гражданского общества на текущем этапе.
В свое время именно такую задачу поставил на первый план Иоганн Готлиб Фихте в своих «Речах к немецкой нации» на фоне отрезвляющего и во многом унизительного для немцев опыта наполеоновских войн. И судя по всему, нация его услышала. Или скорее, учитывая, что мышление – это социальный процесс, «подумала» о том же самом. Система национального воспитания, целенаправленно и планомерно созданная в германских землях, дала свои плоды. В частности, благодаря ей немцы глубоко реформировали свое самовосприятие и свою репутацию (в начале XIX века, на уровне стереотипов, это «парящие над миром» романтики, в конце века – «владеющие миром» инженеры).
В качестве «возобновляемых и реконструируемых процессов» нации действительно могут меняться и менять себя.
Перечислим, в первом приближении, некоторые из форм и элементов политики идентичности, которые могли бы быть полезны в нашем случае.
Реформа категорий национальной самоидентификации
Сегодня концепция идентичности, принятая на государственном уровне и преобладающая в общественном сознании, – об этом уже шла речь – балансирует между двумя крайностями: абсолютно произвольное самоопределение (без каких-либо определенных критериев), с одной стороны, и «кровь», происхождение – с другой (льготы по принадлежности к коренным малочисленным народам выдаются именно на основании этого критерия). Эти две крайности, во-первых, противоречат друг другу, применяясь государством фактически одновременно. Во-вторых, неудачны каждая в отдельности, поскольку искусственно фрагментируют даже однородное в культурно-языковом отношении общество. Альтернативой им обеим является представление о том, что базовым формальным критерием этнической принадлежности (над которым надстраивается этническое самосознание) является родной язык. При этом последний должен пониматься не как язык, который «предписан» человеку по происхождению и которым он может даже не владеть, а как «первый» язык, усваиваемый непосредственно в детстве, формирующий для человека естественную среду мышления и речи. Именно так истолковали понятие родного языка 6,2% участников переписи населения 2010 г., которые назвали родным язык, не соответствующий национальности. Естественно, в абсолютном большинстве речь идет о людях, называющих русский в качестве родного языка, но не идентифицирующих себя как русские. Именно они образуют довольно существенный потенциал для естественной ассимиляции.
Но ассимиляция в данном случае – далеко не главное. Главное – снятие барьера, по сути, блокировки на реализацию русской идентичности, связанного с ее стереотипной биологизацией (когда сама постановка вопроса об этой идентичности и сопутствующих ей интересах воспринимается как вторжение в «святая святых» генетики каждого отдельного человека, где все «очень интимно и очень запутано»). Эта блокировка – проявление тяжелой болезненности идентитарных процессов. Ее преодоление потребует времени, и здесь неуместна излишняя категоричность. Не нужно и бессмысленно отрицать происхождение как фактор этнической самоидентификации – оно таковым является. Но нужно (всеми доступными средствами просвещения) настойчиво вводить в качестве достаточного фактора такой самоидентификации – родной язык и культуру. Не единственного и даже не необходимого (учитывая, например, случай русских, выросших в эмиграции в иноязычной среде, но сохранивших идентичность), но именно достаточного.
Точно так же, не стоит исключать возможности двойнойэтнической самоидентификации – по происхождению и по культурно-языковой принадлежности. Это вряд ли может быть массовой нормой, но вполне может быть нормой для промежуточных и переходных идентификационных процессов.
Обновление «политики памяти»
И происхождение, и язык – это «объективный» слой идентичности над которым надстраивается самосознание. «Минимальный» вариант принадлежности к этнонациональному сообществу – отсутствие отторжения такой принадлежности при наличии ее объективных признаков (происхождение и/или язык). «Стандартный» вариант – осознание и принятие такой принадлежности. «Максимальный» вариант – сознательное утверждение вытекающих из нее обязательств. На этой шкале задается, скажем так, мера «интенсивности» сообщества, и она будет тем выше, чем более притягательным является тот комплекс символов и смыслов, с которым ассоциируется его самоназвание. Важнейшую роль в этом «шлейфе» играет историческая память.
Сегодня наша историческая память остается разорванной между историческими эпохами, каждая из которых утверждалась в противовес предыдущей; отравленной негативными стереотипами самовосприятия, часто беспочвенными и наносными. Проблемы и возможные решения в этой сфере требуют отдельного и обстоятельного анализа. Здесь отмечу лишь два пусть частных, но по-своему показательных пробела в сфере политики памяти.
Первый связан с не разобранными завалами советского прошлого. Мы продолжаем жить в русских городах на улицах, названных в честь немецких левых публицистов, не имеющих к истории этих городов никакого отношения; в честь «бомбистов» и революционеров, сыгравших в этой истории, по меньшей мере, неоднозначную роль; в честь членов семьи вождя, о которых поколения, не читавшие воспитательных историй «из жизни Ильича», ничего не знают и, по большому счету, уже не обязаны знать. Мне, по сути, нечего ответить детям на вопрос о том, зачем на центральной площади почти всех наших городов стоит памятник Ленину, кроме ссылки на сложившиеся исторические обстоятельства. Но национальная память – это не «сложившиеся обстоятельства», а пространство живого осмысления своей судьбы. То есть – ее наделения смыслом. Та же топонимика – это акценты, которые мы расставляем в своем прошлом и будущем. В советское время эти «метки» были расставлены очень последовательно и повсеместно, в рамках идеологии, которая, просто по факту, больше не является для нашего общества руководящей, направляющей и единственно верной. Марксизм остается одним из великих идеологических учений. Но та концентрация марксистких «брендов», которая наблюдается в окружающем нас пространстве, уже не соответствует ничему в нашем актуальном историческом опыте. Наш жизненный мир загроможден артефактами, выпавшими из того контекста, в котором они имели смысл. Принимать их просто как данность – это не проявление уважения к своему прошлому, а проявление пугающего безразличия к нему.
В отечественной истории много фигур, выдающихся, но полузабытых или даже толком не открытых, которые могли бы пополнить обезлюженный пантеон героев, на уровне как национального, так и земельного патриотизма. «Кастинг» таких фигур в ходе процесса обновления топонимики и историко-мемориального облика городов мог бы сам по себе стать хорошей формой актуализации национальной памяти в массовом сознании и дать ему более объемную панораму собственного прошлого.
Советская эпоха должна занять в этой панораме причитающееся ей выдающееся место, но именно в качестве одной из исторических форм, в которых выразил себя дух нашего народа, а не в качестве базового кода, организующего принципа, который мы больше не исповедуем, но продолжаем принимать по привычке.
Безусловно, проблема касается не только топонимики, но и других культурных шаблонов. Она касается самого человеческого типа. «Советский человек» был значим и интересен своей самоотверженной одержимостью проектом. «Советский человек» в постсоветском издании одержим чем-то прямо противоположным, а именно – инерцией самовосприятия. Соглашаться, во имя привычки, жить среди артефактов, объективно утративших смысл – это, в самом деле, нечто прямо противоположное проектному подходу к себе и к истории. Это апофеоз утраты субъектности. Поэтому из уважения к великим людям прошедшей эпохи нам пора уже, наконец, перестать быть «советскими людьми». А если мы хотим подчеркнуть свою преемственность по отношению к ним, нет ничего лучше, чем назвать и их, и себя – русскими. Условно, я вижу здесь две логические операции – сначала высвободить русское из-под спуда советского (освободить пространство для ранее подавленной / вытесненной идентичности). Затем – частично реабилитировать советскоекак форму русского.
И повторюсь, то, что до сих пор нам не удалось органично провести эти операции – это не вопрос идеологического выбора или отношения к советскому прошлому. Это именно не выполненная работа по наведению порядка в собственной голове.
Другой пример «не сделанной домашней работы» в сфере политики памяти касается самой схемы отечественной историографии. Заложивший ее каноны Николай Карамзин написал историю российского государства. Но так и не написанной, по большому счету, осталась история русского народа. Безусловно, традиционная российская историография, при всей своей государствоцентричности, является также и этноцентричной. Она, например, не описывала историю Улуса Джучи и Монгольской империи в целом в качестве собственнойгосударственной истории (такие предложения появились позже).
Но ее этноцентричность в основном была и остается стихийнойи в этом смысле не соответствует ни современному состоянию научной методологии (основные исследования природы этничности, наций и национализма приходятся на XX в. и отчасти конец XIX в.), ни постоянным вызовам в сфере политики памяти, тестирующим на прочность любую историографическую схему. Например, сегодня заметна тенденция к тому, чтобы переосмыслить историю страны как историю пространства, территории. В процессе этого переосмысления, с одной стороны, все больше теряется связь с корневой для нас концепцией «Русской земли» (существенная часть которой оказалась к западу от российских границ), с другой – выступают на первый план пласты дорусской истории колонизованных земель (Урала, Сибири, Северо-Запада, Дальнего Востока), в которой «московская» колонизация выглядит как преходящий исторический эпизод. Вероятно, она таковым и окажется, если не удастся преодолеть центробежных тенденций на уровне исторического самосознания общества. В этом отношении методологически выверенная и сфокусированная на своем предмете история русского народапредставляется жизненно важной проектной задачей.
Разумеется, она должна выступать при этом не в качестве замены, а в качестве дополнения и смысловой подосновы традиционной российской историографии и общегосударственной политики памяти.
Взаимодополняемость русского и общероссийского пластов исторического самосознания может быть обеспечена как на уровне содержания, так и на уровне социальных практик, в которых кристаллизуются соответствующие слои идентичности. Удачным и впечатляющим опытом в этом отношении стала акция «Бессмертный полк» как торжественный ритуал живого единства поколений, органично сочетающий семейно-родовую, этнонациональную и государственно-политическую линии преемственности.
На повседневном уровне не менее важной и системообразующей для национального самосознания практикой может стать внутренний историко-патриотический туризм. Проекция русского историографического стандарта на географическую карту дает некоторое количество «мест силы», которые, представляя разные эпохи и стороны национальной истории, могут образовать национальный «туристический минимум» в рамках школьной программы национального воспитания. В этом отношении полезен и показателен американский опыт, где школьный «патриотический» туризм – одна из ключевых национально-формирующих практик. Разумеется, для того, чтобы такого рода практика приобрела всеобщий характер в нашей стране, необходимы социальные и благотворительные программы, ориентированные на ее поддержку.
Национальное содержание школьных дисциплин
Когда речь идет о форме и содержании национального воспитания, в центре внимания волей-неволей оказывается школа. Критики российских образовательных реформ не раз справедливо отмечали, что сама их концепция оперирует «сервисными» категориями «конкурентоспособности человеческого капитала», но не категориями формирования нации, а основной заботой государства давно стал контроль форм и результатов образовательного процесса, но не его содержание. Неудивительно, что базовые с точки зрения национального воспитания школьные предметы – отечественная история и русская литература – оказываются в довольно плачевном состоянии. Они выпадают из системы приоритетов учебного процесса, их освоение выхолащивается из-за тестовой системы, их идеологическое наполнение задается эклектичным сочетанием унаследованного советского шаблона и не всегда удачных постсоветских экспериментов.
Создание качественной методической базы преподавания этих «мировоззренческих» предметов в школе представляется одной из наиболее насущных задач русского национального воспитания. И это явно тот случай, когда оно, опять же, должно идти рука об руку с процессом общегражданской социализации.
Некоторые из этих проблем обсуждались на заседании недавно воссозданного под председательством Патриарха Кирилла Общества русской словесности. В частности, в выступлении Патриарха была отмечена необходимость баланса между стандартизацией и вариативностью в учебных программах. Действительно, в ситуации, когда у нас нет безусловного канона преподавания соответствующих дисциплин, сама вариативность образовательных процессов важна как шанс на его формирование и совершенствование.
Сегодня мы можем констатировать относительное многообразие образовательных программ и моделей, с одной стороны, и относительно низкое (причем зачастую – заслуженно низкое) доверие к ним со стороны родительского сообщества – с другой. В этой ситуации может оказаться важной и востребованной роль авторитетных негосударственных площадок, подобных тому же Обществу русской словесности или ВРНС, которые могли бы осуществлять общественную «сертификацию» формирующих национальное самосознание предметов, давать им своего рода «знак качества» с точки зрения их мировоззренческого содержания.
Национальное измерение в массовой культуре и потребительской сфере
«Советскими людьми» наши соотечественники остаются в той мере, в какой основой социализации даже постсоветских поколений остаются элементы советской массовой культуры. Это происходит «не от хорошей жизни», а просто по факту того, что постсоветская и глобальная массовая культура малопригодны для социализации человека и, тем более, для формирования его национальных свойств.
Еще в начале 1980-х гг. Ю.В. Бромлей отмечал «этнический парадокс» современной эпохи, а именно – «тенденцию к усилению этнического самосознания» при одновременном «ослаблении этнических свойств такого главного объективного его носителя, как культура».[8] Со времен самого Бромлея этот парадокс, наверное, только усилился: мы видим, что глобализация культурной среды не стала препятствием для определенной реэтнизации самосознания, которую мы наблюдаем по сравнению с той же советской эпохой. Однако в случае с русскими эта реэтнизация, если и происходила, то в основном в ответ на процессы этнической мобилизации тех народов, которые в куда большей мере, чем мы, сохранили механизмы воспроизводства своей этничности на «низовом» уровне (менее зависимом от «массовых коммуникаций»). Т.е. она носит преимущественно реактивный, как следствие – не всегда органичный характер. И может оказаться непрочной.
Русская идентичность очень слабо укоренена как в сфере современной массовой культуры, так и в сфере бытовой культуры. Отмеченная глобализация культурной среды отнюдь не может служить этому факту достаточным объяснением или извинением. В конце концов, она не мешает французам культивировать свои кулинарные традиции, баварцам – носить в торжественных случаях национальный костюм или праздновать «октоберфест», американцам слушать музыку «кантри», а постсоветским казахам восстанавливать (естественно, в стилизованном виде) традиционный свадебный обряд. К сожалению, у нас практически нет такого рода «якорных» этнических практик в культуре, но это не значит, что они не могут быть созданы. Евреям в Израиле удалось, ни много ни мало, оживить мертвый язык. Нет никаких причин, по которым мы не могли бы актуализировать русскую идентичность на уровне бытовой культуры и массового искусства. Более того, в этой сфере ощутим довольно сильный общественный запрос. Создание соответствующей инфраструктуры идентичности может происходить в логике «социально значимых бизнес-проектов» (в сфере уже упомянутого внутреннего туризма, национальной кухни, национально ориентированной моды и музыки, кинематографа и анимации, других креативных индустрий). Для этого не требуется каких-то судьбоносных решений в сфере большой политики. Достаточно финансовых ресурсов, навыков проектного менеджмента и хорошего вкуса. Сочетание довольно редкое, но отнюдь не невозможное.
Предпосылки стратегии
Перечисленные и подобные им сферы приложения усилий важны тем, что допускают и предполагают для национального гражданского общества возможность задавать тон в политике идентичности, играть «первым номером». Многие решения не могут быть приняты и реализованы без государства, но они никогда не созреют, если те или иные сообщества людей не ощутят себя хотя бы в некоторых отношениях субъектом стратегии и не перестанут относиться к государству как к гипнотическому моносубъекту, от которого «все зло и все добро».
Как напоминает немецкий историк Отто Данн, польское национальное движение после поражения восстания 1863 г. «выдвинуло лозунг органической работы. Это означало отказ от непродуктивных революционных попыток и поворот в сторону программы национального развития» как своего рода стратегии непрямых действий, рассчитанной на длительную перспективу.[9] Думаю, для русских этот лозунг сегодня не менее актуален.
Концепт «органической работы» интересен как соединение присущего этническому мышлению стихийного органицизма и стратегически ориентированного действия.
Выше говорилось о необходимости преодолеть вульгарно-биологическое понимание этничности. Но есть один пункт, в котором этническое мышление действительно подразумевает своего рода «биологизацию» социальной реальности. Это органицизм в понимании общества, склонность наделять свое сообщество свойствами живой системы, «одушевлять» его. И, пожалуй, это биологизация в хорошем, корневом смысле слова – биос, жизнь, – возвращающем нас к афоризму Ортеги-и-Гассета. Высший смысл политики в категориях этнонационального мышления состоит именно в том, чтобы «заниматься жизнью» сложносочиненного коллективного организма.
Без этой предпосылки «одушевления» человеческих сообществ исчезает ключевое звено большой политической стратегии – мотивы «играть в долгую», в категориях больших длительностей, ориентируясь на преемственность по отношению к предкам и интересы потомков. Максимум, что остается – это интересы непосредственных отпрысков и самоотверженное стремление «лиц, принимающих решения», создать для них «острова благополучия» в обездушенном мире. Это то, что мы видим вокруг себя, и это – прямое свидетельство эрозии национального сознания. Если мы жизненно не сопричастны длительности больших этносоциальных организмов, то не возникает точек перехода между текущей стратегией и тем, что в школе анналов называли «большим временем», не возникаетэффекта коллективной судьбы. Ни интересы государственного аппарата, ни интересы «населения» как усредненной статистической совокупности сами по себе не создают этого эффекта.
Поэтому, возвращаясь к вопросу, который был поставлен в начале, – о значимости публичного измерения русской идентичности, – можно отметить, что речь не только о том, чтобы артикулировать интересы одного из этнонациональных сообществ, но о том, чтобы придать всей общественно-политической жизни страны недостающую ей стратегическую глубину.
Статья опубликована в альманахе «Тетради по консерватизму». №3, 2016.
[1] Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 2009.
[2] Смит Энтони Д. Национализм и модернизм: критический обзор современных теорий наций и национализма. М. 2004.
[3] ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 гг.)»
[4] Национально-культурные автономии для русских не предусмотрены – в 2003 году была принята соответствующая поправка к закону 1996 года «О национально-культурной автономии». При этом правовых аналогов института НКА предложено не было. Из-за этого достаточно абсурдно смотрятся разного рода «площадки межнационального диалога», на которых, как правило, самый крупный народ страны заведомо не представлен. Или представлен лишь в специфической нише казачьих организаций.
[5] Если не брать особый случай школ с этнокультурным компонентом, который, впрочем, к русским имеет мало отношения
[6] Олег Неменский. Эволюция русской и украинской идентичности на Украине после Евромайдана. // Вопросы национализма, 2015, № 4(24).
[7] Этим проблемам посвящен меморандум Экспертного центра Всемирного русского народного собора «О единстве русского народа».
[8] Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 2009.
[9] Отто Данн. Нации и национализм в Германии. 1770-1990. СПб., 2003.
Перечисленные и подобные им сферы приложения усилий важны тем, что допускают и предполагают для национального гражданского общества возможность задавать тон в политике идентичности, играть «первым номером». Многие решения не могут быть приняты и реализованы без государства, но они никогда не созреют, если те или иные сообщества людей не ощутят себя хотя бы в некоторых отношениях субъектом стратегии и не перестанут относиться к государству как к гипнотическому моносубъекту, от которого «все зло и все добро».
Как напоминает немецкий историк Отто Данн, польское национальное движение после поражения восстания 1863 г. «выдвинуло лозунг органической работы. Это означало отказ от непродуктивных революционных попыток и поворот в сторону программы национального развития» как своего рода стратегии непрямых действий, рассчитанной на длительную перспективу.[9] Думаю, для русских этот лозунг сегодня не менее актуален.
Концепт «органической работы» интересен как соединение присущего этническому мышлению стихийного органицизма и стратегически ориентированного действия.
Выше говорилось о необходимости преодолеть вульгарно-биологическое понимание этничности. Но есть один пункт, в котором этническое мышление действительно подразумевает своего рода «биологизацию» социальной реальности. Это органицизм в понимании общества, склонность наделять свое сообщество свойствами живой системы, «одушевлять» его. И, пожалуй, это биологизация в хорошем, корневом смысле слова – биос, жизнь, – возвращающем нас к афоризму Ортеги-и-Гассета. Высший смысл политики в категориях этнонационального мышления состоит именно в том, чтобы «заниматься жизнью» сложносочиненного коллективного организма.
Без этой предпосылки «одушевления» человеческих сообществ исчезает ключевое звено большой политической стратегии – мотивы «играть в долгую», в категориях больших длительностей, ориентируясь на преемственность по отношению к предкам и интересы потомков. Максимум, что остается – это интересы непосредственных отпрысков и самоотверженное стремление «лиц, принимающих решения», создать для них «острова благополучия» в обездушенном мире. Это то, что мы видим вокруг себя, и это – прямое свидетельство эрозии национального сознания. Если мы жизненно не сопричастны длительности больших этносоциальных организмов, то не возникает точек перехода между текущей стратегией и тем, что в школе анналов называли «большим временем», не возникаетэффекта коллективной судьбы. Ни интересы государственного аппарата, ни интересы «населения» как усредненной статистической совокупности сами по себе не создают этого эффекта.
Поэтому, возвращаясь к вопросу, который был поставлен в начале, – о значимости публичного измерения русской идентичности, – можно отметить, что речь не только о том, чтобы артикулировать интересы одного из этнонациональных сообществ, но о том, чтобы придать всей общественно-политической жизни страны недостающую ей стратегическую глубину.
Статья опубликована в альманахе «Тетради по консерватизму». №3, 2016.
[1] Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 2009.
[2] Смит Энтони Д. Национализм и модернизм: критический обзор современных теорий наций и национализма. М. 2004.
[3] ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 гг.)»
[4] Национально-культурные автономии для русских не предусмотрены – в 2003 году была принята соответствующая поправка к закону 1996 года «О национально-культурной автономии». При этом правовых аналогов института НКА предложено не было. Из-за этого достаточно абсурдно смотрятся разного рода «площадки межнационального диалога», на которых, как правило, самый крупный народ страны заведомо не представлен. Или представлен лишь в специфической нише казачьих организаций.
[5] Если не брать особый случай школ с этнокультурным компонентом, который, впрочем, к русским имеет мало отношения
[6] Олег Неменский. Эволюция русской и украинской идентичности на Украине после Евромайдана. // Вопросы национализма, 2015, № 4(24).
[7] Этим проблемам посвящен меморандум Экспертного центра Всемирного русского народного собора «О единстве русского народа».
[8] Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 2009.
[9] Отто Данн. Нации и национализм в Германии. 1770-1990. СПб., 2003.
