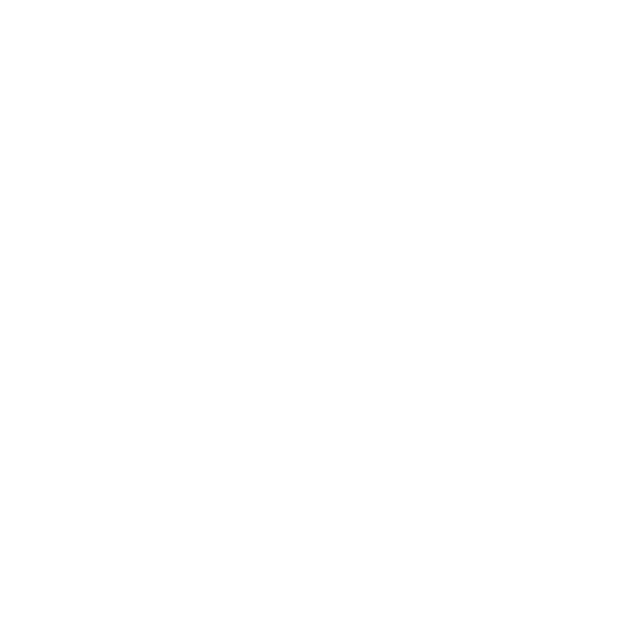Консерватизм и современность
Современность как ситуация
Нет общего мнения по вопросу о том, в чем суть и порождающий принцип той взаимосвязи идей и институтов, которую мы называем «современностью». В рационализации, эмансипации, секуляризации или в чем-то еще? Но существует отправная точка для понимания современности и рассуждения о ней. Она состоит в том, что современное общество обречено на проектный способ существования. Это не значит, что оно обязательно порывает с традицией. Но традиция в рамках современности не может быть самоочевидным и достаточным основанием легитимности общественного порядка в целом и порядка власти в частности. Обнаружение этих оснований становится проблемой, которая решается в ходе политико-идеологической жизни общества. Отправной точкой современности является не «проект» как устремление к лучшему миру, а «провал» как невозможность жить в прежнем мире по-прежнему.[1] «По-прежнему» — значит, обосновывая социальность (в частности, власть и мораль) «космологически», как проекцию объективного и трансцендентного порядка вещей, не зависящего от мнений и действий отдельных людей, воспринимаемого как первичная, безусловная реальность и последняя инстанция в разрешении споров. Карл Манхейм называет этот комплекс представлений «объективным онтологическим единством мира» и говорит о его распаде в новое время.
Подразумеваемой или прямо описываемой исследователями моделью этой «социальной космологии» является иерархически организованная ойкумена средневековой христианской Европы. Утверждения о том, что современность, с одной стороны, обрекает общество на проектный способ существования, а с другой — не является сама по себе проектом, не содержат противоречия. Современность — не проект, но арена столкновения различных проектов или, точнее, программ, стратегий (не всем им присущи свойства конструктивной связности, предполагаемые понятием «проект») ответа на общий исходный вызов (распад социальной космологии «традиционного общества»). Консерватизм — одна из таких стратегий. Говорят, философия не начинается с определений, но важно определить точки отсчета. Наверное, я — как, впрочем, и многие из тех, кто пишет о консерватизме, — исхожу из существования некоторой плеяды, некоторого «семейства» в политической философии, которое можно назвать консервативным. Что его объединяет?
Некоторые пытаются найти общеобязательные типологические признаки. Отсюда характерные определения из серии «консерватор — это тот, кто уважает а) религию, б) семью, в) частную собственность, г) государство и т. д.» Противоречия и неувязки в этом «джентльменском наборе» показать очень несложно, потому что он составлен из смешения разных контекстов, начиная от феодального консерватизма и заканчивая рейганизмом, то есть как бы собран из аксессуаров разных эпох и стилей. Такие определения непродуктивны — как были бы непродуктивны попытки определить физиогномические семейные сходства просто по перечню специфических черт, которые объединяют всех членов семьи. Таковых может вообще не оказаться. И тем не менее физиогномическое родство существует. Об этом говорит Л. Витгенштейн, применяя метафору «семейных сходств» к языку. Поэтому я предложил бы идти не от общности типологических признаков, а от общности переживаемой ситуации — ситуации кризиса традиционного общества, крушения «социальной космологии» христианской Европы — и первичной реакции на этот кризис со стороны тех, кто видит в этом крушении угрозу или утрату. Примерно так, кстати, пытается определять цивилизации А. Тойнби — не от статики, не от перечня признаков, а от динамики, в которой возникает континуум «вызова-и-ответа».
Повестка консерватизма сложилась вокруг этого вызова и различных попыток ответа на него. Такой подход к пониманию консерватизма можно назвать «ситуационным». Но с важным отличием от того, ставшего классическим понятия «ситуационного консерватизма», которое предлагается С. Хантингтоном. «Обнаружения консерватизма, — пишет он, — представляют собой просто параллельные идеологические реакции на сходные социальные ситуации. Содержание консерватизма по существу статично. Его проявления исторически изолированы и дискретны. Таким образом, как ни парадоксально, консерватизм, будучи защитником традиции, сам существует без традиции. Консерватизм — этот призыв к истории, сам без истории».[2] Консерватизм предстает как «ситуационная», или «институциональная», идеология, выступающая в защиту наличных социальных институтов, когда они оказываются под угрозой, в отличие от «идеационных» идеологий, имеющих свой общественный идеал.
Нет общего мнения по вопросу о том, в чем суть и порождающий принцип той взаимосвязи идей и институтов, которую мы называем «современностью». В рационализации, эмансипации, секуляризации или в чем-то еще? Но существует отправная точка для понимания современности и рассуждения о ней. Она состоит в том, что современное общество обречено на проектный способ существования. Это не значит, что оно обязательно порывает с традицией. Но традиция в рамках современности не может быть самоочевидным и достаточным основанием легитимности общественного порядка в целом и порядка власти в частности. Обнаружение этих оснований становится проблемой, которая решается в ходе политико-идеологической жизни общества. Отправной точкой современности является не «проект» как устремление к лучшему миру, а «провал» как невозможность жить в прежнем мире по-прежнему.[1] «По-прежнему» — значит, обосновывая социальность (в частности, власть и мораль) «космологически», как проекцию объективного и трансцендентного порядка вещей, не зависящего от мнений и действий отдельных людей, воспринимаемого как первичная, безусловная реальность и последняя инстанция в разрешении споров. Карл Манхейм называет этот комплекс представлений «объективным онтологическим единством мира» и говорит о его распаде в новое время.
Подразумеваемой или прямо описываемой исследователями моделью этой «социальной космологии» является иерархически организованная ойкумена средневековой христианской Европы. Утверждения о том, что современность, с одной стороны, обрекает общество на проектный способ существования, а с другой — не является сама по себе проектом, не содержат противоречия. Современность — не проект, но арена столкновения различных проектов или, точнее, программ, стратегий (не всем им присущи свойства конструктивной связности, предполагаемые понятием «проект») ответа на общий исходный вызов (распад социальной космологии «традиционного общества»). Консерватизм — одна из таких стратегий. Говорят, философия не начинается с определений, но важно определить точки отсчета. Наверное, я — как, впрочем, и многие из тех, кто пишет о консерватизме, — исхожу из существования некоторой плеяды, некоторого «семейства» в политической философии, которое можно назвать консервативным. Что его объединяет?
Некоторые пытаются найти общеобязательные типологические признаки. Отсюда характерные определения из серии «консерватор — это тот, кто уважает а) религию, б) семью, в) частную собственность, г) государство и т. д.» Противоречия и неувязки в этом «джентльменском наборе» показать очень несложно, потому что он составлен из смешения разных контекстов, начиная от феодального консерватизма и заканчивая рейганизмом, то есть как бы собран из аксессуаров разных эпох и стилей. Такие определения непродуктивны — как были бы непродуктивны попытки определить физиогномические семейные сходства просто по перечню специфических черт, которые объединяют всех членов семьи. Таковых может вообще не оказаться. И тем не менее физиогномическое родство существует. Об этом говорит Л. Витгенштейн, применяя метафору «семейных сходств» к языку. Поэтому я предложил бы идти не от общности типологических признаков, а от общности переживаемой ситуации — ситуации кризиса традиционного общества, крушения «социальной космологии» христианской Европы — и первичной реакции на этот кризис со стороны тех, кто видит в этом крушении угрозу или утрату. Примерно так, кстати, пытается определять цивилизации А. Тойнби — не от статики, не от перечня признаков, а от динамики, в которой возникает континуум «вызова-и-ответа».
Повестка консерватизма сложилась вокруг этого вызова и различных попыток ответа на него. Такой подход к пониманию консерватизма можно назвать «ситуационным». Но с важным отличием от того, ставшего классическим понятия «ситуационного консерватизма», которое предлагается С. Хантингтоном. «Обнаружения консерватизма, — пишет он, — представляют собой просто параллельные идеологические реакции на сходные социальные ситуации. Содержание консерватизма по существу статично. Его проявления исторически изолированы и дискретны. Таким образом, как ни парадоксально, консерватизм, будучи защитником традиции, сам существует без традиции. Консерватизм — этот призыв к истории, сам без истории».[2] Консерватизм предстает как «ситуационная», или «институциональная», идеология, выступающая в защиту наличных социальных институтов, когда они оказываются под угрозой, в отличие от «идеационных» идеологий, имеющих свой общественный идеал.
С. Хантингтон говорит о других разновидностях консерватизма. В частности, об «аристократиче ской» реакции на 1789 год, что ближе к классическому понятию консерватизма, но за давностью лет он считает его предметом лишь исторического, а не политического интереса. Или о консерватизме как претенциозно «надысторической» философии «вечных ценностей», политическая ценность которой еще меньше. Предложение С. Хантингтона мыслить консерватизм, исходя из конкретной ситуации, правомерно. Но он делает из него неверный вывод о дискретности консерватизма и статичности его содержания. Если бы между «ситуациями», вызовами, на которые отвечает консерватизм, не было ничего общего, то, возможно, он действительно был бы заведомо лишен соб ственной традиции. Но в современной истории многие частные ситуации, делающие актуальным консерватизм, оказываются спецификациями той исходной, общей ситуации — «ситуации современности», о которой шла речь выше. Например, сегодняшние дискуссии между консерваторами и их оппонентами о биоэтике, статусе меньшинств, индивидуальных и групповых правах являются вариациями на одну и ту же сквозную тему — тему эмансипации, к которой некоторые фракции Просвещения стремились и стремятся свести фундаментальную для модерна тему свободы. Формы этой дискуссии в начале XIX и в начале XXI веков различны. Но общая сквозная нить очевидна — это разные фазы одного сюжета. То есть само противопоставление сугубо исторического понятия консерватизма (аристократическая реакция на 1789 год) и его политического понятия, имеющего отношение к реалиям наших дней (консерватизм как защита существующих институтов), в конечном счете поверхностно. Консерватизм — философия, вырастающая, вплоть до наших дней, из корня аристократической реакции на 1789 год. То есть, с одной стороны, она не является «надысторической», с другой — она не замкнута в интервале «от революции до реставрации», а разворачивается по сей день, претерпевает собственную историю и диалектику.[3]
В чем же состоит специфика консерватизма как реакции на современность, на вызов распада «социальной космологии»? Прежде всего в том, что именно консерватизм наиболее остро ощущает свою связь с «уходящим миром» (собственно, он вырастает из ощущения этой связи) и наиболее остро ощущает угрозу, связанную с разрушением традиционных оснований общественного порядка. Поэтому первый вопрос консерватору, вопрос «на понимание», — не «что вы собираетесь консервировать?», а «что вы утратили?». Один из возможных ответов применительно к ситуации современности в целом может звучать так: мы утратили эффект присутствия Бога в обществе и вместе с ним ощущение самого общества как осмысленного и иерархически выстроенного космоса. Для Ф. Ницше «смерть Бога» имеет самые разные коннотации. Но наиболее важная из них — это «смерть Бога» как последней социальной инстанции, к которой восходят все мыслимые порядки и иерархии. Эта ситуация не сводима к утрате остроты религиозного чувства. Речь идет об изменении восприятия публичного пространства, которое совместимо со сколь угодно интенсивной личной религиозностью и может отчасти компенсироваться ею (как в случае некоторых протестантских деноминаций).
В чем же состоит специфика консерватизма как реакции на современность, на вызов распада «социальной космологии»? Прежде всего в том, что именно консерватизм наиболее остро ощущает свою связь с «уходящим миром» (собственно, он вырастает из ощущения этой связи) и наиболее остро ощущает угрозу, связанную с разрушением традиционных оснований общественного порядка. Поэтому первый вопрос консерватору, вопрос «на понимание», — не «что вы собираетесь консервировать?», а «что вы утратили?». Один из возможных ответов применительно к ситуации современности в целом может звучать так: мы утратили эффект присутствия Бога в обществе и вместе с ним ощущение самого общества как осмысленного и иерархически выстроенного космоса. Для Ф. Ницше «смерть Бога» имеет самые разные коннотации. Но наиболее важная из них — это «смерть Бога» как последней социальной инстанции, к которой восходят все мыслимые порядки и иерархии. Эта ситуация не сводима к утрате остроты религиозного чувства. Речь идет об изменении восприятия публичного пространства, которое совместимо со сколь угодно интенсивной личной религиозностью и может отчасти компенсироваться ею (как в случае некоторых протестантских деноминаций).
| Революция и «старый порядок» Здесь же (в этом ощущении утраты) заключен первый соблазн консерватизма. Остро переживая утрату и осознавая опасность происходящих перемен, он может переоценить значение тех, кто непосредственно осуществляет эти перемены, обосновывает и приветствует их. То есть увидеть в революции и комплексе так называемых современных идей не следствие, а причину обрушения «социальной космологии» традиционного общества. Это впечатление вполне естественно и эмоционально убедительно. Но оно является, во-первых, опасным для консерватизма и, во-вторых, ложным. |
Опасным — потому что делает консерватизм слабой позицией. В этом случае «революция» и «Просвещение» предстают агентами истории, а консерватизм — агентом реакции. Эта схема так привычна, что даже не вызывает сомнений. Но если считать крушение прежней «социальной космологии» не следствием революции, а ее предпосылкой, то «агентами реакции» являются все участники «битвы за современность». Потому что все их сколь угодно революционные программы являются реакциями на осевое негативное событие современности — распад прежних, традиционных, метафизических оснований власти и социальности. В рамках первой трактовки консерватизм — заведомый аутсайдер современной истории. В рамках второй — он не только равноценно участвует в состязании «реакций» на общий вызов, но даже имеет некоторое стратегическое преимущество. Потому что первая реакция (в данном случае — революционная), как известно, не всегда самая верная. Демонизация революции и Просвещения как сил ответственных за разрушение «старого мира» не только пагубна для консерватизма, но и исторически неточна. Уже французские традиционалисты (в частности, Жозеф де Местр) фиксируют, что французская революция была довольно поздним этапом разрушения ойкумены христианской Европы. Предшествующим этапом была сама французская монархия, возникшая в ее абсолютистском виде вследствие «восстания» против универсальной христианской империи в лице Папы Римского. Аналогичное обвинение в адрес «королевств» — только от лица иной, кайзеровской, ипостаси европейской империи — выдвигал Г. В. Лейбниц. «Старый порядок», иными словами, содержал в себе зерна революции, вследствие отхода от средневековой модели легитимности власти. К этому выводу приводит самоанализ консервативного протеста против «современных идей». О том же говорит и анализ последних. Идеологи «общественного договора» и философы Просвещения не только и не столько ниспровергали «старый порядок», сколько реагировали на кризис его легитимности. Они хотели заново обосновать то, почему людям необходимо жить в обществе, подчиняться государству и быть хорошими подданными или гражданами. Эта релегитимирующая роль идеологии Просвещения, в его собственной внутренней логике, гораздо важнее, чем делегитимирующая. И главным условием ее выполнения было предъявление новых, «рациональных» оснований общественного порядка. Речь шла о попытке в режиме «мысленного эксперимента» заново «изобрести» общество и «одобрить» его уже не в силу «предрассудков» традиции и авторитета, а на «разумных основаниях».
Консерватизм vs. Просвещение
Если идеология Просвещения — не причина кризиса «социальной космологии» христианской Европы, а одна из первых реакций на этот кризис, то, тем не менее, ее роль в рождении самого консерватизма как идеологического течения трудно переоценить. Тот же К. Манхейм пишет, что «консервативная мысль появилась как независимое течение, когда ее вынудили к сознательной оппозиции буржуазно-революционной мысли, способу мышления, основанному на идее естественного права». Поскольку речь идет именно о способе мышления, а не об одной из частных теорий, К. Манхейм воссоздает его проекции в разных сферах (чтобы проявить структуру того вызова, на который отвечает консерватизм).
Он выделяет несколько политических опорных идей естественно-правового мышления: натурализм (гипотеза «естественного состояния»), контрактный подход к обществу (абстракция «общественного договора»), демократизм (концепция народного суверенитета), метафизический эгалитаризм (доктрина неотъемлемых прав человека). И несколько методологических черт: рационализм, индивидуализм, универсализм в подходе к истории, атомизм и механицизм в социологии. Консервативная система мысли выстраивается как фронтальная оппозиция этому способу мышления по всем названным линиям (и движется, через критику, к уяснению собственного внутреннего принципа).
Консерватизм vs. Просвещение
Если идеология Просвещения — не причина кризиса «социальной космологии» христианской Европы, а одна из первых реакций на этот кризис, то, тем не менее, ее роль в рождении самого консерватизма как идеологического течения трудно переоценить. Тот же К. Манхейм пишет, что «консервативная мысль появилась как независимое течение, когда ее вынудили к сознательной оппозиции буржуазно-революционной мысли, способу мышления, основанному на идее естественного права». Поскольку речь идет именно о способе мышления, а не об одной из частных теорий, К. Манхейм воссоздает его проекции в разных сферах (чтобы проявить структуру того вызова, на который отвечает консерватизм).
Он выделяет несколько политических опорных идей естественно-правового мышления: натурализм (гипотеза «естественного состояния»), контрактный подход к обществу (абстракция «общественного договора»), демократизм (концепция народного суверенитета), метафизический эгалитаризм (доктрина неотъемлемых прав человека). И несколько методологических черт: рационализм, индивидуализм, универсализм в подходе к истории, атомизм и механицизм в социологии. Консервативная система мысли выстраивается как фронтальная оппозиция этому способу мышления по всем названным линиям (и движется, через критику, к уяснению собственного внутреннего принципа).
Контрактному подходу к обществу и методологическому индивидуализму оказываются противопоставлены органицизм, холизм, культурный фундаментализм — настаивающий не просто на солидарности, но на онтологическом первенстве сообществ по отношению к индивидам (сам «общественный договор» может быть заключен лишь на почве уже существующей общности). Натурализму, вере в «естественного человека», противостоит культурная антропология, рассматривающая собственно человеческое в человеке как систему усвоенных им, «вросших» в него социальных институтов, в том числе институтов власти. Рационализму сопротивляется философия жизни, отчасти — гегельянская диалектика и иные концепции, которые не просто противопоставляют амбициям «логоса» «иррационализм действительности», но представляют сам Разум и его нормы как меняющиеся и находящиеся в движении. Вере во всеобщие социальные законы и универсальные ценности противостоит историзм, который привязывает сознание к историческому времени и судьбе как субъективно освоенному времени (историзм исходит из того, что история — всегда чья-то); а также пространственное мышление, примерами которого могут служить геополитика и цивилизационный подход. В последнем случае речь идет о сопротивлении консерватизма духу утопии, в том смысле, как его реконструирует К. Шмитт: «В чем специфика утопии? Суть в следующем: это стремление от пространства и места, это потеря местоположения, то есть абстрагирование от… связности места и порядка. Любой порядок есть конкретно местоположенное право. <…> От этого при Море сознательно отказываются. От места и пространства больше уже ничего не зависит. (Не зависит прежде всего сама форма значимости действующих в данном пространстве норм. — М. Р.) <…> Итак, я вижу в утопии не некую произвольную фантастику или идеальную конструкцию, но определенную систему мышления, созданную на основе снятия пространства и потери местоположения, на больше-не-связанности социальной жизни человека с пространством». [4]
Из этого краткого перечня разногласий видно, что лейтмотивы консервативной мысли в основном заданы (от противного) лейтмотивами Просвещения. Однако главным вызовом консерватизму — уже не только как системе мысли, но как исторической силе — является не содержание проекта Просвещения, а его историческое поражение. Проект Просвещения как проект реконструкции общества на рациональных основах в целом потерпел неудачу. Таково преобладающее мнение, разделяемое не только его заведомыми противниками, но и многими сторонниками.
Из крупных современных идеологов Просвещения с наибольшим оптимизмом держится Ю. Хабермас, но и он считает проект «незавершенным», то есть не достигшим цели, и связывает свои надежды с утверждением «дискурсивной этики». То есть с обновленным проектом Просвещения, который удивительно точно повторяет главный изъян «старой версии» проекта. Этот изъян состоит в том, что его предпосылки, исходные постулаты уже содержат в себе желательный для идеолога результат. Так, «теория коммуникативного действия», стремясь реконструировать общество (прежде всего — публичную сферу) на свободных и разумных основаниях, исключить все элементы господства или принуждения, кроме принуждения убеждающей аргументации, вынуждена постулировать на «входе» примерно то же, что она хочет получить на «выходе»: свободно и добросовестно рассуждающих субъектов, мыслящих в общей системе координат и ориентированных на консенсус. Аналогичным образом дело обстоит и в самых ранних версиях того же проекта: — «общественный договор», чтобы быть заключенным, должен подразумевать такой минимум доверия, договороспособности и понимания, которые немыслимы в «естественном» (дообщественном) состоянии; — рациональное обоснование морали, в каждой из его историко-философских версий, исходит из «неожиданного» знания того, что именно «требуется обосновать». На эту особенность различных программ рационального обоснования морали обращает внимание один из наиболее значительных современных консерваторов А. Макинтайр.[5] Он говорит о том, что Д. Юм и Д. Дидро, И. Кант, С. Кьеркегор производят, каждый по-своему, революцию в обосновании морали, но являются, в том числе вопреки собственной методологии, консерваторами в ее содержании, оставаясь «наследниками весьма специфической и конкретной схемы моральных вер».
Стратегия продуктивного реванша
Обобщенно это противоречие можно представить следующим образом: идеологи рационального обоснования морали исходят из того, что христианская картина мира утратила свою безусловность, общезначимость, и они проблематизируют ее вслед за своими современниками. Но они принимают как данность и не проблематизируют один из главных артефактов этой картины мира — человека. Далеко не все консерваторы уверены, что человека создал Бог. Но они вполне определенно могут утверждать, что человека создало христианство. В том смысле, в каком всякая религиозная традиция и всякая высокая культура творит свой образ человека и свой стандарт человечности. Вне этого образа и этого стандарта человека как такового не существует. Это убеждение — важный пункт консервативной антропологии и консервативной критики универсализма. Но в данном случае оно важно для нас не само по себе, а как еще один отправной пункт для понимания взаимоотношений консерватизма и современности. История современности — это не только история научно-технического прогресса или прогресса рационализации, или прогресса в осознании свободы, но и история растраты «ресурсов» традиционного общества. Таких, как трудовая или семейная этика, аскетизм общественного служения, потенциал доверия и солидарности, религиозно определенный стандарт человека. Все эти и им подобные социальные опоры жизненно необходимы для успешной модернизации, но не производятся ею самостоятельно, а заимствуются из предшествующей эпохи. И кардинальный вопрос состоит в том, возможно ли сохранение жизненно важных фрагментов (артефактов) традиционной картины мира в ситуации распада той целостности, которой они были исходно порождены? Могут ли подобные базовые культурные «ресурсы» воспроизводиться современной цивилизацией самостоятельно, или она обречена на «проматывание» цивилизационного наследства и хроническую жизнь взаймы? Исходя из этой дилеммы, может быть сформулирована миссия консерватизма. Она состоит в том, чтобы делать жизненно важные культурные ресурсы традиционного общества доступными и воспроизводимыми в современном обществе.
Консерватизм в этом качестве предстает парадоксальным проектом, который озабочен не целями, конечными состояниям общественного развития, а его основаниями, истоками, по скольку они оказываются под угрозой. Но — именно «проектом», поскольку основания и истоки социальной жизни больше не даны сами собой и нуждаются в сознательной культивации и возобновлении в условиях современного общественного порядка. Эта миссия близка к тому пониманию цивилизационной функции консерватизма, которое было предложено В. Цымбурским.[6] Полагая вслед за О. Шпенглером, что каждая цивилизация переживает свою «реформационную эпоху», характеризующуюся в ценностном отношении — своего рода «восстанием индивида», а в социологическом отношении — «городской революцией», он идет несколько дальше и утверждает, что поверженная система ценностей аграрно-сословного общества имеет шанс на продуктивный реванш. Шанс, который он именует контрреформацией, или — в более привычных терминах — консерватизмом. Функция последнего — не повернуть «город скую революцию» вспять, а реактуализировать ценности аграрно-сословного общества в рамках городской, массовой, «постреформационной» цивилизации, в конечном счете укрепив ее жизнеспособность. Примерами этого продуктивного реванша служат: конфуцианство в ответ на даосизм, Бхагаватгита в ответ на буддизм, философия Платона и Аристотеля в ответ на софистику и хрематистику. В новое время аналогичную роль по отношению к философии Просвещения выполнили политический романтизм[7] и философия Г. В. Ф. Гегеля. «Консервативность» последнего может вызывать вопросы — многое связывает его и с «революционной» мыслью. Но, пожалуй, именно у него наиболее четко проработана главная схема «продуктивного реванша» контрреформации. Я имею в виду понимание того, что, с одной стороны, механическое подавление «восстания индивида» против общества безнадежно. Но с другой — возможно его вторичное завоевание обществом. Уже не в качестве полубессознательного роевого существа, а в качестве личности, не мыслимой вне и помимо своей качественной социальной определенности.
Из этого краткого перечня разногласий видно, что лейтмотивы консервативной мысли в основном заданы (от противного) лейтмотивами Просвещения. Однако главным вызовом консерватизму — уже не только как системе мысли, но как исторической силе — является не содержание проекта Просвещения, а его историческое поражение. Проект Просвещения как проект реконструкции общества на рациональных основах в целом потерпел неудачу. Таково преобладающее мнение, разделяемое не только его заведомыми противниками, но и многими сторонниками.
Из крупных современных идеологов Просвещения с наибольшим оптимизмом держится Ю. Хабермас, но и он считает проект «незавершенным», то есть не достигшим цели, и связывает свои надежды с утверждением «дискурсивной этики». То есть с обновленным проектом Просвещения, который удивительно точно повторяет главный изъян «старой версии» проекта. Этот изъян состоит в том, что его предпосылки, исходные постулаты уже содержат в себе желательный для идеолога результат. Так, «теория коммуникативного действия», стремясь реконструировать общество (прежде всего — публичную сферу) на свободных и разумных основаниях, исключить все элементы господства или принуждения, кроме принуждения убеждающей аргументации, вынуждена постулировать на «входе» примерно то же, что она хочет получить на «выходе»: свободно и добросовестно рассуждающих субъектов, мыслящих в общей системе координат и ориентированных на консенсус. Аналогичным образом дело обстоит и в самых ранних версиях того же проекта: — «общественный договор», чтобы быть заключенным, должен подразумевать такой минимум доверия, договороспособности и понимания, которые немыслимы в «естественном» (дообщественном) состоянии; — рациональное обоснование морали, в каждой из его историко-философских версий, исходит из «неожиданного» знания того, что именно «требуется обосновать». На эту особенность различных программ рационального обоснования морали обращает внимание один из наиболее значительных современных консерваторов А. Макинтайр.[5] Он говорит о том, что Д. Юм и Д. Дидро, И. Кант, С. Кьеркегор производят, каждый по-своему, революцию в обосновании морали, но являются, в том числе вопреки собственной методологии, консерваторами в ее содержании, оставаясь «наследниками весьма специфической и конкретной схемы моральных вер».
Стратегия продуктивного реванша
Обобщенно это противоречие можно представить следующим образом: идеологи рационального обоснования морали исходят из того, что христианская картина мира утратила свою безусловность, общезначимость, и они проблематизируют ее вслед за своими современниками. Но они принимают как данность и не проблематизируют один из главных артефактов этой картины мира — человека. Далеко не все консерваторы уверены, что человека создал Бог. Но они вполне определенно могут утверждать, что человека создало христианство. В том смысле, в каком всякая религиозная традиция и всякая высокая культура творит свой образ человека и свой стандарт человечности. Вне этого образа и этого стандарта человека как такового не существует. Это убеждение — важный пункт консервативной антропологии и консервативной критики универсализма. Но в данном случае оно важно для нас не само по себе, а как еще один отправной пункт для понимания взаимоотношений консерватизма и современности. История современности — это не только история научно-технического прогресса или прогресса рационализации, или прогресса в осознании свободы, но и история растраты «ресурсов» традиционного общества. Таких, как трудовая или семейная этика, аскетизм общественного служения, потенциал доверия и солидарности, религиозно определенный стандарт человека. Все эти и им подобные социальные опоры жизненно необходимы для успешной модернизации, но не производятся ею самостоятельно, а заимствуются из предшествующей эпохи. И кардинальный вопрос состоит в том, возможно ли сохранение жизненно важных фрагментов (артефактов) традиционной картины мира в ситуации распада той целостности, которой они были исходно порождены? Могут ли подобные базовые культурные «ресурсы» воспроизводиться современной цивилизацией самостоятельно, или она обречена на «проматывание» цивилизационного наследства и хроническую жизнь взаймы? Исходя из этой дилеммы, может быть сформулирована миссия консерватизма. Она состоит в том, чтобы делать жизненно важные культурные ресурсы традиционного общества доступными и воспроизводимыми в современном обществе.
Консерватизм в этом качестве предстает парадоксальным проектом, который озабочен не целями, конечными состояниям общественного развития, а его основаниями, истоками, по скольку они оказываются под угрозой. Но — именно «проектом», поскольку основания и истоки социальной жизни больше не даны сами собой и нуждаются в сознательной культивации и возобновлении в условиях современного общественного порядка. Эта миссия близка к тому пониманию цивилизационной функции консерватизма, которое было предложено В. Цымбурским.[6] Полагая вслед за О. Шпенглером, что каждая цивилизация переживает свою «реформационную эпоху», характеризующуюся в ценностном отношении — своего рода «восстанием индивида», а в социологическом отношении — «городской революцией», он идет несколько дальше и утверждает, что поверженная система ценностей аграрно-сословного общества имеет шанс на продуктивный реванш. Шанс, который он именует контрреформацией, или — в более привычных терминах — консерватизмом. Функция последнего — не повернуть «город скую революцию» вспять, а реактуализировать ценности аграрно-сословного общества в рамках городской, массовой, «постреформационной» цивилизации, в конечном счете укрепив ее жизнеспособность. Примерами этого продуктивного реванша служат: конфуцианство в ответ на даосизм, Бхагаватгита в ответ на буддизм, философия Платона и Аристотеля в ответ на софистику и хрематистику. В новое время аналогичную роль по отношению к философии Просвещения выполнили политический романтизм[7] и философия Г. В. Ф. Гегеля. «Консервативность» последнего может вызывать вопросы — многое связывает его и с «революционной» мыслью. Но, пожалуй, именно у него наиболее четко проработана главная схема «продуктивного реванша» контрреформации. Я имею в виду понимание того, что, с одной стороны, механическое подавление «восстания индивида» против общества безнадежно. Но с другой — возможно его вторичное завоевание обществом. Уже не в качестве полубессознательного роевого существа, а в качестве личности, не мыслимой вне и помимо своей качественной социальной определенности.
Личность, общность, собственность
Рассмотрим некоторые примеры и проявления этой стратегии продуктивного реванша (реактуализации ценностей традиционного общества в современном). 1) Вторичное открытие «феодальной собственности»: консервативное прочтение капитала Консерватизм будет лучше понят, если мы будем иметь в виду, что его внутренним референтом, психологически значимой доминантой является не столько «традиция», сколько «наследство». Если иметь это в виду, то можно использовать и термин «традиция» — в качестве обозначения для такого специфического наследства, которое не только принадлежит нам, но и существенным образом определяет нас. Собственно, именно таково наследство в его феодально-аристократическом понимании: земельный надел или замок определяют человека, но принадлежат не ему, а его роду. Они требуют сомасштабной субъектности.
Тему наследственного капитала как стержня экономической жизни (в том числе нематериального, невещественного капитала — такого, как знания или язык) разрабатывал А. Мюллер. В его лице преимущественное внимание к теме наследования дало начало вполне оригинальной консервативной политэкономии, главный мотив которой, несколько осовременивая, можно свести к проблеме поддержания нематериальной инфраструктуры публичных благ, связывающей общество и объединяющей его в нацию.
А. Мюллеру принадлежит интересный афоризм о том, что миссия «благородного сословия» «состоит в том, чтобы здесь и теперь защищать от отдельных лиц общую свободу».[8] Благородное сословие не намного пережило самого Адама Мюллера. Но идеология мертвого класса — не всегда мертвая идеология. Запрос на защиту наследственного капитала (как основы общей свободы) остался и приобрел новый масштаб, перейдя с семейно-династического на национальный уровень.
Ни либерализм, ни марксизм не могут адекватно не только решить, но даже поставить эту задачу. Либерализм является преимущественно философией частного капитала. Марксизм гораздо более озабочен трудом, чем наследованием. И обе идеологии — даже в том случае, когда они признают значение культуры как разновидности капитала, — видят в ней скорее абстрактное достояние человечества, чем конкретное, требующее планомерной заботы и воспроизводства национальное наследство.
Особенно важны различия в трактовке проблемы наследственного капитала для рентных государств. У каждой из трех больших идеологий — либерализма, марксизма, консерватизма — есть свои основания быть требовательными к государству. В либеральной модели таким основанием являются налоги: «мы платим налоги, следовательно, можем спрашивать с тех, кто ими распоряжается». В марксистской эту роль играет прибавочная стоимость: государство как агент капитала живет за счет прибавочного продукта, созданного нашим трудом. В консервативной логике, требовательность к государству основана на том, что оно распоряжается совместным наследством (напрямую или определяет правила его использования).
Каждое из этих трех оснований, несомненно, важно. Однако в условиях сегодняшней России первые два из них несущественны либо фиктивны. Мы предъявляем свой счет сегодняшнему государству не потому, что мы налогоплательщики. Большую часть налогов государство получает от крупных корпораций, преимущественно сырьевого сектора. И не потому, что мы — трудящиеся. Ведь корень проблемы не в том, что «олигархический капитал» эксплуатирует наш труд, а в том, что он узурпирует общественный капитал, включающий и овеществленный труд наших предков, и землю с ее недрами.
Какое отношение сегодняшние жители России имеют к тому, что добыто предшествующими поколениями (кстати, не только трудом, но и правом завоевания)? На каком основании мы можем говорить об узурпации наследственного капитала? Дать ответы на эти вопросы может только консервативный подход к проблеме наследственного (в данном случае — национального) капитала.
2) Вторичное открытие «общности»: консервативное прочтение государства
Оппозиция «общности» и «общества» — одна из основополагающих для социологии. Ф. Теннис и другие теоретики, которые ее использовали, как правило, не считали, что современность означает окончательное вытеснение одного принципа социальной связи (принадлежность, свойственная «общности») — другим (расчет и обмен, свойственные «обществу»). Скорее, они говорили об их сосуществовании. Но расширение территории «общества» за счет «общности» ими, несомненно, признавалось и зачастую — в качестве серьезной угрозы.
Проблема реактивации элементов «общины» в «обществе» — сквозная тема размышлений консервативно настроенных социологов. Отчетливо выделяются три линии размышления и три стратегии решения этой задачи:
— корпоративизм как попытка, повысив значение профессиональных сообществ в повседневной и публичной жизни, укрепить промежуточное звено между индивидом и государством (Э. Дюргейм, О. Шпанн);
— национализм как попытка придать самому государству более органический характер, усматривая исторический синтез принципов «общности» и «общества» в нации (В. Зомбарт, Х. Фрайер);
— коммунитаризм как ставка на «демократию участия» в рамках локальных органических сообществ, в том числе вопреки прерогативам государства (Ч. Тейлор, М. Зандель).
Если корпоративизм в целом можно считать исчерпанной попыткой реванша «общности» — сегодня тон задают скорее корпорации капитала, чем корпорации труда, — то две другие линии по-прежнему актуальны. Будучи оппонентами, национализм и коммунитаризм, тем не менее, объединены рядом важных презумпций, характерных для республиканского мировоззрения. В частности,
— убеждением в том, что предпосылкой политической культуры (демократии и гражданства) является наследуемая культура, то есть культура как таковая;
— что предпосылкой человеческого Я является принадлежность сообществу и вовлеченность в историю;
— определением гражданской свободы как свободы участия во власти и публичной сфере, то есть свободы-связанности, а не свободы-эмансипации.
3) Вторичное открытие «аристократизма»: консервативное прочтение личности.
Революция, увиденная глазами Г. В. Ф. Гегеля, представляла собой плодотворный итог диалектики «господина» и «раба», преодоление их оппозиции. Но в самом этом преодолении заключен серьезный цивилизационный вызов — вызов «человеческому типу». За время существования сословного общества «этика господ», этика чести, обособилась от «этики рабов», этики выгоды и самосохранения. Какая этическая система, какая модель человека станет преобладающей в обществе, где снято различие между «господином» и «рабом»? Г. В. Ф. Гегель является оптимистом в этом вопросе, считая, что «гражданство» — это всеобщий аристократизм, господский статус каждого члена политического сообщества, поскольку в акте революции «рабы» этически дотягиваются до «господ» (ставят «признание выше жизни»). Но акт революции неповторим, и возможно, «низы» дотягиваются до аристократических ценностей лишь затем, чтобы их навсегда упразднить. Если вспомнить, с какой остротой ставили этот вопрос Ф. Ницше или Х. Ортега-и-Гассет, противоречие не выглядит снятым. Попытка утвердить в массовом обществе аристократический тип личности как надсословный идеал человека — отдельная и нетривиальная задача для консервативной культурной политики. Удачным примером ее решения В. Цымбурский называет викторианскую Англию, в которой политика ограничения сословных претензий аристократии соединялась с политикой «воспитания неофитов политического класса через закладку идеалов нового надсословного аристократизма — аристократизма жизненной формы».[9] В самом деле, «культ жизненной формы, аристократизм, продвинутый в массы», выработал в английском обществе характерный дух превосходства (выразившийся, например, в своеобразном прочтении «бремени белого человека»).
Но дело не только в эстетической стилизации аристократизма для нужд воспитания буржуазного общества, а в политической этике. Прежняя оппозиция «этики господ» и «этики рабов» в постреволюционном обществе не исчезла, а перешла в новую форму. Например, в форму оппозиции между «гражданином» (носителем обновленной этики чести) и «буржуа» (носителем поднятой на пьедестал этики выгоды).
Консерватизм «второй волны»
Если обобщить эти и подобные примеры контрнаступления консерватизма на современность, то мы придем к не вполне привычному выводу. Вопреки привычному убеждению в обреченности консерватизма, его миссия — если понимать ее именно как миссию продуктивного реванша, реактивации традиционных ценно стей в современной цивилизации (а не поворота современности вспять) — была во многих отношениях успешной. По крайней мере, достаточно успешной для того, чтобы он мог признать за собой соавторство в формировании современного мира. Невольное сотворчество консерватизма и его оппонентов обычно представляют в том смысле, что прогрессисты задавали перспективы и цели развития, а консерваторы предостерегали от излишнего радикализма, чреватого катастрофой. Это не совсем точно. По большей части, консерваторы имели дело с катастрофами, которые уже произошли, и занимались ликвидацией их по следствий. А именно, связыванием тех разрушительных сил, которые вышли наружу с крушением «старого мира» и его «социальной космологии». Чтобы не умножать сущностей и ориентироваться на те примеры, которые были приведены, упомянем в числе таковых: — «капитал», ставший продуктивным для общества лишь благодаря перетолкованию в национальный капитал;
— «аномию», излечиваемую с помощью новых стратегий солидарности (социально-корпоративной, национальной, коммунитарной); — «восстание масс», сдерживаемое на пути превращения аристократического типа личности в культурный образец, стандарт личности как таковой. Можно вспомнить о множестве неудач и поражений, которые потерпел консерватизм на этом пути. Но именно на их фоне особенно отчетливо выделяется одна большая удача. Был создан социальный агрегат, достаточно успешно, в лучшие свои времена, выполнявший перечисленные и близкие к ним задачи. Я имею в виду национальное государство.[10] Его природа и судьба — предмет отдельного разговора. Но сами вызовы, ему адресованные, говорят о новой актуальности консервативной политики в наши дни. Применительно к сегодняшнему дню я бы предложил говорить о таком феномене, как консерватизм «второй волны». Консерватизм «первой волны» — это попытка реактуализировать ценности аграрно-сословного общества в городском, массовом обществе. Консерватизм «второй волны» — это попытка сохранить и воспроизвести те институты, которые в рамках этой попытки были созданы и во многом группируются вокруг институтов и самого принципа национального государства. О каких взаимосвязях идет речь, думаю, в целом уже понятно:
— культурная целостность общества и национальный суверенитет как основание представительной демократии;
— национальная/социально-корпоративная солидарность («горизонтальное братство») как основание социального государства;
— национальный эгоизм промышленной политики (своего рода искусство «закрепощения капитала») как основание экономического богатства;
— стандартизация общества на базе единой высокой культуры как основание современных систем массового образования/воспитания — унаследованная христианская идентичность европейских народов как основание культуры прав человека.
Миссия консерватизма «второй волны» — артикуляция этих непризнанных и, как следствие, рискующих быть утраченными оснований проекта «модерн». И нет смысла напоминать, что эта миссия безнадежна, что история идет куда-то совсем в другую сторону. Консерваторам не привыкать к таким упрекам. Их дело, вновь и вновь, начинается с чувства утраты. Их время, в точности как у «гегелевской» совы Минервы, наступает в сумерки.
Рассмотрим некоторые примеры и проявления этой стратегии продуктивного реванша (реактуализации ценностей традиционного общества в современном). 1) Вторичное открытие «феодальной собственности»: консервативное прочтение капитала Консерватизм будет лучше понят, если мы будем иметь в виду, что его внутренним референтом, психологически значимой доминантой является не столько «традиция», сколько «наследство». Если иметь это в виду, то можно использовать и термин «традиция» — в качестве обозначения для такого специфического наследства, которое не только принадлежит нам, но и существенным образом определяет нас. Собственно, именно таково наследство в его феодально-аристократическом понимании: земельный надел или замок определяют человека, но принадлежат не ему, а его роду. Они требуют сомасштабной субъектности.
Тему наследственного капитала как стержня экономической жизни (в том числе нематериального, невещественного капитала — такого, как знания или язык) разрабатывал А. Мюллер. В его лице преимущественное внимание к теме наследования дало начало вполне оригинальной консервативной политэкономии, главный мотив которой, несколько осовременивая, можно свести к проблеме поддержания нематериальной инфраструктуры публичных благ, связывающей общество и объединяющей его в нацию.
А. Мюллеру принадлежит интересный афоризм о том, что миссия «благородного сословия» «состоит в том, чтобы здесь и теперь защищать от отдельных лиц общую свободу».[8] Благородное сословие не намного пережило самого Адама Мюллера. Но идеология мертвого класса — не всегда мертвая идеология. Запрос на защиту наследственного капитала (как основы общей свободы) остался и приобрел новый масштаб, перейдя с семейно-династического на национальный уровень.
Ни либерализм, ни марксизм не могут адекватно не только решить, но даже поставить эту задачу. Либерализм является преимущественно философией частного капитала. Марксизм гораздо более озабочен трудом, чем наследованием. И обе идеологии — даже в том случае, когда они признают значение культуры как разновидности капитала, — видят в ней скорее абстрактное достояние человечества, чем конкретное, требующее планомерной заботы и воспроизводства национальное наследство.
Особенно важны различия в трактовке проблемы наследственного капитала для рентных государств. У каждой из трех больших идеологий — либерализма, марксизма, консерватизма — есть свои основания быть требовательными к государству. В либеральной модели таким основанием являются налоги: «мы платим налоги, следовательно, можем спрашивать с тех, кто ими распоряжается». В марксистской эту роль играет прибавочная стоимость: государство как агент капитала живет за счет прибавочного продукта, созданного нашим трудом. В консервативной логике, требовательность к государству основана на том, что оно распоряжается совместным наследством (напрямую или определяет правила его использования).
Каждое из этих трех оснований, несомненно, важно. Однако в условиях сегодняшней России первые два из них несущественны либо фиктивны. Мы предъявляем свой счет сегодняшнему государству не потому, что мы налогоплательщики. Большую часть налогов государство получает от крупных корпораций, преимущественно сырьевого сектора. И не потому, что мы — трудящиеся. Ведь корень проблемы не в том, что «олигархический капитал» эксплуатирует наш труд, а в том, что он узурпирует общественный капитал, включающий и овеществленный труд наших предков, и землю с ее недрами.
Какое отношение сегодняшние жители России имеют к тому, что добыто предшествующими поколениями (кстати, не только трудом, но и правом завоевания)? На каком основании мы можем говорить об узурпации наследственного капитала? Дать ответы на эти вопросы может только консервативный подход к проблеме наследственного (в данном случае — национального) капитала.
2) Вторичное открытие «общности»: консервативное прочтение государства
Оппозиция «общности» и «общества» — одна из основополагающих для социологии. Ф. Теннис и другие теоретики, которые ее использовали, как правило, не считали, что современность означает окончательное вытеснение одного принципа социальной связи (принадлежность, свойственная «общности») — другим (расчет и обмен, свойственные «обществу»). Скорее, они говорили об их сосуществовании. Но расширение территории «общества» за счет «общности» ими, несомненно, признавалось и зачастую — в качестве серьезной угрозы.
Проблема реактивации элементов «общины» в «обществе» — сквозная тема размышлений консервативно настроенных социологов. Отчетливо выделяются три линии размышления и три стратегии решения этой задачи:
— корпоративизм как попытка, повысив значение профессиональных сообществ в повседневной и публичной жизни, укрепить промежуточное звено между индивидом и государством (Э. Дюргейм, О. Шпанн);
— национализм как попытка придать самому государству более органический характер, усматривая исторический синтез принципов «общности» и «общества» в нации (В. Зомбарт, Х. Фрайер);
— коммунитаризм как ставка на «демократию участия» в рамках локальных органических сообществ, в том числе вопреки прерогативам государства (Ч. Тейлор, М. Зандель).
Если корпоративизм в целом можно считать исчерпанной попыткой реванша «общности» — сегодня тон задают скорее корпорации капитала, чем корпорации труда, — то две другие линии по-прежнему актуальны. Будучи оппонентами, национализм и коммунитаризм, тем не менее, объединены рядом важных презумпций, характерных для республиканского мировоззрения. В частности,
— убеждением в том, что предпосылкой политической культуры (демократии и гражданства) является наследуемая культура, то есть культура как таковая;
— что предпосылкой человеческого Я является принадлежность сообществу и вовлеченность в историю;
— определением гражданской свободы как свободы участия во власти и публичной сфере, то есть свободы-связанности, а не свободы-эмансипации.
3) Вторичное открытие «аристократизма»: консервативное прочтение личности.
Революция, увиденная глазами Г. В. Ф. Гегеля, представляла собой плодотворный итог диалектики «господина» и «раба», преодоление их оппозиции. Но в самом этом преодолении заключен серьезный цивилизационный вызов — вызов «человеческому типу». За время существования сословного общества «этика господ», этика чести, обособилась от «этики рабов», этики выгоды и самосохранения. Какая этическая система, какая модель человека станет преобладающей в обществе, где снято различие между «господином» и «рабом»? Г. В. Ф. Гегель является оптимистом в этом вопросе, считая, что «гражданство» — это всеобщий аристократизм, господский статус каждого члена политического сообщества, поскольку в акте революции «рабы» этически дотягиваются до «господ» (ставят «признание выше жизни»). Но акт революции неповторим, и возможно, «низы» дотягиваются до аристократических ценностей лишь затем, чтобы их навсегда упразднить. Если вспомнить, с какой остротой ставили этот вопрос Ф. Ницше или Х. Ортега-и-Гассет, противоречие не выглядит снятым. Попытка утвердить в массовом обществе аристократический тип личности как надсословный идеал человека — отдельная и нетривиальная задача для консервативной культурной политики. Удачным примером ее решения В. Цымбурский называет викторианскую Англию, в которой политика ограничения сословных претензий аристократии соединялась с политикой «воспитания неофитов политического класса через закладку идеалов нового надсословного аристократизма — аристократизма жизненной формы».[9] В самом деле, «культ жизненной формы, аристократизм, продвинутый в массы», выработал в английском обществе характерный дух превосходства (выразившийся, например, в своеобразном прочтении «бремени белого человека»).
Но дело не только в эстетической стилизации аристократизма для нужд воспитания буржуазного общества, а в политической этике. Прежняя оппозиция «этики господ» и «этики рабов» в постреволюционном обществе не исчезла, а перешла в новую форму. Например, в форму оппозиции между «гражданином» (носителем обновленной этики чести) и «буржуа» (носителем поднятой на пьедестал этики выгоды).
Консерватизм «второй волны»
Если обобщить эти и подобные примеры контрнаступления консерватизма на современность, то мы придем к не вполне привычному выводу. Вопреки привычному убеждению в обреченности консерватизма, его миссия — если понимать ее именно как миссию продуктивного реванша, реактивации традиционных ценно стей в современной цивилизации (а не поворота современности вспять) — была во многих отношениях успешной. По крайней мере, достаточно успешной для того, чтобы он мог признать за собой соавторство в формировании современного мира. Невольное сотворчество консерватизма и его оппонентов обычно представляют в том смысле, что прогрессисты задавали перспективы и цели развития, а консерваторы предостерегали от излишнего радикализма, чреватого катастрофой. Это не совсем точно. По большей части, консерваторы имели дело с катастрофами, которые уже произошли, и занимались ликвидацией их по следствий. А именно, связыванием тех разрушительных сил, которые вышли наружу с крушением «старого мира» и его «социальной космологии». Чтобы не умножать сущностей и ориентироваться на те примеры, которые были приведены, упомянем в числе таковых: — «капитал», ставший продуктивным для общества лишь благодаря перетолкованию в национальный капитал;
— «аномию», излечиваемую с помощью новых стратегий солидарности (социально-корпоративной, национальной, коммунитарной); — «восстание масс», сдерживаемое на пути превращения аристократического типа личности в культурный образец, стандарт личности как таковой. Можно вспомнить о множестве неудач и поражений, которые потерпел консерватизм на этом пути. Но именно на их фоне особенно отчетливо выделяется одна большая удача. Был создан социальный агрегат, достаточно успешно, в лучшие свои времена, выполнявший перечисленные и близкие к ним задачи. Я имею в виду национальное государство.[10] Его природа и судьба — предмет отдельного разговора. Но сами вызовы, ему адресованные, говорят о новой актуальности консервативной политики в наши дни. Применительно к сегодняшнему дню я бы предложил говорить о таком феномене, как консерватизм «второй волны». Консерватизм «первой волны» — это попытка реактуализировать ценности аграрно-сословного общества в городском, массовом обществе. Консерватизм «второй волны» — это попытка сохранить и воспроизвести те институты, которые в рамках этой попытки были созданы и во многом группируются вокруг институтов и самого принципа национального государства. О каких взаимосвязях идет речь, думаю, в целом уже понятно:
— культурная целостность общества и национальный суверенитет как основание представительной демократии;
— национальная/социально-корпоративная солидарность («горизонтальное братство») как основание социального государства;
— национальный эгоизм промышленной политики (своего рода искусство «закрепощения капитала») как основание экономического богатства;
— стандартизация общества на базе единой высокой культуры как основание современных систем массового образования/воспитания — унаследованная христианская идентичность европейских народов как основание культуры прав человека.
Миссия консерватизма «второй волны» — артикуляция этих непризнанных и, как следствие, рискующих быть утраченными оснований проекта «модерн». И нет смысла напоминать, что эта миссия безнадежна, что история идет куда-то совсем в другую сторону. Консерваторам не привыкать к таким упрекам. Их дело, вновь и вновь, начинается с чувства утраты. Их время, в точности как у «гегелевской» совы Минервы, наступает в сумерки.
Опубликовано в журнале Свободная мысль » №9-10, 2012 год
ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] См. об этом: Б. Г. Капустин. Современность как предмет политической теории. М., 1998.
[2] 2 S. Huntington. Conservatism as an ideology. — «The American Political Science Review». 1957. № 51. P. 469.
[3] Примерно так подходил к вопросу один из наиболее основательных его исследователей — Карл Манхейм. Для него как социолога знания политические идеологии значимы как несводимые друг к другу «стили мышления» (рассматриваемые по аналогии со стилями в искусстве), имеющие свою морфологию и динамику. Французская революция катализировала поляризацию этих стилей мышления, но отнюдь не предопределила навеки ни их повестку, ни их временной горизонт. «Консерватизм, — пиcал Манхейм, — представляет собой… исторически развитую динамичную объективную структурную конфигурацию. Люди переживают опыт и ведут себя консервативным образом (в отличие от традиционалистского) в той и только в той мере, в которой включаются в одну из фаз развития этой объективной мыслительной структуры (обычно в современную им фазу)» (К. Манхейм. Консервативная мысль. — Он же. Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 596).
[4] К. Шмитт. Глоссарий: заметки 1947—1951 гг. — «Социальные и гуманитарные науки». Сер. 4. 1998. № 18. С. 70.
[5] См. А. Макинтайр. После добродетели: исследования теории морали. М., 2000.
[6] См. В. Л. Цымбурский. «Городская революция» и будущее идеологий в России. — Он же. Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы, 1993—2006. М., 2007
[7] О политическом романтизме как «балансире» к Просвещению подробно пишет Курт Хюбнер в своей фундаментальной работе. См. К. Хюбнер. Нация. М., 2001.
[8] Цит. по: К. Хюбнер. Нация. С. 169.
[9] В. Л. Цымбурский. О русском викторианстве. — «Политическое православие: стратегический журнал». 2006. № 2.
[10] Национальное государство часто считают сугубо либеральным или революционно-демократическим проектом. В связи с этим Курт Хюбнер, один из мастодонтов современной консервативной мысли, напоминает, что современное государство — это не только Просвещение, но и политический романтизм вкупе с наследующей ему исторической школой. К этому можно добавить, что исторически национальное государство скорее предшествует Просвещению и революции, чем является их детищем. Я бы сказал, что оно представляет собой своего рода завещание старого порядка, начав формироваться еще при «старом режиме». По сути, идея нации в ее зачаточном виде — это то, от имени чего королевские дворы отнимали прерогативы власти у римских пап и у императоров Священной Римской империи.
[1] См. об этом: Б. Г. Капустин. Современность как предмет политической теории. М., 1998.
[2] 2 S. Huntington. Conservatism as an ideology. — «The American Political Science Review». 1957. № 51. P. 469.
[3] Примерно так подходил к вопросу один из наиболее основательных его исследователей — Карл Манхейм. Для него как социолога знания политические идеологии значимы как несводимые друг к другу «стили мышления» (рассматриваемые по аналогии со стилями в искусстве), имеющие свою морфологию и динамику. Французская революция катализировала поляризацию этих стилей мышления, но отнюдь не предопределила навеки ни их повестку, ни их временной горизонт. «Консерватизм, — пиcал Манхейм, — представляет собой… исторически развитую динамичную объективную структурную конфигурацию. Люди переживают опыт и ведут себя консервативным образом (в отличие от традиционалистского) в той и только в той мере, в которой включаются в одну из фаз развития этой объективной мыслительной структуры (обычно в современную им фазу)» (К. Манхейм. Консервативная мысль. — Он же. Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 596).
[4] К. Шмитт. Глоссарий: заметки 1947—1951 гг. — «Социальные и гуманитарные науки». Сер. 4. 1998. № 18. С. 70.
[5] См. А. Макинтайр. После добродетели: исследования теории морали. М., 2000.
[6] См. В. Л. Цымбурский. «Городская революция» и будущее идеологий в России. — Он же. Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы, 1993—2006. М., 2007
[7] О политическом романтизме как «балансире» к Просвещению подробно пишет Курт Хюбнер в своей фундаментальной работе. См. К. Хюбнер. Нация. М., 2001.
[8] Цит. по: К. Хюбнер. Нация. С. 169.
[9] В. Л. Цымбурский. О русском викторианстве. — «Политическое православие: стратегический журнал». 2006. № 2.
[10] Национальное государство часто считают сугубо либеральным или революционно-демократическим проектом. В связи с этим Курт Хюбнер, один из мастодонтов современной консервативной мысли, напоминает, что современное государство — это не только Просвещение, но и политический романтизм вкупе с наследующей ему исторической школой. К этому можно добавить, что исторически национальное государство скорее предшествует Просвещению и революции, чем является их детищем. Я бы сказал, что оно представляет собой своего рода завещание старого порядка, начав формироваться еще при «старом режиме». По сути, идея нации в ее зачаточном виде — это то, от имени чего королевские дворы отнимали прерогативы власти у римских пап и у императоров Священной Римской империи.