Парадоксы европейского выбора
России и Европе необходимо стратегическое партнерство без интеграции
Сложившуюся атмосферу российско-европейских отношений, особенно в перспективе выработки нового базового соглашения, можно охарактеризовать как взаимную стратегическую неопределенность. И в России, и в ЕС отсутствует понимание не только конечной, но даже промежуточной цели взаимоотношений. Стороны не могут определиться, кем они друг друга хотят видеть.
И это связано не столько с взаимными противоречиями или накопившимся недоверием, сколько с дефицитом исторической идентичности каждой из сторон.
Нельзя сказать, что такое положение дел является чем-то совершенно новым. «Россия и Европа» — старая дилемма русской культуры, которая всегда провоцировала нас на рефлексию о том, является ли Россия частью Европы, должна ли она ею стать и, если должна, то каким образом? В этой рефлексии Россия ставила себя под вопрос, Европа же воспринималась как нечто вполне определенное. Но сегодня ситуация изменилась, и Европа уже не выглядит исторической константой, через которую Россия могла бы себя определить — негативно или позитивно.
На месте одного вопросительного знака появилось два. Дилемма «Россия и Европа» стала задачей с двумя неизвестными.
Попробую пояснить, что я имею в виду, рассмотрев обе стороны этой дилеммы в аспекте их внутренней неопределенности.
РОССИЯ НА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАУЗЕ
Прежде всего, речь идет о геополитическом самоопределении России: готова ли она стать в долгосрочной перспективе независимым полюсом в международной системе, центром кристаллизации собственного регионального блока, либо её будущее связано с участием в европейском интеграционном проекте?
На сегодня этот выбор не сделан с должной мерой ответственности и определенности. Больше того, он не вполне осознан российским истеблишментом, что проявляется как в отношениях с постсоветскими соседями России, так и в отношениях с Западом.
Сложившуюся атмосферу российско-европейских отношений, особенно в перспективе выработки нового базового соглашения, можно охарактеризовать как взаимную стратегическую неопределенность. И в России, и в ЕС отсутствует понимание не только конечной, но даже промежуточной цели взаимоотношений. Стороны не могут определиться, кем они друг друга хотят видеть.
И это связано не столько с взаимными противоречиями или накопившимся недоверием, сколько с дефицитом исторической идентичности каждой из сторон.
Нельзя сказать, что такое положение дел является чем-то совершенно новым. «Россия и Европа» — старая дилемма русской культуры, которая всегда провоцировала нас на рефлексию о том, является ли Россия частью Европы, должна ли она ею стать и, если должна, то каким образом? В этой рефлексии Россия ставила себя под вопрос, Европа же воспринималась как нечто вполне определенное. Но сегодня ситуация изменилась, и Европа уже не выглядит исторической константой, через которую Россия могла бы себя определить — негативно или позитивно.
На месте одного вопросительного знака появилось два. Дилемма «Россия и Европа» стала задачей с двумя неизвестными.
Попробую пояснить, что я имею в виду, рассмотрев обе стороны этой дилеммы в аспекте их внутренней неопределенности.
РОССИЯ НА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАУЗЕ
Прежде всего, речь идет о геополитическом самоопределении России: готова ли она стать в долгосрочной перспективе независимым полюсом в международной системе, центром кристаллизации собственного регионального блока, либо её будущее связано с участием в европейском интеграционном проекте?
На сегодня этот выбор не сделан с должной мерой ответственности и определенности. Больше того, он не вполне осознан российским истеблишментом, что проявляется как в отношениях с постсоветскими соседями России, так и в отношениях с Западом.
Российская правящая элита — как деловая, так и политическая — несомненно, стремится к интеграции в западный мир, связывая с ним свои экономические интересы и жизненные перспективы.
Не случайно Владимир Путин в разное время делал ставку на привилегированное союзничество с США в рамках антитеррористической коалиции, на политический пакт с Германией и Францией, на стратегию взаимопроникновения, обмена активами в энергетической сфере, с опорой на дружественные фигуры в европейской элите. Все эти ставки оказались в основном проигрышными, вследствие чего Москва перешла к риторике мюнхенской речи, а российско-европейские отношения охладились до самого низкого градуса со времен распада СССР.
Сейчас заметно стремление придать им новый импульс. Дмитрий Медведев говорит о совместной с ЕС и США системе безопасности, о единстве «Евро-Атлантического региона от Ванкувера до Владивостока». Больше того, обеспечение этого единства российская внешнеполитическая доктрина, представленная уже при новом президенте, провозглашает в качестве одной из стратегических целей российской политики. Но это больше похоже на демонстрацию благих намерений, чем на ответственное целеполагание.
Союз между Россией, США и Европой гипотетически возможен. Но возможен исключительно как идеологический союз, а не региональный союз по принципу соседства. Разумеется, минимальным условием такого союза является признание Россией идеологического верховенства Запада. Российское руководство об этом прекрасно знает и периодически дает понять, что его это не устраивает. В частности, в уже упомянутой концепции лейтмотивом звучит мысль о разнообразии форм демократии и о необходимости построения деидологизированных отношений с международными партнерами.
Но на базе деидеологизированных отношений войти в Евро-Атлантическое единство невозможно. Поэтому российская дипломатическая мысль рождает вымышленный евро-американо-российский «регион», т.е. пытается выдать предмет своих нереализованных стремлений за некую естественную геополитическую данность.
Диалог о проблемах безопасности, инициируемый Кремлем, вряд ли может стать точкой прорыва в евроатлантическом векторе его политики. Инициатива о заключении нового договора о европейской безопасности отражает вполне законную озабоченность российской дипломатии монополизмом НАТО в вопросах безопасности и неадекватностью ДОВСЕ реалиям постсоветской эпохи, но она лишена необходимой конкретизации в плане альтернатив. Причем, если в случае с ДОВСЕ выработка нового договора взамен устаревшего необходима и возможна, то идея «преодолеть» НАТО в рамках более универсальной, включающей Россию структуры остается утопичной. Об этом прямо говорят представители США и ЕС. Но об этом же говорит и элементарная политическая логика: полноценная коллективная система безопасности — скорее следствие или способ оформления союзнических отношений, чем их порождающая причина. Таким образом, «западнический» выбор российской элиты — сделанный ею, по сути, еще в конце 80-х гг., из соображений, по большей части, весьма низких и конъюнктурных — остается по сей день не подкрепленным сколько-нибудь последовательной и целостной стратегией интеграции России в западный мир.
Не случайно Владимир Путин в разное время делал ставку на привилегированное союзничество с США в рамках антитеррористической коалиции, на политический пакт с Германией и Францией, на стратегию взаимопроникновения, обмена активами в энергетической сфере, с опорой на дружественные фигуры в европейской элите. Все эти ставки оказались в основном проигрышными, вследствие чего Москва перешла к риторике мюнхенской речи, а российско-европейские отношения охладились до самого низкого градуса со времен распада СССР.
Сейчас заметно стремление придать им новый импульс. Дмитрий Медведев говорит о совместной с ЕС и США системе безопасности, о единстве «Евро-Атлантического региона от Ванкувера до Владивостока». Больше того, обеспечение этого единства российская внешнеполитическая доктрина, представленная уже при новом президенте, провозглашает в качестве одной из стратегических целей российской политики. Но это больше похоже на демонстрацию благих намерений, чем на ответственное целеполагание.
Союз между Россией, США и Европой гипотетически возможен. Но возможен исключительно как идеологический союз, а не региональный союз по принципу соседства. Разумеется, минимальным условием такого союза является признание Россией идеологического верховенства Запада. Российское руководство об этом прекрасно знает и периодически дает понять, что его это не устраивает. В частности, в уже упомянутой концепции лейтмотивом звучит мысль о разнообразии форм демократии и о необходимости построения деидологизированных отношений с международными партнерами.
Но на базе деидеологизированных отношений войти в Евро-Атлантическое единство невозможно. Поэтому российская дипломатическая мысль рождает вымышленный евро-американо-российский «регион», т.е. пытается выдать предмет своих нереализованных стремлений за некую естественную геополитическую данность.
Диалог о проблемах безопасности, инициируемый Кремлем, вряд ли может стать точкой прорыва в евроатлантическом векторе его политики. Инициатива о заключении нового договора о европейской безопасности отражает вполне законную озабоченность российской дипломатии монополизмом НАТО в вопросах безопасности и неадекватностью ДОВСЕ реалиям постсоветской эпохи, но она лишена необходимой конкретизации в плане альтернатив. Причем, если в случае с ДОВСЕ выработка нового договора взамен устаревшего необходима и возможна, то идея «преодолеть» НАТО в рамках более универсальной, включающей Россию структуры остается утопичной. Об этом прямо говорят представители США и ЕС. Но об этом же говорит и элементарная политическая логика: полноценная коллективная система безопасности — скорее следствие или способ оформления союзнических отношений, чем их порождающая причина. Таким образом, «западнический» выбор российской элиты — сделанный ею, по сути, еще в конце 80-х гг., из соображений, по большей части, весьма низких и конъюнктурных — остается по сей день не подкрепленным сколько-нибудь последовательной и целостной стратегией интеграции России в западный мир.
“
Таким образом, «западнический» выбор российской элиты — сделанный ею, по сути, еще в конце 80-х гг., из соображений, по большей части, весьма низких и конъюнктурных — остается по сей день не подкрепленным сколько-нибудь последовательной и целостной стратегией интеграции России в западный мир.
Но ровно то же самое можно сказать об отношениях России с ее постсоветской «сферой влияния».
Региональная интеграция постсоветского пространства, которая была заявлена в качестве одного из приоритетов российской политики еще в 90-е гг., почти не продвинулась за минувшее время не только в своей реализации, но даже в проекте.
И это, опять же, предрешено определенными дефектами политического мышления. Москва не устает заявлять о том, что не приемлет блокового мышления, на смену которому, как она считает, идет некая «сетевая дипломатия». Об этом говорится и в уже упомянутой «медведевской» концепции внешней политики. Но результирующая конструкция постсоветской интеграции — если представить себе успешное развитие последней — не может быть ничем иным, кроме как региональным экономическим и военным блоком.
Вне перспективы собственного блокового строительства такие структуры, как ЕврАзЭС или ОДКБ, бессмысленны, если не вредны. Точно так же, как вне этой перспективы совершенно немотивированным выглядит сопротивление Москвы расширению зоны евроатлантического контроля на прирубежные государства.
Коренное противоречие сегодняшней политики РФ состоит в том, что Москва не хочет всерьез заниматься региональным интеграционным проектом, но хочет, чтобы за ней прямо или косвенно признавали региональные «сферы влияния».
Таким образом, Россия уже непозволительно долго держит историческую паузу, не осуществляя, с должной последовательностью, ни интеграции в «евроатлантический мир», ни интеграции собственного «мира» через консолидацию потенциала самодостаточности в рамках постсоветского регионального блока.
Эта затянувшаяся неспособность к историческому выбору предопределена самим стилем российской внешней политики — ее преимущественным «прагматизмом». Способность к историческому выбору требует способности к историческому мышлению, мышлению в категориях «больших длительностей», в категориях геополитических и геокультурных систем. Тогда как российская политика минувших лет выстраивалась исходя из приоритета непосредственных деловых интересов — причем, прежде всего, деловых интересов элит.
Осудить эту стилистику международных отношений следует, пожалуй, не за ее цинизм, а за ее стратегическую наивность, удачным примером которой служит нашумевшая история более чем двухлетней давности. Я имею в виду эксклюзивное предложение Владимира Путина о создании двустороннего энергетического партнерства с Германией в качестве альтернативы единой энергополитике ЕС, вежливо отвергнутое Ангелой Меркель. Совместные бизнес-интересы — важный, но явно недостаточный фермент для стратегических альянсов.
На этой почве невозможна ни интеграция в западную систему союзничества, ни формирование самостоятельного полюса силы.
Думаю, не будет преувеличением сказать, что «прагматизм» элит мешает России обрести свое место в мире. Он был бы вполне извинителен, если бы место в мире было ей гарантировано. Но это, к несчастью, не так.
Региональная интеграция постсоветского пространства, которая была заявлена в качестве одного из приоритетов российской политики еще в 90-е гг., почти не продвинулась за минувшее время не только в своей реализации, но даже в проекте.
И это, опять же, предрешено определенными дефектами политического мышления. Москва не устает заявлять о том, что не приемлет блокового мышления, на смену которому, как она считает, идет некая «сетевая дипломатия». Об этом говорится и в уже упомянутой «медведевской» концепции внешней политики. Но результирующая конструкция постсоветской интеграции — если представить себе успешное развитие последней — не может быть ничем иным, кроме как региональным экономическим и военным блоком.
Вне перспективы собственного блокового строительства такие структуры, как ЕврАзЭС или ОДКБ, бессмысленны, если не вредны. Точно так же, как вне этой перспективы совершенно немотивированным выглядит сопротивление Москвы расширению зоны евроатлантического контроля на прирубежные государства.
Коренное противоречие сегодняшней политики РФ состоит в том, что Москва не хочет всерьез заниматься региональным интеграционным проектом, но хочет, чтобы за ней прямо или косвенно признавали региональные «сферы влияния».
Таким образом, Россия уже непозволительно долго держит историческую паузу, не осуществляя, с должной последовательностью, ни интеграции в «евроатлантический мир», ни интеграции собственного «мира» через консолидацию потенциала самодостаточности в рамках постсоветского регионального блока.
Эта затянувшаяся неспособность к историческому выбору предопределена самим стилем российской внешней политики — ее преимущественным «прагматизмом». Способность к историческому выбору требует способности к историческому мышлению, мышлению в категориях «больших длительностей», в категориях геополитических и геокультурных систем. Тогда как российская политика минувших лет выстраивалась исходя из приоритета непосредственных деловых интересов — причем, прежде всего, деловых интересов элит.
Осудить эту стилистику международных отношений следует, пожалуй, не за ее цинизм, а за ее стратегическую наивность, удачным примером которой служит нашумевшая история более чем двухлетней давности. Я имею в виду эксклюзивное предложение Владимира Путина о создании двустороннего энергетического партнерства с Германией в качестве альтернативы единой энергополитике ЕС, вежливо отвергнутое Ангелой Меркель. Совместные бизнес-интересы — важный, но явно недостаточный фермент для стратегических альянсов.
На этой почве невозможна ни интеграция в западную систему союзничества, ни формирование самостоятельного полюса силы.
Думаю, не будет преувеличением сказать, что «прагматизм» элит мешает России обрести свое место в мире. Он был бы вполне извинителен, если бы место в мире было ей гарантировано. Но это, к несчастью, не так.
Европейский выбор: мнимая очевидность
Многие эксперты в России, понимая, что историческое время работает против нас (особенно в условиях мирового кризиса, обозначившего перспективы нового «отрыва» лидеров развития от «догоняющих» стран и болезненное снижение статуса сырьевых держав), говорят о необходимости форсировать европейский выбор. Как, вроде бы, наиболее очевидный и наиболее простой, не требующий особенных творческих и мобилизационных усилий.
Многие эксперты в России, понимая, что историческое время работает против нас (особенно в условиях мирового кризиса, обозначившего перспективы нового «отрыва» лидеров развития от «догоняющих» стран и болезненное снижение статуса сырьевых держав), говорят о необходимости форсировать европейский выбор. Как, вроде бы, наиболее очевидный и наиболее простой, не требующий особенных творческих и мобилизационных усилий.
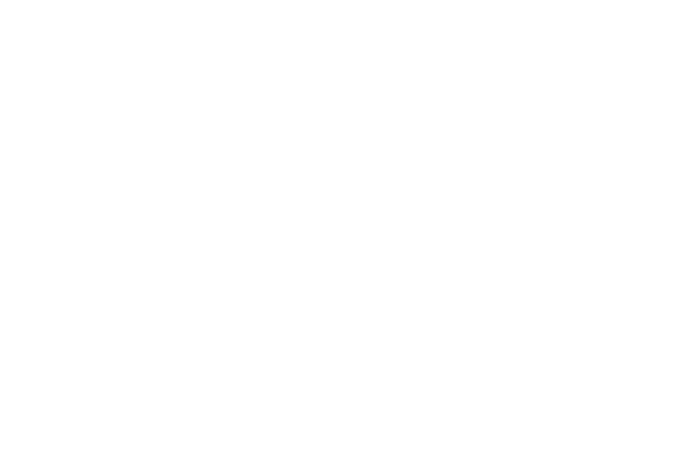
«Наша страна «зажата» между двумя полюсами, сложившимися за годы, прошедшие с распада Советского Союза — причем каждый из этих полюсов все чаще называется западными экспертами новой глобальной империей…
— пишет российский экономист Владислав Иноземцев, имея в виду объединенную Европу и Китай.
Рассчитывать в таком окружении стать самостоятельным центром силы — по меньшей мере рискованно, хотя и не безрассудно. Однако более правильной стратегией выглядит объединение усилий с одним из этих центров для ускорения модернизации. И тут выбор может быть только один: европейский.
(В.Л.Иноземцев. Что такое модернизация и готова ли к ней Россия? // Модернизация России: условия, предпосылки, шансы. Сборник статей и материалов. Выпуск 1. М., 2009).
Автор подчеркивает, что речь идет не о вступлении в Европейский Союз, а о «постепенном, но не избирательном» усвоении его внутренних стандартов, снятии барьеров между Россией и Европой и, главное, о ценностном выборе, который лежал бы в основе подобного сближения.
Такой выбор действительно возможен. Но он далеко не так прост и самоочевиден, как это подчас представляется его сторонникам.
В частности, утверждать, вслед за Иноземцевым, что главным и, по сути, единственным препятствием к этому выбору является «гордыня» российский политиков, «официальный курс которых предполагает создание «великой России»«, — мне кажется нечестным или недальновидным. Дискуссия о европейском выборе России будет явно неполна без проблематизации самой Европы как его предмета.
Чтобы восполнить эту неполноту, попробую сформулировать три тезиса или, если угодно, три парадокса на тему европейского выбора России:
1. Европейский выбор России не преодолевает кризис ее исторической идентичности, но переводит его в новое качество.
2. Своим европейским выбором Россия проблематизирует и выводит из равновесия то, что она «выбирает» — т.е. собственно единую Европу
3. Выбор в пользу интеграции России в единую Европу делает саму Россию страной менее европейской с точки зрения ее внутренней структуры.
Рассмотрим эти тезисы по порядку.
— пишет российский экономист Владислав Иноземцев, имея в виду объединенную Европу и Китай.
Рассчитывать в таком окружении стать самостоятельным центром силы — по меньшей мере рискованно, хотя и не безрассудно. Однако более правильной стратегией выглядит объединение усилий с одним из этих центров для ускорения модернизации. И тут выбор может быть только один: европейский.
(В.Л.Иноземцев. Что такое модернизация и готова ли к ней Россия? // Модернизация России: условия, предпосылки, шансы. Сборник статей и материалов. Выпуск 1. М., 2009).
Автор подчеркивает, что речь идет не о вступлении в Европейский Союз, а о «постепенном, но не избирательном» усвоении его внутренних стандартов, снятии барьеров между Россией и Европой и, главное, о ценностном выборе, который лежал бы в основе подобного сближения.
Такой выбор действительно возможен. Но он далеко не так прост и самоочевиден, как это подчас представляется его сторонникам.
В частности, утверждать, вслед за Иноземцевым, что главным и, по сути, единственным препятствием к этому выбору является «гордыня» российский политиков, «официальный курс которых предполагает создание «великой России»«, — мне кажется нечестным или недальновидным. Дискуссия о европейском выборе России будет явно неполна без проблематизации самой Европы как его предмета.
Чтобы восполнить эту неполноту, попробую сформулировать три тезиса или, если угодно, три парадокса на тему европейского выбора России:
1. Европейский выбор России не преодолевает кризис ее исторической идентичности, но переводит его в новое качество.
2. Своим европейским выбором Россия проблематизирует и выводит из равновесия то, что она «выбирает» — т.е. собственно единую Европу
3. Выбор в пользу интеграции России в единую Европу делает саму Россию страной менее европейской с точки зрения ее внутренней структуры.
Рассмотрим эти тезисы по порядку.
- Ценностный разрывИсследователи европейской интеграции отмечают странную закономерность, присущую развитию ЕС: если на уровне государств-участников Союза суверенитета становится «меньше», то это не значит, что на общеевропейском уровне его становится «больше». Национальные государства теряют свои прерогативы и во многом утрачивают свое лицо, но лицо общеевропейского суверенитета по-прежнему остается размытым. Прежде всего, это проявляется в том, что на уровне Единой Европы не сформировано пространство политического лидерства, соразмерное потенциалу ее административного аппарата. «Евробюрократия» не сбалансирована «европолитикой».
Возможно, принятие Лиссабонского договора, завершись оно успехом, поможет исправить этот дисбаланс, усилив роль общеевропейских представительных институтов (Европейского Парламента, Председателя Евросовета). Но для формирования общеевропейского поля политического лидерства одних лишь институциональных мер недостаточно. Оно предполагает общую цивилизационную идентичность, целостную политическую культуру и историческую мифологию.
Есть ли в Европе эта фундаментальная целостность? В минувшие годы политики и эксперты много говорили о геополитическом расколе между «старой» и «новой» Европой, но гораздо меньше говорилось о более серьезном разрыве — геокультурном.
Мы помним, какое сопротивление вызвала попытка включить в текст европейской конституции тезис о христианских корнях Европы. Противоречия по таким вопросам, как политика ассимиляции, статус меньшинств, биоэтика, политика памяти — не только не идут на спад, но, как иногда кажется, нарастают. Конечно, мне могут напомнить, что эти и им подобные конфликты разворачиваются в рамках базового консенсуса о демократии и правах человека.
Но я рискнул бы предположить, что сам этот консенсус не столько ограничивает конфликт, сколько камуфлирует его.
Так, консенсус о демократии скрывает конфликт вокруг вопроса о том, что есть субъект демократии, что есть «демос» — сообщество граждан, объединенных единой культурой, историей и судьбой или мультикультурный конгломерат общин и индивидов, связанных лишь формальной лояльностью праву?
Консенсус о правах человека скрывает конфликт вокруг вопроса о границах и константах человеческой природы. Вопроса о том, что есть «человек» — мужчина и женщина из «книги Бытия» или полиморфное существо, свободно экспериментирующее с собственной природой на пути технических и биологических трансгрессий?
Здесь, опять же, можно возразить, что эти и им подобные вопросы представляют собой уже вполне привычную повестку культурно-политической войны, которая испытывает на прочность, но отнюдь не разрывает демократические системы национальных государств. Да, это действительно так. Но национальные государства, по большей части, пока выдерживают это испытание на прочность именно в силу того, что остаются национальными. Т.е. содержат в своей «матрице» историческую идентичность, культурную однородность, этику гражданственности.
В «матрицу» же Единой Европы пока не заложено канона идентичности достаточно сильного, для того, чтобы выдержать напор культурной «гражданской войны».
И кроме того, на общеевропейской публичной арене эта война способна приобрести совершенно иной масштаб, чем на публичных аренах отдельных государств. Ведь в этом случае она может вызвать мобилизацию не только индивидов, вовлеченных в идеологические субкультуры, но мобилизацию стран и народов с различными типами политической культуры. К примеру, христианские и националистические общества Восточной или Южной Европы окажутся уже не только конъюнктурно, но идеологически противопоставлены секуляристским и мультикультуралистским «столицам» Евросоюза.
Крейг Калхун в одной из своих работ о национализме рассуждает о том, что в Османской империи «жить в мире было не слишком сложно, потому что различные группы не участвовали в общем обсуждении политических и общественных вопросов…» (Крэйг Калхун. Национализм. М., 2006). Разумеется, в Единой Европе такое обсуждение ведется в несравнимо большей степени, чем в Османской империи. И все же, общеевропейское институциональное пространство бережно ограждается от по-настоящему массовой и агональной политики. И это не злой умысел элит, а отражение неприятного исторического факта: Европа способна чувствовать себя вполне уютно со своим политико-культурным многообразием лишь постольку, поскольку арена ее публичной политики недооформлена. И соответственно, пока не сформировано лицо общеевропейского суверенитета.
От того, каким оно будет, в решающей степени зависят и перспективы европейского самоопределения России. Думать об этом самоопределении мы можем и должны, но не так, как к этому склонны российские западники, которые полагают, будто России достаточно сделать безоговорочный выбор в пользу «европейских ценностей», чтобы разрешить все дилеммы своей истории.
Монолитность, самоочевидность европейской политической культуры — миф, который может существовать лишь на уровне самого поверхностного и сугубо внешнего (т.е. по сути неевропейского) отношения к ней.
Действительное соучастие в европейских ценностях для России исторически равнозначно соучастию во внутриевропейской холодной гражданской войне, которая в разных формах ведется вот уже несколько столетий и которой отнюдь не положен конец постисторической утопией Евросоюза. - Троянский коньПожалуй, в случае крайней исторической нужды, можно было бы принять то поверхностное и, скажем прямо, потребительское отношение к европейской идентичности, о котором сказано выше. Но, при всем желании, у русских это едва ли получится. Россия (в качестве единого целого) вряд ли могла бы войти в большой европейский проект, не привнеся в него своего прочтения европейской идентичности и своих застарелых притязаний на европейское наследство — идейных и геополитических.
Показателен в этом отношении пример Польши. В отличие от своих менее амбициозных соседей, эта страна склонна видеть в европерспективе не happy end своей непростой истории, а форму реализации ее несбывшихся устремлений — своего рода стратегию мягкого реванша. В контурах ее политики влияния без труда угадывается образ незримой Речи Посполитой — геополитического и геокультурного оплота католической Европы на Востоке. Не лишена реваншистского подтекста и евроинтеграционная одержимость Турции. Внутри Евросоюза она могла бы стать точкой сборки своего рода «неоосманского проекта» с опорой на многочисленные диаспоры и мусульманские народы Балкан.
Но разве не могло бы быть чревато чем-то подобным подключение к европейскому проекту такой страны, как Россия? И если от польской самореализации в Европе становится тесно, от турецкой — Европа может затрещать по швам, то как должна выглядеть российская самореализация в качестве внутриевропейской силы?
«Наши западники никогда не желали отдать себе отчет в том, что именно в качестве европейской нации Россия по огромности ее, даже независимо от умыслов ее лидеров, с европейским равновесием несовместима. Напротив, политический истеблишмент Запада очень рано осознал связь нашей европомании с исходящей от нас угрозой этому субконтиненту…» — констатирует российский геополитик Вадим Цымбурский. (Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы. М., 2007).
Казалось бы, не российским авторам беспокоиться о потенциальных угрозах Европе, которые несет Россия, — об этом могут позаботиться и ее недоброжелатели. Но, как показывает тот же Цымбурский в серии работ о циклах российского «похищения Европы», чрезмерное вовлечение России в европейскую игру, в том числе, на основе идеалистически-альтруистических союзнических обязательств, всякий раз вызывало столь невыгодную для России реконфигурацию и консолидацию европейских (в ХХ веке — уже евроатлантических) сил, что последствиями возможного повторения этого опыта должна быть озабочена, прежде всего, сама Россия.
О том, что постановка российского вопроса во внутриевропейском контексте нарушает сложившееся равновесие, свидетельствует не только исторический опыт, но и текущая международная практика (тема изменений в отношениях с Россией столь явно разделяет членов ЕС, что Европа, кажется, остерегается лишний раз ее поднимать), а также — сама логика политического языка евроинтеграции.
Политическое использование образа Европы подразумевает синкретизм сразу нескольких его трактовок: Европа как географическое понятие, Европа как локальная цивилизация, Европа как эталон универсальной цивилизации, Европа как политико-административный проект…
Любая попытка заключить в рамки этого образа Россию — неизбежно разрушает его синкретизм. «Европа от Дублина до Владивостока» — уже, по меньшей мере, не политико-административный проект и не географическое понятие. Паллиативная формулировка «Европы от Атлантики до Урала» пыталась сохранить мнимую географическую естественность образа Европы — ценой усечения образа России. Что лишний раз подтверждает саму тенденцию этих образов к взаимной аннигиляции при попытках их соединения.
И как бы ни оформлялись эти попытки, Европа, включающая в себя Россию, перестает быть естественной, безотчетно принимаемой данностью и становится проблемой. Мысленный эксперимент по включению России в Европу — это, прежде всего, акт проблематизации самой Европы. Точнее это акт ее деконструкции, упраздняющий всю ту конститутивную многозначность, которую несет это имя в современном политическом словаре.
В этом смысле, автор расхожей фразы «Если Россия — тоже Европа, то тогда что такое Европа?» — сказал больше, чем того хотел бы. - Колониальный тупикНачиная, по меньшей мере, с Петра I, «европейский выбор» российской элиты во внешней политике был тесно связан с ее «азиатским выбором» в политике внутренней: закрепощение и сверхэксплуатация низших сословий, социально-культурная сегрегация были ценой, которую платила Россия за интеграцию в европейскую геоэкономическую и геополитическую систему. Об этой закономерности писали многие историки в России и на Западе. Разумеется, ее не стоит абсолютизировать, считать чем-то исторически неизбывным.
Но ее следует иметь в виду и понимать, что это не аномалия, а именно закономерность — определенного, колониального в своей основе, строения мир-экономики. Сегодня она проявляется прежде всего в асимметриях выстроенной в России сырьевой модели экономики.
Российские сторонники «европейского выбора» очень часто говорят об огромном уровне взаимозависимости между Россией и Европой, ссылаясь на гигантские объемы российского газового экспорта в Европу и европейского экспорта потребительских товаров в Россию. Эта взаимозависимость — несомненный факт.
Но если что-то и делает саму Россию страной хоть сколько-нибудь европейской по уровню социально-экономического развития, то это, прежде всего, те остаточные элементы промышленной, научно-технической, социальной инфраструктуры, которые были созданы в период советского экономического изоляционизма. Форсированная модернизация, предпринятая Советским Союзом, а ранее, в более мягких формах, другими странами «догоняющего развития», не осуществлялась и не могла осуществляться в условиях полной открытости более развитому рынку. Впрочем, об абсолютной закрытости можно сказать то же самое. Модернизация — это стратегия избирательной закрытости, которую планомерно реализует государство, исходя из осознанных приоритетов развития.
Но именно режима избирательной закрытости и не допускает перспектива интеграции в европейский рынок на системных условиях ЕС. По меньшей мере, до сей поры, те требования ЕС, которые звучали в рамках диалога о «четырех общих пространствах» или переговоров о вступлении РФ в ВТО, были объективно нацелены именно на консервацию сырьевой структуры российской экономики. В качестве относительно свежего примера, могу сослаться на заявления еврокомиссара по торговле Питера Мандельсона, который на исходе минувшего года объявил войну «ресурсному национализму» стран-партнеров ЕС, пытающихся стимулировать переработку сырья на собственной территории с помощью экспортных пошлин (речь идет не только об энергоносителях — не менее остра, например, тема экспортных пошлин на древесину).
Кстати, российская «сырьевая» элита, ссылаясь на «международное давление», подчас охотно принимает подобные требования — в той их части, которая соответствует ее интересам. Например — в части повышения внутренних тарифов на газ до «европейского уровня», но не в части либерализации газового транзита (по договору к Энергетической хартии).
Напряженная диалектика «энергодиалога Россия — ЕС» заслуживает отдельного рассмотрения. Здесь лишь отмечу, что представители обеих сторон, в целом, разделяют видение России как большой «кочегарки» общеевропейского дома. По-разному им видится только статус российских «кочегаров».
Опять же, не берусь утверждать, что иная модель интеграции невозможна, но сегодня она именно такова: «европейский выбор», понятый как курс «вхождения в Европу» на ее системных условиях, делает Россию страной качественно неевропейской по уровню и типу развития. И это лишь на первый взгляд кажется странным.
Некоторые теоретики «Большой Европы» (такие, как Карл Хаусхоффер) справедливо указывали, что за пределами европейского ядра (где лежат эти пределы — тема отдельной дискуссии) принципом интеграции является не сходство, а различие в уровне развития экономик, обеспечивающее их взаимодополнительность. Эту заведомую неравномерность развития ядра и периферии в рамках «сверхрегионов», объединенных геополитикой пан-идей, Хаусхоффер выразил в категории «Еврафрика».
Вероятно, именно этот несколько эпатирующий и освежающий мысль термин следует рассматривать в качестве ближайшего идеологического предшественника того, что можно назвать «Евроссией».
Все сказанное, повторим, — не аргумент против европейского выбора России как такового, но аргумент против его мнимой доступности и простоты.
Против безотчетного убеждения в том, что где-то совсем рядом выстроена зона лучшего будущего, присоединение к которой может стать спасительным выходом для тех, кто не смог придумать и воплотить свое будущее самостоятельно.
Кстати, именно это убеждение является сутью европейского мифа в его сегодняшней редакции, и оно может стать весьма привлекательным для России на очередном витке ее исторического кризиса.
Здесь я снова сошлюсь на Владислава Иноземцева, который в уже упоминавшейся фундаментальной работе определяет «присоединение» к Европе как «пассивно-эволюционный путь» модернизации России в противовес «инициативно-мобилизационному пути».
На мой взгляд, мы не должны уступать этой иллюзии пассивного спасения. Европейское самоопределение России, если мы сколько-нибудь серьезно к нему относимся, — это историческая дилемма такого уровня, что ее разрешение может выглядеть как угодно, но только не как пассивно-эволюционный путь.
Разрешить эту дилемму для России значило бы, в частности:
Поэтому, когда эксперты утверждают: РФ слишком слаба, чтобы позволить себе изолироваться от процесса европейской интеграции, — я склонен спросить: а не слишком ли она слаба для того, чтобы позволить себе борьбу за участие в большом панъевропейском проекте?
Возможно, на ближайшую перспективу нам стоило бы избежать этой изнурительной борьбы с Европой за право быть ее составной частью?
И для этого, прежде всего, самой России необходимо исключить из российско-европейских отношений ту интеграционную презумпцию, которая по-прежнему в них заключена, даже если она не декларируется громогласно. России и Европе, вместе и по отдельности, необходимо стратегическое партнерство без интеграции.
Надеюсь, что такая постановка вопроса позволит насытить это партнерство весьма амбициозной повесткой. И уверен, что, по меньшей мере, она даст каждой из сторон время для исторического обретения себя, которое, как я пытался показать, в обоих случаях далеко от завершения.
Против безотчетного убеждения в том, что где-то совсем рядом выстроена зона лучшего будущего, присоединение к которой может стать спасительным выходом для тех, кто не смог придумать и воплотить свое будущее самостоятельно.
Кстати, именно это убеждение является сутью европейского мифа в его сегодняшней редакции, и оно может стать весьма привлекательным для России на очередном витке ее исторического кризиса.
Здесь я снова сошлюсь на Владислава Иноземцева, который в уже упоминавшейся фундаментальной работе определяет «присоединение» к Европе как «пассивно-эволюционный путь» модернизации России в противовес «инициативно-мобилизационному пути».
На мой взгляд, мы не должны уступать этой иллюзии пассивного спасения. Европейское самоопределение России, если мы сколько-нибудь серьезно к нему относимся, — это историческая дилемма такого уровня, что ее разрешение может выглядеть как угодно, но только не как пассивно-эволюционный путь.
Разрешить эту дилемму для России значило бы, в частности:
- изнутри, а не извне войти в дискуссию о европейских ценностях, не нарушив при этом того хрупкого идеологического равновесия, которое сложилось сегодня в Европе;
- выстроить гибкую внутриевропейскую линию влияния, предотвратив мобилизацию тех сил, которые не готовы видеть Россию европейским игроком;
- научиться использовать интеграционные и кооперационные связи с европейскими экономическими лидерами в рамках неоиндустриальной, а не колониально-сырьевой стратегии развития.
Поэтому, когда эксперты утверждают: РФ слишком слаба, чтобы позволить себе изолироваться от процесса европейской интеграции, — я склонен спросить: а не слишком ли она слаба для того, чтобы позволить себе борьбу за участие в большом панъевропейском проекте?
Возможно, на ближайшую перспективу нам стоило бы избежать этой изнурительной борьбы с Европой за право быть ее составной частью?
И для этого, прежде всего, самой России необходимо исключить из российско-европейских отношений ту интеграционную презумпцию, которая по-прежнему в них заключена, даже если она не декларируется громогласно. России и Европе, вместе и по отдельности, необходимо стратегическое партнерство без интеграции.
Надеюсь, что такая постановка вопроса позволит насытить это партнерство весьма амбициозной повесткой. И уверен, что, по меньшей мере, она даст каждой из сторон время для исторического обретения себя, которое, как я пытался показать, в обоих случаях далеко от завершения.
Опубликовано в журнале «Лимес». 1 июня 2009 года
