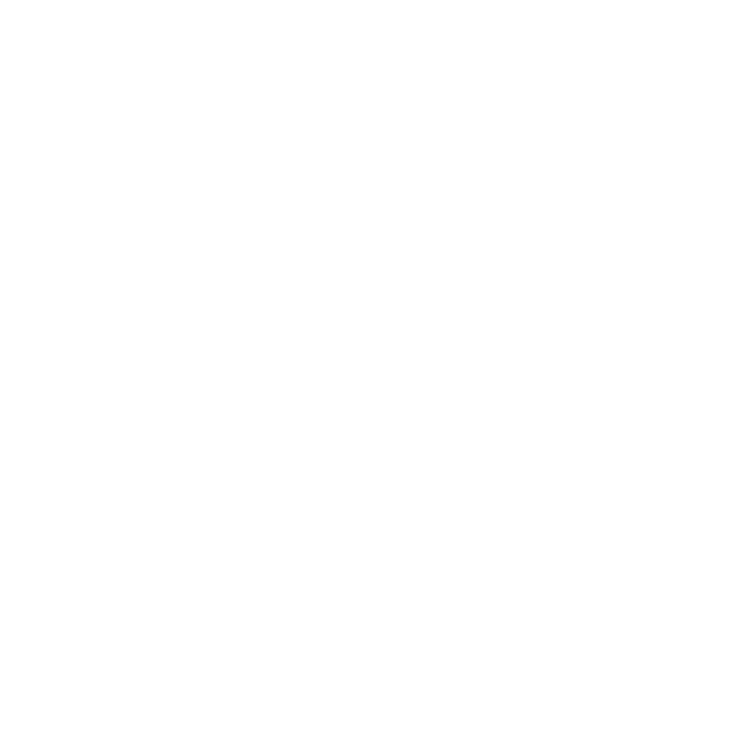Опыты типологии консерватизма
При слове “консерватизм” всякому вольно, вооружившись скептической улыбкой, спросить “так что же вы собираетесь консервировать?”, и, не получив положительно внятного ответа, умозаключить о фиктивности “консерватизма”, по меньшей мере, “отечественного”. Кажущаяся неотразимость этого аргумента сродни обаянию пошлости: достаточно лишь слегка напрячь зрение и усложнить картину, чтобы вопрос “что охранять охранителю?” перестал казаться очередной национальной дилеммой. Ибо всякий консерватизм, точнее, консерватизм как идеология выходит на сцену тогда, когда “консервировать” уже поздно. В этом роковая завязка его политической драмы, динамический источник его внутренних расколов, адресованный только ему вызов, который заставляет консерватора “делать себя вместо того, чтобы просто быть”.
В самом деле, “консервация” имеет смысл лишь по отношению ко вполне определенному иерархически организованному символическому порядку, который превращался в руины по мере становления массовых обществ. Собственно, “массовое общество” и есть “заполнивший собой всё, ставший универсальным и получивший статус реальности остаток рассеивания символического порядка”. В этом определении Бодрийяра для нас важно, что рассеявшийся “символический порядок” все же сохраняет свое значение субстанции общества: устои династической легитимности, религиозной каноники, этики сословных дхарм, взорванные изнутри пресловутым “восстанием масс”, не исчезают в никуда, а ложатся густым осадком на ландшафтах современности. Точками кристаллизации этого осадка становятся, между прочим, и политические идеологии: разрушенный порядок человеческих типов обретает инобытие в виде противостоящих друг другу порядков идей.
Становление консерватизма как идеологии происходит по мере участия в этом процессе, который является, с консервативной же точки зрения, процессом деградации. Если угодно, мы можем говорить о родовой травме консерватизма, внутреннем изъяне, полученном им в самом акте рождения: консерватор наполовину проигрывает, едва начав борьбу, поскольку вынужденное вовлечение в идеологическую дискуссию выглядит в его глазах “предательским знаком того, что дорога ведет вниз”, и равносильно грехопадению. Впору вспомнить ницшевские слова о Сократе, сказанные в совершенно другом контексте, но имеющие прямое отношение к расколотому самосознанию “дискутирующего консерватизма”: “Что сперва требует доказательства, то имеет мало ценности. Всюду, где авторитет относится еще к числу хороших обычаев, где не “обосновывают”, а повелевают, диалектик является чем-то вроде шута”. Но что делать, если участием в шутовской игре аргументированной борьбы мнений так или иначе обусловлено участие в политической современности? Тем более что суррогатные порядки идей, пришедшие на смену символическому порядку общества, относительно оправданы тем, что, на более низком уровне, все же противостоят энтропии массы, позволяя образовывать институты и поддерживать процесс организованной политической борьбы. Кстати, именно поэтому нынешний европейский консерватизм, давно уже не вспоминая об эпохах беспрекословного “авторитета”, продолжает защищать, опять же, почти проигранные бастионы партийной демократии, демократии идеологических идентификаций.
Если говорить все же не о партийном, а об идеологическом и философском консерватизме, то он никогда не мог позволить себе забыть о своей двусмысленности: о странном положении участника “дискуссии”, который выступает против самой дискуссии, по крайней мере, против дискуссии как политической формы. Подспудное и постоянное стремление изжить эту родовую травму легко проследить в полемической манере наиболее тонких консервативных мыслителей. При любом удобном случае они норовят переформулировать полемику идеологий обратно в схватку человеческих типов, борьбу идей — в борьбу людей, используя в отношении своих противников характерно консервативный и, если угодно, оскорбительный антиидеализм взгляда ad hominem. И это не просто полемическая манера, а философская позиция: консервативная герменевтика приглашает прочитывать эпизоды идейных войн антропологически. Идеям отказано в привилегии выражать суть. “Идеи существуют только по отношению к определенным человеческим типам”, — заклинает Шпенглер. И если так, не удивительно, что сам консерватизм ускользает от доктринальных реконструкций в чем-то важнейшем, предполагая, в том числе, в отношении себя антропологически заостренное понимание.
Либеральная и марксистская системы мысли, замкнутые теоретической плотностью идеологически самодостаточного языка, не предполагают, кажется, ничего подобного: они функционируют как бы сами по себе, оставляя вопрос собственного экзистенциального статуса скорее ситуативным и периферийным. Напротив, поле консервативной мысли распадается, лишенное антропологического референта, точки провозглашения, укорененности в авторитете автора. Но “авторитет автора” — не что иное, как стилистический эффект. Или, если угодно, эффект Стиля. Возьмите Берка, Шатобриана, Токвиля, возьмите де Местра и Кортеса, возьмите любой абзац Леонтьева, Ницше, Шпенглера, возьмите для ясности Муссолини, возьмите в конечном счете и Хайдеггера или кого угодно еще, — все это философия, философия и политика, от первого лица. Что само по себе знаменательно: перед лицом массы как продукта распада социальных типов, “реакционное” переживание фокусируется на фигуре “единичного человека”, каковым, чтобы далеко не ходить, консерватор ощущает себя сам. Пафос дистанции, вертикаль, ранговые иерархии, перестав быть феноменом социальной действительности, становятся — феноменом консервативного текста.
Итак, консерватизм как литературный эффект: удовлетворит ли нас такой статус предмета? Впрочем, нельзя сказать, чтобы сам этот статус был прозрачен… Думать о литературе мы можем в соответствии с хайдеггеровской “сущностью искусства”: “истина сущего, полагающаяся в творение”, проективное “воздвижение мира”, материнская замкнутость “земли”, — и будем… в двух шагах от политики. Мы можем думать о литературе, уповая, вслед за Мисимой, на героический “союз меча и пера”, абсолютную полноту эстетического, достигнутую в “деянии” — и будем от политики в шаге. Но пойди, сделай его: мы живем уже слишком долго с тех пор, как прочли блестящий эпилог (“феномен литературы”), которым стало последнее деяние Мисимы, ритуальное самоубийство на плацу. Еще мы можем истолковывать литературу на манер Сартра: как методичную деградацию динамических моментов существования, регрессию аутентичности существования в образ. И здесь — обнаружим явственную параллель с определением Манхейма, который говорит, что по мере распада традиционных структур социальности, рассроченного отмирания органики консервативной стихии, судьбой консерватизма становится “введение в ранг рефлексии и сознательной манипуляции тех форм опыта, которые не могут быть далее сохранены в их аутентичности”.3 Собственно, я возвращаюсь к тому, с чего начал. Консерватизм обретает себя как интеллектуальная и эстетическая реконструкция утраченной “полноты жизни”.
В самом деле, “консервация” имеет смысл лишь по отношению ко вполне определенному иерархически организованному символическому порядку, который превращался в руины по мере становления массовых обществ. Собственно, “массовое общество” и есть “заполнивший собой всё, ставший универсальным и получивший статус реальности остаток рассеивания символического порядка”. В этом определении Бодрийяра для нас важно, что рассеявшийся “символический порядок” все же сохраняет свое значение субстанции общества: устои династической легитимности, религиозной каноники, этики сословных дхарм, взорванные изнутри пресловутым “восстанием масс”, не исчезают в никуда, а ложатся густым осадком на ландшафтах современности. Точками кристаллизации этого осадка становятся, между прочим, и политические идеологии: разрушенный порядок человеческих типов обретает инобытие в виде противостоящих друг другу порядков идей.
Становление консерватизма как идеологии происходит по мере участия в этом процессе, который является, с консервативной же точки зрения, процессом деградации. Если угодно, мы можем говорить о родовой травме консерватизма, внутреннем изъяне, полученном им в самом акте рождения: консерватор наполовину проигрывает, едва начав борьбу, поскольку вынужденное вовлечение в идеологическую дискуссию выглядит в его глазах “предательским знаком того, что дорога ведет вниз”, и равносильно грехопадению. Впору вспомнить ницшевские слова о Сократе, сказанные в совершенно другом контексте, но имеющие прямое отношение к расколотому самосознанию “дискутирующего консерватизма”: “Что сперва требует доказательства, то имеет мало ценности. Всюду, где авторитет относится еще к числу хороших обычаев, где не “обосновывают”, а повелевают, диалектик является чем-то вроде шута”. Но что делать, если участием в шутовской игре аргументированной борьбы мнений так или иначе обусловлено участие в политической современности? Тем более что суррогатные порядки идей, пришедшие на смену символическому порядку общества, относительно оправданы тем, что, на более низком уровне, все же противостоят энтропии массы, позволяя образовывать институты и поддерживать процесс организованной политической борьбы. Кстати, именно поэтому нынешний европейский консерватизм, давно уже не вспоминая об эпохах беспрекословного “авторитета”, продолжает защищать, опять же, почти проигранные бастионы партийной демократии, демократии идеологических идентификаций.
Если говорить все же не о партийном, а об идеологическом и философском консерватизме, то он никогда не мог позволить себе забыть о своей двусмысленности: о странном положении участника “дискуссии”, который выступает против самой дискуссии, по крайней мере, против дискуссии как политической формы. Подспудное и постоянное стремление изжить эту родовую травму легко проследить в полемической манере наиболее тонких консервативных мыслителей. При любом удобном случае они норовят переформулировать полемику идеологий обратно в схватку человеческих типов, борьбу идей — в борьбу людей, используя в отношении своих противников характерно консервативный и, если угодно, оскорбительный антиидеализм взгляда ad hominem. И это не просто полемическая манера, а философская позиция: консервативная герменевтика приглашает прочитывать эпизоды идейных войн антропологически. Идеям отказано в привилегии выражать суть. “Идеи существуют только по отношению к определенным человеческим типам”, — заклинает Шпенглер. И если так, не удивительно, что сам консерватизм ускользает от доктринальных реконструкций в чем-то важнейшем, предполагая, в том числе, в отношении себя антропологически заостренное понимание.
Либеральная и марксистская системы мысли, замкнутые теоретической плотностью идеологически самодостаточного языка, не предполагают, кажется, ничего подобного: они функционируют как бы сами по себе, оставляя вопрос собственного экзистенциального статуса скорее ситуативным и периферийным. Напротив, поле консервативной мысли распадается, лишенное антропологического референта, точки провозглашения, укорененности в авторитете автора. Но “авторитет автора” — не что иное, как стилистический эффект. Или, если угодно, эффект Стиля. Возьмите Берка, Шатобриана, Токвиля, возьмите де Местра и Кортеса, возьмите любой абзац Леонтьева, Ницше, Шпенглера, возьмите для ясности Муссолини, возьмите в конечном счете и Хайдеггера или кого угодно еще, — все это философия, философия и политика, от первого лица. Что само по себе знаменательно: перед лицом массы как продукта распада социальных типов, “реакционное” переживание фокусируется на фигуре “единичного человека”, каковым, чтобы далеко не ходить, консерватор ощущает себя сам. Пафос дистанции, вертикаль, ранговые иерархии, перестав быть феноменом социальной действительности, становятся — феноменом консервативного текста.
Итак, консерватизм как литературный эффект: удовлетворит ли нас такой статус предмета? Впрочем, нельзя сказать, чтобы сам этот статус был прозрачен… Думать о литературе мы можем в соответствии с хайдеггеровской “сущностью искусства”: “истина сущего, полагающаяся в творение”, проективное “воздвижение мира”, материнская замкнутость “земли”, — и будем… в двух шагах от политики. Мы можем думать о литературе, уповая, вслед за Мисимой, на героический “союз меча и пера”, абсолютную полноту эстетического, достигнутую в “деянии” — и будем от политики в шаге. Но пойди, сделай его: мы живем уже слишком долго с тех пор, как прочли блестящий эпилог (“феномен литературы”), которым стало последнее деяние Мисимы, ритуальное самоубийство на плацу. Еще мы можем истолковывать литературу на манер Сартра: как методичную деградацию динамических моментов существования, регрессию аутентичности существования в образ. И здесь — обнаружим явственную параллель с определением Манхейма, который говорит, что по мере распада традиционных структур социальности, рассроченного отмирания органики консервативной стихии, судьбой консерватизма становится “введение в ранг рефлексии и сознательной манипуляции тех форм опыта, которые не могут быть далее сохранены в их аутентичности”.3 Собственно, я возвращаюсь к тому, с чего начал. Консерватизм обретает себя как интеллектуальная и эстетическая реконструкция утраченной “полноты жизни”.
| Единственным потенциальным субъектом мобилизации элит на данный исторический момент представляется институт президентства, ставший за минувшее десятилетие средоточием государственности как таковой. Сегодня в политизированной среде очевидно ожидание нового, медведевского договора с элитами. Идет дискуссия о том, каким он должен быть. Одна из сторон этой дискуссии требует некоей хартии вольностей для элит. Ее оппоненты, как правило, настаивают на сохранении статус-кво, то есть автоматической пролонгации путинского договора с элитами. Обе позиции мне кажутся ошибочными. |
Опыт 1.
“Рыцари невозможного”, или консерватизм “прекрасной души”
“Ему не достает силы отрешения, силы сделаться вещью и выдержать бытие”.
Г. В.Ф.Гегель. Феноменология духа
Проблема политического статуса консерватизма связана с той точкой разрыва в европейской жизни, где “прошлое” перестает быть непосредственным источником легитимности политического порядка и все больше оттесняется в область ни к чему не обязывающего “воспоминания”. С этого условного момента можно вести отсчет политической истории консерватизма, неизбежно выделяя также и слой его предыстории. Примерно так поступает Манхейм, когда пишет о раннеконсервативной фигуре Юстуса Мезера. Обитая в заповеднике сословных порядков, маленьком герцогстве Оснабрюкен, Мезер вовсе “не возвращается в прошлое, но продолжает жить в осколках прошлого, которые еще сохраняются в настоящем… прошлое для него — это не что-то уходящее, а интегральная часть жизни, не только воспоминание, но интенсивное переживание чего-то, что все еще существует и утрата чего является пока только угрозой”. Для творчества ранних консерваторов подобного рода “заповедный ареал” оставался в целом определяющим, и в этом заключена историческая уникальность их ситуации, позволявшей аристократическому мировоззрению выступать в охранительной роли. Однако по мере того, как разрушение “традиционных” оснований политики (и повседневности) перестает быть “только угрозой” и предстает состоявшимся фактом, воспроизведение специфической позиции исходного консерватизма становится все более анахроничным.
Тем не менее, одна из возможностей “консервативного духа” состоит в том, чтобы принять эту анахроничность, поставив себя — сознательно или подспудно — вне политического времени: навсегда остаться внутри собственной предыстории.
Презумпцией политического времени является вера в будущее, чья судьба решается посредством насущной борьбы. В этом смысле раннего консерватора, который, сидя в полуразрушенном герцогском замке, отбивался от зарвавшихся буржуа, еще можно рассматривать как полноценную политическую фигуру — даже если он, как “последний солдат” Шпенглера5, и догадывается о том, что его бастионы будут вот-вот проиграны. Что же до его двойников из иных, позднейших ландшафтов, где “герцогские замки” разделили судьбу Бастилии либо переоборудовались в музей, — то они проходят уже однозначно по части донкихотства, не всегда, впрочем, обладая той трагической чистотой взгляда, что отличала запоздалого испанского рыцаря: рыцаря невозможного.
Итак, наряду с исторически контекстуальным и имеющим четкий временной порог уместности “консерватизмом истоков”, приходится говорить об иного рода консерватизме — “законсервировавшем” самого себя в своем “предысторическом” состоянии. То есть, превратившемся в некую вневременную форму брюзжания, носители которой определены полной бесчувственностью к “диалектике духа”, требующей, среди прочего, умения вовремя подвести под собой черту. Для характеристики этого типа точно подходят слова Хабермаса о т. н. “старо-консерваторах”: “Они не позволяют пристать к себе заразе культурного модерна. Они недоверчиво следят за распадом субстанциального разума, за расхождением науки, морали и искусства, за современным миропониманием с его разве что процедурной рациональностью, рекомендуя в каждом случае возвращение к домодернистским позициям”.
Если говорить о доктринальной стороне вопроса, то опознавательным знаком здесь служит противоестественное в принципиально новых условиях удерживание ценностного ядра “аристократического консерватизма” внутри его прежней охранительной оболочки. “Старо-консерваторы”, если угодно, суть те, кто, потеряв возможность быть “охранителями” в непосредственном социально-политическом смысле (невозможно, с некоторых пор, “охранять” монархическую легитимность и сословную честь, не говоря уж о “привилегиях”…), оставляют, тем не менее, в полной неприкосновенности всю охранительную метафизику. Охранительная метафизика — это система представлений о трансцендентном порядке, востребуемых для того, чтобы осенять данный позитивный порядок, гарантируя его “неприкосновенность”. Но лишенная своего функционально-политического смысла, эта метафизика обречена быть пустой. В рамках консервативного политического поля чистым случаем такого выхолощенного сознания является — монархический “легитимизм”. Возникая в ответ на вызов революции, он не содержит, тем не менее, никакого ответа и представляет собой лишь механически повторяемое требование династической законности в ситуации, где сами основы “Закона” подвергнуты действенному отрицанию. Упорствующий в охранительной метафизике консерватор лишает себя санкции на участие в политической борьбе — ибо в своем послереволюционном фазисе она является борьбой за возможность утверждения новых оснований господства и новых образов порядка; он выступает, с некоторых пор, уже исключительно от имени умопостигаемой властной иерархии, истинность которой, как бы она ни была мотивирована — этически, эстетически, теологически — становится псевдонимом небытия.
Итак, перед нами своего рода консервативный эскапизм, осуществляющий себя в жесте отказа от мира. Отказа, который, как ни странно, может иметь в мире точку своей социальной кристаллизации: Церковь. Укрывшийся за церковной оградой консерватор решает проблему социальной адаптации во враждебном историческом пространстве, но не проблему политического участия. В аспекте политического статуса Церковь — это не ответ, а очередной вопрос, предполагаемый к разрешению субъектом политического консерватизма. Что же касается ультрамонтанов, “интегральных католицистов”, “белых патриотов”, то они обретут за церковными стенами не столько плацдарм для завоевания политического пространства, сколько укромное место, которое позволит им найти себя, обличая дух нигилистической эпохи.
Причем нельзя сказать, чтобы дух эпохи был уязвлен. Ведь он вполне допускает такую ведущуюся из “заповедных зон” критику — и даже предполагает ее в отношении себя. Что означает быть монархистом, когда монархия как тип легитимности не может браться в расчет — “поскольку больше нет королей, и ни у кого не достало бы мужества быть королем иначе, как только по воле народа” (Доносо Кортес)? Это означает саботировать практику, возможную здесь и сейчас, практику раскрепощения власти. Что означает взывание к трансцендентным моральным инстанциям в культурной среде, где они фактически лишены сакрального резонанса? Всего лишь умножение слов, истощение смысла, углубление декаданса.
Клеймя порочную современность, “старо-консерватизм” тем вернее стабилизирует ее — самим способом своего пребывания в ней. “Характеристика экстремистов подходит нам не больше, чем босоножки слону, — пишет один французский роялист. Наша философия, наша доктрина и наше политическое сражение всецело вдохновлены доктриной Церкви”. Разумеется, но разве для того, чтобы в самом деле превратить “доктрину церкви” в “политическое сражение”, не требуется того элемента волюнтаристического, персоналистического — то есть идущего не от имени самой Церкви — решения, которое при желании смогут назвать “экстремизмом”? И раз так, искусственную возможность вести “политическое сражение”, оставаясь, тем не менее, укрытым за церковной стеной, следует отнести уже по другой части: по части описанного в гегелевской “феноменологии духа” прекраснодушного сознания, всегда готового так структурировать действительность, чтобы заранее уготовить себе роль невинного наблюдателя, непонятого пророка или благородной жертвы.
“Рыцари невозможного”, или консерватизм “прекрасной души”
“Ему не достает силы отрешения, силы сделаться вещью и выдержать бытие”.
Г. В.Ф.Гегель. Феноменология духа
Проблема политического статуса консерватизма связана с той точкой разрыва в европейской жизни, где “прошлое” перестает быть непосредственным источником легитимности политического порядка и все больше оттесняется в область ни к чему не обязывающего “воспоминания”. С этого условного момента можно вести отсчет политической истории консерватизма, неизбежно выделяя также и слой его предыстории. Примерно так поступает Манхейм, когда пишет о раннеконсервативной фигуре Юстуса Мезера. Обитая в заповеднике сословных порядков, маленьком герцогстве Оснабрюкен, Мезер вовсе “не возвращается в прошлое, но продолжает жить в осколках прошлого, которые еще сохраняются в настоящем… прошлое для него — это не что-то уходящее, а интегральная часть жизни, не только воспоминание, но интенсивное переживание чего-то, что все еще существует и утрата чего является пока только угрозой”. Для творчества ранних консерваторов подобного рода “заповедный ареал” оставался в целом определяющим, и в этом заключена историческая уникальность их ситуации, позволявшей аристократическому мировоззрению выступать в охранительной роли. Однако по мере того, как разрушение “традиционных” оснований политики (и повседневности) перестает быть “только угрозой” и предстает состоявшимся фактом, воспроизведение специфической позиции исходного консерватизма становится все более анахроничным.
Тем не менее, одна из возможностей “консервативного духа” состоит в том, чтобы принять эту анахроничность, поставив себя — сознательно или подспудно — вне политического времени: навсегда остаться внутри собственной предыстории.
Презумпцией политического времени является вера в будущее, чья судьба решается посредством насущной борьбы. В этом смысле раннего консерватора, который, сидя в полуразрушенном герцогском замке, отбивался от зарвавшихся буржуа, еще можно рассматривать как полноценную политическую фигуру — даже если он, как “последний солдат” Шпенглера5, и догадывается о том, что его бастионы будут вот-вот проиграны. Что же до его двойников из иных, позднейших ландшафтов, где “герцогские замки” разделили судьбу Бастилии либо переоборудовались в музей, — то они проходят уже однозначно по части донкихотства, не всегда, впрочем, обладая той трагической чистотой взгляда, что отличала запоздалого испанского рыцаря: рыцаря невозможного.
Итак, наряду с исторически контекстуальным и имеющим четкий временной порог уместности “консерватизмом истоков”, приходится говорить об иного рода консерватизме — “законсервировавшем” самого себя в своем “предысторическом” состоянии. То есть, превратившемся в некую вневременную форму брюзжания, носители которой определены полной бесчувственностью к “диалектике духа”, требующей, среди прочего, умения вовремя подвести под собой черту. Для характеристики этого типа точно подходят слова Хабермаса о т. н. “старо-консерваторах”: “Они не позволяют пристать к себе заразе культурного модерна. Они недоверчиво следят за распадом субстанциального разума, за расхождением науки, морали и искусства, за современным миропониманием с его разве что процедурной рациональностью, рекомендуя в каждом случае возвращение к домодернистским позициям”.
Если говорить о доктринальной стороне вопроса, то опознавательным знаком здесь служит противоестественное в принципиально новых условиях удерживание ценностного ядра “аристократического консерватизма” внутри его прежней охранительной оболочки. “Старо-консерваторы”, если угодно, суть те, кто, потеряв возможность быть “охранителями” в непосредственном социально-политическом смысле (невозможно, с некоторых пор, “охранять” монархическую легитимность и сословную честь, не говоря уж о “привилегиях”…), оставляют, тем не менее, в полной неприкосновенности всю охранительную метафизику. Охранительная метафизика — это система представлений о трансцендентном порядке, востребуемых для того, чтобы осенять данный позитивный порядок, гарантируя его “неприкосновенность”. Но лишенная своего функционально-политического смысла, эта метафизика обречена быть пустой. В рамках консервативного политического поля чистым случаем такого выхолощенного сознания является — монархический “легитимизм”. Возникая в ответ на вызов революции, он не содержит, тем не менее, никакого ответа и представляет собой лишь механически повторяемое требование династической законности в ситуации, где сами основы “Закона” подвергнуты действенному отрицанию. Упорствующий в охранительной метафизике консерватор лишает себя санкции на участие в политической борьбе — ибо в своем послереволюционном фазисе она является борьбой за возможность утверждения новых оснований господства и новых образов порядка; он выступает, с некоторых пор, уже исключительно от имени умопостигаемой властной иерархии, истинность которой, как бы она ни была мотивирована — этически, эстетически, теологически — становится псевдонимом небытия.
Итак, перед нами своего рода консервативный эскапизм, осуществляющий себя в жесте отказа от мира. Отказа, который, как ни странно, может иметь в мире точку своей социальной кристаллизации: Церковь. Укрывшийся за церковной оградой консерватор решает проблему социальной адаптации во враждебном историческом пространстве, но не проблему политического участия. В аспекте политического статуса Церковь — это не ответ, а очередной вопрос, предполагаемый к разрешению субъектом политического консерватизма. Что же касается ультрамонтанов, “интегральных католицистов”, “белых патриотов”, то они обретут за церковными стенами не столько плацдарм для завоевания политического пространства, сколько укромное место, которое позволит им найти себя, обличая дух нигилистической эпохи.
Причем нельзя сказать, чтобы дух эпохи был уязвлен. Ведь он вполне допускает такую ведущуюся из “заповедных зон” критику — и даже предполагает ее в отношении себя. Что означает быть монархистом, когда монархия как тип легитимности не может браться в расчет — “поскольку больше нет королей, и ни у кого не достало бы мужества быть королем иначе, как только по воле народа” (Доносо Кортес)? Это означает саботировать практику, возможную здесь и сейчас, практику раскрепощения власти. Что означает взывание к трансцендентным моральным инстанциям в культурной среде, где они фактически лишены сакрального резонанса? Всего лишь умножение слов, истощение смысла, углубление декаданса.
Клеймя порочную современность, “старо-консерватизм” тем вернее стабилизирует ее — самим способом своего пребывания в ней. “Характеристика экстремистов подходит нам не больше, чем босоножки слону, — пишет один французский роялист. Наша философия, наша доктрина и наше политическое сражение всецело вдохновлены доктриной Церкви”. Разумеется, но разве для того, чтобы в самом деле превратить “доктрину церкви” в “политическое сражение”, не требуется того элемента волюнтаристического, персоналистического — то есть идущего не от имени самой Церкви — решения, которое при желании смогут назвать “экстремизмом”? И раз так, искусственную возможность вести “политическое сражение”, оставаясь, тем не менее, укрытым за церковной стеной, следует отнести уже по другой части: по части описанного в гегелевской “феноменологии духа” прекраснодушного сознания, всегда готового так структурировать действительность, чтобы заранее уготовить себе роль невинного наблюдателя, непонятого пророка или благородной жертвы.
“
Что означает быть монархистом, когда монархия как тип легитимности не может браться в расчет — “поскольку больше нет королей, и ни у кого не достало бы мужества быть королем иначе, как только по воле народа” (Доносо Кортес)? Это означает саботировать практику, возможную здесь и сейчас, практику раскрепощения власти. Что означает взывание к трансцендентным моральным инстанциям в культурной среде, где они фактически лишены сакрального резонанса? Всего лишь умножение слов, истощение смысла, углубление декаданса.
Опыт 2.
“Реалисты”, или консерватизм статус-кво
“Чиновник отождествляет позитивный порядок, предписанный конкретным законом, с порядком как таковым и не понимает того, что любой рационализированный порядок есть не что иное, как… компромисс между метарациональными борющимися в данном пространстве силами”.
Карл Манхейм. Идеология и утопия
Осевой вызов политической истории консерватизма лежит в области философии времени и связан с необходимостью выстроить свою временную позицию так, чтобы она не была преодолена и снята линейным временем; обосновать прошлое так, чтобы оно не оставалось “всего-лишь-прошлым”. Двигаясь из этой осевой точки, дифференцируются друг от друга различные типы консерватизма и расходятся в разные стороны консерваторы. Если один из них находит убежище от “времени прогресса” в предрешенном и не-политическом времени “священной истории”, то другой, отчасти разочарованный, но не лишенный политического темперамента, спешит заверить свою причастность идущей победным маршем эпохе. Настоящее, — говорит он в таком случае, — лишь последняя точка, которой достигло прошлое8; ситуацию движения должно мыслить в оптике исторически сложившихся данностей. В линейном, накопительном времени индустриальной демократии этот консерватор берет на себя функцию статического элемента, неотъемлемого от любого движения. Вот та вполне респектабельная вакансия, что будет его входным билетом на раскочегаренный паровоз современности — и он успеет-таки заскочить на подножку.
Политическая механика этой машины уже успела стать ветхой, как паровой двигатель. Революционные и прочие, всегда левые, радикалы в гуманистическом дерзновении духа проективно прочерчивают траектории, рельсы, по которым идти паровозу. “Реалисты”, охлаждая их пыл, напоминают о градуированной логике преодоления пространства и тем самым гарантируют механизм от взрывов и скоростных перегрузок. Формула безопасности проста: всегда придерживаться того, что “непосредственно дано, действительно и конкретно”9. Консервативный смысл этой формулы именно в том, что “действительность” выступает как форма политического инобытия “прошлого” — единственно санкционированная “временем прогресса”.
Если в своей реалистической ипостаси консерватизм навсегда зарекается от вражды с “духом эпохи”, то ему остается все же изгонять кое-каких из ее духов — мелких бесов леворадикального ребячества, демонов революционного проекта. И здесь консерватизм статус-кво наследует тону и аргументации “раннего консерватизма”, — оттесняя в прошлое его “чересчур аристократическое” ценностное содержание, но поднимая на щит его охранительную методологию. Держа в памяти историю революционного становления политических институтов “модерна”, раннеконсервативная мысль оформила антиреволюционную стратегию социальности на основе критики рационализма.
Просветители, по словам Токвиля, уверовали, “что на место многосложных и традиционных обычаев, правящих современным им обществом, следует поставить простые и элементарные правила, почерпнутые в разуме и естественном праве”. Этой методологически наивной революционной инженерии консерватизм противопоставил гносеологический скепсис и органический подход к обществу. Берк, де Местр и прочие единодушны в том, чтобы провозгласить иррациональность и нередуцируемое многообразие действительности в противовес схематической статике и ограниченности разума. Познание и, в частности, социальное знание предстают в лучшем случае условностью, в худшем — доктринальным насилием над жизнью. Общество полагается таким образом некой “истиной в себе”, которую нельзя анатомировать, не упустив ее, и перестраивать, не нарушив. Значит, единственным залогом социального порядка — а социальный хаос для всех консерваторов есть нечто стоящее за дверью — предстает сама данность “общественных порядков”.
Внутри этого аргументативного поля консерваторы делаются “реалистами” уже не только в обыденно-политическом, но и в более существенном, теоретико-познавательном, смысле слова. Общество как “истина в себе” противопоставлено у них любой возможной, теоретической и идеологической, репрезентации общества. И здесь “реалисты” не избегают эпистемологической наивности, разоблачению которой посвятит себя другая консервативная школа в лице ницшеанской философии жизни. Что притязание на знание или разумное устроение общества всегда иллюзорно (“не критично”) — эта наиболее общая убежденность консервативного духа остается, конечно, в силе. Но в ней ничто еще не дает нам права стандартно подытоживать: “будем же реалистами”. Напротив, — заявит Ницше, — “нужно сознаться себе в том, что не существовало бы никакой жизни, если бы фундаментом ей не служили перспективные оценки и мнимости…”. Иллюзия имманентна “жизни” и, в том числе, социальной действительности. Полагание общества “истиной в себе”, по отношению к которой всякий проект — лишь доктринальное насилие, — грешит против существа дела: общество конституируется как таковое незнанием, ограниченной оценкой, завышенным притязанием… “Реализм”, третирующий логику проекта, закрывает глаза на “важнейшее условие всякой деятельности, именно, ту слепоту и ту несправедливость, которые царствуют в душе каждого деятеля”, — если угодно, на самою ткань истории.
Отвергая политическую правомерность проекта, “реалисты” охраняют в качестве священной спонтанности социума ту конкретную социальную ситуацию, которая восходит к динамическому распределению общественных сил, руководимых, каждая своей, проективной односторонностью. Не сложно увидеть: будь все “реалистами”, никакой ситуации могло бы вообще не возникнуть. В социологическом смысле носителем консервативного “реализма” являются бюрократы, дистанцированные от любой из идеологических программ, мало смыслящие в метарациональности политической борьбы, но не медлящие проникать во все поры любого рождаемого в ее недрах ситуативного порядка.
Ценой за возможность занимать место в промежутках между различными идеологическими репрезентациями общества — а как еще, спрашивается, олицетворять статус-кво? — платой за эту вездесущность становится строгое табу на идеологию. И в конечном счете, — доктринальная нищета, которую европейские “новые правые” ставят в упрек “старым”, видя в ней знак вырождения “системного” консерватизма. “Было бы большой ошибкой полагать, — пишет Ален де Бенуа, — что правое движение, боящееся даже называть себя таковым, сможет долго удерживаться при власти, ибо его немота сводит на нет ту психологическую питательную среду, в которую погружены его корни”.
Те из идеологов “консерватизма статус-кво”, кто все же имеет вкус к теоретизации, спешат на свой лад подтвердить обвинения “новых правых”, заявляя что консерватизм как таковой и не должен быть идеологией. Что он не образует никакой особенной идеологической позиции, а является формулой их практического компромисса — между собой и с действительностью. Подобное обоснование консервативной позиции мы встречаем у нынешних апологетов отечественного “либерального консерватизма”. Отстаивая правомерность режущего слух словосочетания, они предлагают считать, что консерватизм является рефлексией универсальных условий социального порядка и поэтому должен составлять нередуцируемую бытийную предпосылку каких бы то ни было политических мировоззрений, если, конечно, те хотят слыть “цивилизованными”.
Антитезой консерватизма становится в таком случае уже не либерализм или социализм — благодаря собственной немоте он сможет образовывать с ними свободные союзы, — а радикализм. То есть форма мысли, конфликтной по отношению к существующему “порядку” и идущей достаточно далеко, чтобы ставить под вопрос систему “мирообразующих” конвенций.
“Реалисты”, или консерватизм статус-кво
“Чиновник отождествляет позитивный порядок, предписанный конкретным законом, с порядком как таковым и не понимает того, что любой рационализированный порядок есть не что иное, как… компромисс между метарациональными борющимися в данном пространстве силами”.
Карл Манхейм. Идеология и утопия
Осевой вызов политической истории консерватизма лежит в области философии времени и связан с необходимостью выстроить свою временную позицию так, чтобы она не была преодолена и снята линейным временем; обосновать прошлое так, чтобы оно не оставалось “всего-лишь-прошлым”. Двигаясь из этой осевой точки, дифференцируются друг от друга различные типы консерватизма и расходятся в разные стороны консерваторы. Если один из них находит убежище от “времени прогресса” в предрешенном и не-политическом времени “священной истории”, то другой, отчасти разочарованный, но не лишенный политического темперамента, спешит заверить свою причастность идущей победным маршем эпохе. Настоящее, — говорит он в таком случае, — лишь последняя точка, которой достигло прошлое8; ситуацию движения должно мыслить в оптике исторически сложившихся данностей. В линейном, накопительном времени индустриальной демократии этот консерватор берет на себя функцию статического элемента, неотъемлемого от любого движения. Вот та вполне респектабельная вакансия, что будет его входным билетом на раскочегаренный паровоз современности — и он успеет-таки заскочить на подножку.
Политическая механика этой машины уже успела стать ветхой, как паровой двигатель. Революционные и прочие, всегда левые, радикалы в гуманистическом дерзновении духа проективно прочерчивают траектории, рельсы, по которым идти паровозу. “Реалисты”, охлаждая их пыл, напоминают о градуированной логике преодоления пространства и тем самым гарантируют механизм от взрывов и скоростных перегрузок. Формула безопасности проста: всегда придерживаться того, что “непосредственно дано, действительно и конкретно”9. Консервативный смысл этой формулы именно в том, что “действительность” выступает как форма политического инобытия “прошлого” — единственно санкционированная “временем прогресса”.
Если в своей реалистической ипостаси консерватизм навсегда зарекается от вражды с “духом эпохи”, то ему остается все же изгонять кое-каких из ее духов — мелких бесов леворадикального ребячества, демонов революционного проекта. И здесь консерватизм статус-кво наследует тону и аргументации “раннего консерватизма”, — оттесняя в прошлое его “чересчур аристократическое” ценностное содержание, но поднимая на щит его охранительную методологию. Держа в памяти историю революционного становления политических институтов “модерна”, раннеконсервативная мысль оформила антиреволюционную стратегию социальности на основе критики рационализма.
Просветители, по словам Токвиля, уверовали, “что на место многосложных и традиционных обычаев, правящих современным им обществом, следует поставить простые и элементарные правила, почерпнутые в разуме и естественном праве”. Этой методологически наивной революционной инженерии консерватизм противопоставил гносеологический скепсис и органический подход к обществу. Берк, де Местр и прочие единодушны в том, чтобы провозгласить иррациональность и нередуцируемое многообразие действительности в противовес схематической статике и ограниченности разума. Познание и, в частности, социальное знание предстают в лучшем случае условностью, в худшем — доктринальным насилием над жизнью. Общество полагается таким образом некой “истиной в себе”, которую нельзя анатомировать, не упустив ее, и перестраивать, не нарушив. Значит, единственным залогом социального порядка — а социальный хаос для всех консерваторов есть нечто стоящее за дверью — предстает сама данность “общественных порядков”.
Внутри этого аргументативного поля консерваторы делаются “реалистами” уже не только в обыденно-политическом, но и в более существенном, теоретико-познавательном, смысле слова. Общество как “истина в себе” противопоставлено у них любой возможной, теоретической и идеологической, репрезентации общества. И здесь “реалисты” не избегают эпистемологической наивности, разоблачению которой посвятит себя другая консервативная школа в лице ницшеанской философии жизни. Что притязание на знание или разумное устроение общества всегда иллюзорно (“не критично”) — эта наиболее общая убежденность консервативного духа остается, конечно, в силе. Но в ней ничто еще не дает нам права стандартно подытоживать: “будем же реалистами”. Напротив, — заявит Ницше, — “нужно сознаться себе в том, что не существовало бы никакой жизни, если бы фундаментом ей не служили перспективные оценки и мнимости…”. Иллюзия имманентна “жизни” и, в том числе, социальной действительности. Полагание общества “истиной в себе”, по отношению к которой всякий проект — лишь доктринальное насилие, — грешит против существа дела: общество конституируется как таковое незнанием, ограниченной оценкой, завышенным притязанием… “Реализм”, третирующий логику проекта, закрывает глаза на “важнейшее условие всякой деятельности, именно, ту слепоту и ту несправедливость, которые царствуют в душе каждого деятеля”, — если угодно, на самою ткань истории.
Отвергая политическую правомерность проекта, “реалисты” охраняют в качестве священной спонтанности социума ту конкретную социальную ситуацию, которая восходит к динамическому распределению общественных сил, руководимых, каждая своей, проективной односторонностью. Не сложно увидеть: будь все “реалистами”, никакой ситуации могло бы вообще не возникнуть. В социологическом смысле носителем консервативного “реализма” являются бюрократы, дистанцированные от любой из идеологических программ, мало смыслящие в метарациональности политической борьбы, но не медлящие проникать во все поры любого рождаемого в ее недрах ситуативного порядка.
Ценой за возможность занимать место в промежутках между различными идеологическими репрезентациями общества — а как еще, спрашивается, олицетворять статус-кво? — платой за эту вездесущность становится строгое табу на идеологию. И в конечном счете, — доктринальная нищета, которую европейские “новые правые” ставят в упрек “старым”, видя в ней знак вырождения “системного” консерватизма. “Было бы большой ошибкой полагать, — пишет Ален де Бенуа, — что правое движение, боящееся даже называть себя таковым, сможет долго удерживаться при власти, ибо его немота сводит на нет ту психологическую питательную среду, в которую погружены его корни”.
Те из идеологов “консерватизма статус-кво”, кто все же имеет вкус к теоретизации, спешат на свой лад подтвердить обвинения “новых правых”, заявляя что консерватизм как таковой и не должен быть идеологией. Что он не образует никакой особенной идеологической позиции, а является формулой их практического компромисса — между собой и с действительностью. Подобное обоснование консервативной позиции мы встречаем у нынешних апологетов отечественного “либерального консерватизма”. Отстаивая правомерность режущего слух словосочетания, они предлагают считать, что консерватизм является рефлексией универсальных условий социального порядка и поэтому должен составлять нередуцируемую бытийную предпосылку каких бы то ни было политических мировоззрений, если, конечно, те хотят слыть “цивилизованными”.
Антитезой консерватизма становится в таком случае уже не либерализм или социализм — благодаря собственной немоте он сможет образовывать с ними свободные союзы, — а радикализм. То есть форма мысли, конфликтной по отношению к существующему “порядку” и идущей достаточно далеко, чтобы ставить под вопрос систему “мирообразующих” конвенций.
“
Ценой за возможность занимать место в промежутках между различными идеологическими репрезентациями общества — а как еще, спрашивается, олицетворять статус-кво? — платой за эту вездесущность становится строгое табу на идеологию. И в конечном счете, — доктринальная нищета, которую европейские “новые правые” ставят в упрек “старым”, видя в ней знак вырождения “системного” консерватизма.
Опыт 3.
“Циники”, или радикальные реалисты
“Заключается ли смысл исторического поучения в счастье или в резиньяции, в добродетели или в покаянии, в этом над-исторические люди никогда не были согласны между собой; но в противоположность всем историческим точкам зрения на прошлое, все они с полным единодушием приходят к одному выводу: прошлое и настоящее — это одно и то же, именно нечто, при всем видимом многообразии типически одинаковое и, как постоянное повторение непреходящих типов, представляющее собой неподвижный образ неизменной ценности и вечно одинакового значения”.
Фридрих Ницше
Консерватизм статус-кво размещает себя в поступательном времени, он фиксирует и статически обособляет некий последний момент его движения, успевающий между тем становиться “предпоследним”. Он, возможно, считает хорошим консервативным тоном отставать от своего времени на полшага, но при этом отказывается видеть: то, что структурирует время в качестве куда-то “идущего”, в качестве поступательного, есть заведомо воздвигнутая перед ним цель, контрабандой привносимый в историю рассроченный “идеал”. “Реализм” умеренно-правых выступает, таким образом, не чем иным, как изощренной формой конформизма по отношению к телеологии утопического времени. Увидеть это со всей ясностью — лишь вопрос адекватной рефлексии, переводящей “реализм” на иную глубину, где калейдоскопическая изменчивость сменяющих друг друга исторических порывов отступает на второй план перед монотонной инвариантностью “начал”. Здесь консерватизм вершит свой великий реванш над норовящей сделать из него вечного неудачника линейной историей. Он анатомирует ее и, освобождая от ложной фигуры в-себе-значимой цели, возвращает ей аутентичную форму “вечного возвращения того же самого”. Именно такова история, предстающая читателям Макиавелли; именно таков метафизический подтекст цинизма как “презрения к идеалу”. “Идеалы — это трусость”, — пригвоздит Шпенлер, — поскольку служат лишь тому, чтобы заслониться от политической механики бытия, монотонно вращающей карусель жизни, размежеваться с ультраконсервативной реальностью “вечного возвращения”. Измыслить линейную историю с хорошим концом.
В том, что касается проблематики счастливого конца, “циников” назовут также “пессимистами”, чем, впрочем, выдадут недопонимание. Скепсис консерватора по поводу прогресса нравов и хилиастических утопий сродни презрительной мине эстета по поводу очередного happy end’а. Стандартно охолаживающее “но это невозможно” — лишь то, что выносится наружу. В последнем же счете дело не в “пессимизме”, а в противоположной оценке вещей. “Благоденствие, как вы его понимаете, — ведь это не цель, нам кажется, что это конец! Состояние, делающее человека тотчас же смешным и презренным, — заставляющее желать его гибели!” (Ницше).
Достаточно много сказано о “пессимистической антропологии” консерватизма, где инстинкты — господства, вражды, обладания — всячески верховодят этической благонамеренностью. Но, опять же, “пессимистической” она будет лишь при взгляде со стороны (со стороны социал-демократа, христианского гуманиста или кого-то еще). Ницше в некотором роде признавался, что во всей этой “пессимистической антропологии” слишком выдавал желаемое за действительное, и Шпенглер, торжественно возвещая: “Ибо человек является хищником!”, — разве не ведет себя как оптимист, боящийся увидеть “карликовое животное”. “А то, что превращение человека в карликовое животное, с равными правами и притязаниями возможно, — ответит Ницше, — в этом нет сомнения. Кто продумал когда-нибудь эту возможность, тот знает одной мерзостью больше…”. Если “циники” — все же “пессимисты”, то потому лишь, что все меньше верят в свою “пессимистическую антропологию”.
“Циники” суть реалисты, вещающие от имени фундаментальных реалий, и оные реалии фундаментальны также тем, что выполняют жизненно необходимую функцию оценки и о-смысления универсума. Политический “цинизм” макиавеллиевского толка было бы не совсем верно истолковывать как подчеркнутое ни-во-что-не-верие. Консерватор циничного духа верит, а именно — “в то, что есть”. И это, вопреки первому впечатлению, очень немало, ибо речь не идет о тривиальной экзальтации технической рациональностью. Последняя по определению инструментальна и, следовательно, просто возвращает нас в вопросе “како веруешь?” на шаг назад. “Техническая рациональность” остается в силе, но “технократу”, право же, надо расти в глубину, чтобы быть “циником”. Та базовая действительность, которой привержен “цинизм” консервативного духа — инстинкты, властные диспозиции, неумолимость борьбы и смерти — являются для него не чем иным, как химической формулой жизни, над “жизнью” же нет ничего, она — то единственное, что неотъемлемым образом позитивно. Фундаментально истолкованная фактичность — альфа и омега консервативной, имманентной оценки вещей. “То, чему стоит быть, будет, то, чему стоило быть, уже есть” (Ален де Бенуа).
Резонно заметить, что это “имманентное” мышление о ценностях, при желании, сообщает такой вещи, как эффективность, непосредственный этический смысл, в обход какой бы то ни было внешней моральной оценки. Собственно, в этом подоплека веберовской “этики ответственности” (сознание, ориентированное на результат), противопоставленной им “этике убеждений” (сознание, ориентированное на морально безупречный образ действия). Эффективность, имеющая этический смысл — отнюдь не “цель, оправдывающая средства”, а скорее результат, выводящий по ту сторону оправданий. Эта логика первенства фактичности рефреном звучит в паретовской теории элит. Коль скоро отвлеченное моральное или философское оправдание власти правящего меньшинства может браться в расчет лишь на правах инструментального мифа, элита, которая одерживает верх, оправдана самим фактом успеха. Тщетно рассчитывать создать “лучшую, чем теперь, власть” средствами политического идеализма и морализации. Абстрактное долженствование антиполитично. Остается рассчитывать на имманентную логику властвования, и факт, что общество всегда управляется не демократически, а организованным меньшинством — факт, на котором не без успеха и не без удовольствия настаивал “цинический” разум Парето, Моска, Михельса — вполне компенсирован тем, что правящее меньшинство способно удержать господство тогда и только тогда, когда оно достойно взятых на себя функций. Приверженность действительному в глубине его фактичности означает резко контрастирующее с леволиберальными разговорами о “неизбежном зле” доверие к логике власти в смысле ее возрастания. В этом скрытое Да политического “цинизма”. Чуждые “политической романтике”, “циники” суть тайные романтики политического.
Адепты “демократической” политологии, вероятно, захотели бы в привычных категориях квалифицировать этот образ власти. Скажу по совести: он скорее “авторитарен”, а не “тоталитарен”. Здесь нет той спаянности и “предустановленной гармонии” правящих и управляемых, которой отмечен собственно “тоталитарный” идеал. Тоталитарный идеал в своей метафизике демократичен. Тоталитаризм — действенный миф, делающий возможным в самом глубоком смысле едино-душие. “Цинизм” — аналитика мифа, и ему довлеет перспектива разделения. Каково бы ни было содержание владеющей обществом идеи, макиавеллическая герменевтика сделает акцент на ее инструментальном значении для элит, на ее функции по опосредованию господства. Власть правящего меньшинства — фундаментальная реальность, и у нее есть реальные задачи, которые все могут быть описаны в терминах возрастания власти. Власть, как она увидена в “циничной” оптике, знает об этом и задействует всяческие слова лишь в инструментальном ключе. В том числе, и слово “народ”. В монокле “циников” власть безнадежно одинока…
Свое “бремя”, заключенное в созерцании разрыва между монотонным монизмом смысла и фейерверком слов, между инвариантностью инстинктов и буффонадой жестов, “циники” мыслят как глубоко “элитарное”. Они знают о спасительности иллюзий и именно поэтому предпочитают оставаться в меньшинстве. Главное предостережение “циничного” консерватизма — предостережение от себя самого! — в полный голос звучит у Ницше. “Если… учения о верховенстве становления, о текучести всех понятий, типов и родов, об отсутствии всякого различия между человеком и животным, — учения, которые я считаю хотя и истинными, но смертоносными, — будут хотя бы в течение одного человеческого века распространяться среди народных масс, то никто не должен удивляться тому, что народ будет гибнуть благодаря эгоистической мелочности и эгоистическому ничтожеству…, предварительно расколовшись на части и перестав быть народом”. Недаром Парето признался: “Если бы мой трактат (имеется в виду “Трактат по общей социологии”) имел много читателей, я бы его не написал”.
И все же цинические истины консерватизма имеют смысл не только в своей сокрытости, но и в своей сказанности… Знание, на поверку, не всегда жизневраждебно, и иллюзия не всегда спасительна; “раса испорчена, — возвестит тот же Ницше, — не пороками своими, а неведением. Она испорчена потому, что истощение восприняла не как истощение: ошибки в физиологии суть причины всех зол”. “Циники” ставят мораль с головы на ноги — и в плане работы над “ошибками в физиологии” бывают миру полезны. Особенно тому миру, где упадок жизни приветствуется как “повышение” ее “уровня” и каждый новый симптом декаданса встречается “с осторожным оптимизмом”.
“Циники”, или радикальные реалисты
“Заключается ли смысл исторического поучения в счастье или в резиньяции, в добродетели или в покаянии, в этом над-исторические люди никогда не были согласны между собой; но в противоположность всем историческим точкам зрения на прошлое, все они с полным единодушием приходят к одному выводу: прошлое и настоящее — это одно и то же, именно нечто, при всем видимом многообразии типически одинаковое и, как постоянное повторение непреходящих типов, представляющее собой неподвижный образ неизменной ценности и вечно одинакового значения”.
Фридрих Ницше
Консерватизм статус-кво размещает себя в поступательном времени, он фиксирует и статически обособляет некий последний момент его движения, успевающий между тем становиться “предпоследним”. Он, возможно, считает хорошим консервативным тоном отставать от своего времени на полшага, но при этом отказывается видеть: то, что структурирует время в качестве куда-то “идущего”, в качестве поступательного, есть заведомо воздвигнутая перед ним цель, контрабандой привносимый в историю рассроченный “идеал”. “Реализм” умеренно-правых выступает, таким образом, не чем иным, как изощренной формой конформизма по отношению к телеологии утопического времени. Увидеть это со всей ясностью — лишь вопрос адекватной рефлексии, переводящей “реализм” на иную глубину, где калейдоскопическая изменчивость сменяющих друг друга исторических порывов отступает на второй план перед монотонной инвариантностью “начал”. Здесь консерватизм вершит свой великий реванш над норовящей сделать из него вечного неудачника линейной историей. Он анатомирует ее и, освобождая от ложной фигуры в-себе-значимой цели, возвращает ей аутентичную форму “вечного возвращения того же самого”. Именно такова история, предстающая читателям Макиавелли; именно таков метафизический подтекст цинизма как “презрения к идеалу”. “Идеалы — это трусость”, — пригвоздит Шпенлер, — поскольку служат лишь тому, чтобы заслониться от политической механики бытия, монотонно вращающей карусель жизни, размежеваться с ультраконсервативной реальностью “вечного возвращения”. Измыслить линейную историю с хорошим концом.
В том, что касается проблематики счастливого конца, “циников” назовут также “пессимистами”, чем, впрочем, выдадут недопонимание. Скепсис консерватора по поводу прогресса нравов и хилиастических утопий сродни презрительной мине эстета по поводу очередного happy end’а. Стандартно охолаживающее “но это невозможно” — лишь то, что выносится наружу. В последнем же счете дело не в “пессимизме”, а в противоположной оценке вещей. “Благоденствие, как вы его понимаете, — ведь это не цель, нам кажется, что это конец! Состояние, делающее человека тотчас же смешным и презренным, — заставляющее желать его гибели!” (Ницше).
Достаточно много сказано о “пессимистической антропологии” консерватизма, где инстинкты — господства, вражды, обладания — всячески верховодят этической благонамеренностью. Но, опять же, “пессимистической” она будет лишь при взгляде со стороны (со стороны социал-демократа, христианского гуманиста или кого-то еще). Ницше в некотором роде признавался, что во всей этой “пессимистической антропологии” слишком выдавал желаемое за действительное, и Шпенглер, торжественно возвещая: “Ибо человек является хищником!”, — разве не ведет себя как оптимист, боящийся увидеть “карликовое животное”. “А то, что превращение человека в карликовое животное, с равными правами и притязаниями возможно, — ответит Ницше, — в этом нет сомнения. Кто продумал когда-нибудь эту возможность, тот знает одной мерзостью больше…”. Если “циники” — все же “пессимисты”, то потому лишь, что все меньше верят в свою “пессимистическую антропологию”.
“Циники” суть реалисты, вещающие от имени фундаментальных реалий, и оные реалии фундаментальны также тем, что выполняют жизненно необходимую функцию оценки и о-смысления универсума. Политический “цинизм” макиавеллиевского толка было бы не совсем верно истолковывать как подчеркнутое ни-во-что-не-верие. Консерватор циничного духа верит, а именно — “в то, что есть”. И это, вопреки первому впечатлению, очень немало, ибо речь не идет о тривиальной экзальтации технической рациональностью. Последняя по определению инструментальна и, следовательно, просто возвращает нас в вопросе “како веруешь?” на шаг назад. “Техническая рациональность” остается в силе, но “технократу”, право же, надо расти в глубину, чтобы быть “циником”. Та базовая действительность, которой привержен “цинизм” консервативного духа — инстинкты, властные диспозиции, неумолимость борьбы и смерти — являются для него не чем иным, как химической формулой жизни, над “жизнью” же нет ничего, она — то единственное, что неотъемлемым образом позитивно. Фундаментально истолкованная фактичность — альфа и омега консервативной, имманентной оценки вещей. “То, чему стоит быть, будет, то, чему стоило быть, уже есть” (Ален де Бенуа).
Резонно заметить, что это “имманентное” мышление о ценностях, при желании, сообщает такой вещи, как эффективность, непосредственный этический смысл, в обход какой бы то ни было внешней моральной оценки. Собственно, в этом подоплека веберовской “этики ответственности” (сознание, ориентированное на результат), противопоставленной им “этике убеждений” (сознание, ориентированное на морально безупречный образ действия). Эффективность, имеющая этический смысл — отнюдь не “цель, оправдывающая средства”, а скорее результат, выводящий по ту сторону оправданий. Эта логика первенства фактичности рефреном звучит в паретовской теории элит. Коль скоро отвлеченное моральное или философское оправдание власти правящего меньшинства может браться в расчет лишь на правах инструментального мифа, элита, которая одерживает верх, оправдана самим фактом успеха. Тщетно рассчитывать создать “лучшую, чем теперь, власть” средствами политического идеализма и морализации. Абстрактное долженствование антиполитично. Остается рассчитывать на имманентную логику властвования, и факт, что общество всегда управляется не демократически, а организованным меньшинством — факт, на котором не без успеха и не без удовольствия настаивал “цинический” разум Парето, Моска, Михельса — вполне компенсирован тем, что правящее меньшинство способно удержать господство тогда и только тогда, когда оно достойно взятых на себя функций. Приверженность действительному в глубине его фактичности означает резко контрастирующее с леволиберальными разговорами о “неизбежном зле” доверие к логике власти в смысле ее возрастания. В этом скрытое Да политического “цинизма”. Чуждые “политической романтике”, “циники” суть тайные романтики политического.
Адепты “демократической” политологии, вероятно, захотели бы в привычных категориях квалифицировать этот образ власти. Скажу по совести: он скорее “авторитарен”, а не “тоталитарен”. Здесь нет той спаянности и “предустановленной гармонии” правящих и управляемых, которой отмечен собственно “тоталитарный” идеал. Тоталитарный идеал в своей метафизике демократичен. Тоталитаризм — действенный миф, делающий возможным в самом глубоком смысле едино-душие. “Цинизм” — аналитика мифа, и ему довлеет перспектива разделения. Каково бы ни было содержание владеющей обществом идеи, макиавеллическая герменевтика сделает акцент на ее инструментальном значении для элит, на ее функции по опосредованию господства. Власть правящего меньшинства — фундаментальная реальность, и у нее есть реальные задачи, которые все могут быть описаны в терминах возрастания власти. Власть, как она увидена в “циничной” оптике, знает об этом и задействует всяческие слова лишь в инструментальном ключе. В том числе, и слово “народ”. В монокле “циников” власть безнадежно одинока…
Свое “бремя”, заключенное в созерцании разрыва между монотонным монизмом смысла и фейерверком слов, между инвариантностью инстинктов и буффонадой жестов, “циники” мыслят как глубоко “элитарное”. Они знают о спасительности иллюзий и именно поэтому предпочитают оставаться в меньшинстве. Главное предостережение “циничного” консерватизма — предостережение от себя самого! — в полный голос звучит у Ницше. “Если… учения о верховенстве становления, о текучести всех понятий, типов и родов, об отсутствии всякого различия между человеком и животным, — учения, которые я считаю хотя и истинными, но смертоносными, — будут хотя бы в течение одного человеческого века распространяться среди народных масс, то никто не должен удивляться тому, что народ будет гибнуть благодаря эгоистической мелочности и эгоистическому ничтожеству…, предварительно расколовшись на части и перестав быть народом”. Недаром Парето признался: “Если бы мой трактат (имеется в виду “Трактат по общей социологии”) имел много читателей, я бы его не написал”.
И все же цинические истины консерватизма имеют смысл не только в своей сокрытости, но и в своей сказанности… Знание, на поверку, не всегда жизневраждебно, и иллюзия не всегда спасительна; “раса испорчена, — возвестит тот же Ницше, — не пороками своими, а неведением. Она испорчена потому, что истощение восприняла не как истощение: ошибки в физиологии суть причины всех зол”. “Циники” ставят мораль с головы на ноги — и в плане работы над “ошибками в физиологии” бывают миру полезны. Особенно тому миру, где упадок жизни приветствуется как “повышение” ее “уровня” и каждый новый симптом декаданса встречается “с осторожным оптимизмом”.
Опыт 4.
“Экстремисты”
“Либо в универсуме есть порядок, и задача человека состоит в том, чтобы ему соответствовать: установление публичного порядка смешивается тогда с отысканием истины, и сущность политического сводится к морали. Либо универсум есть хаос, и задача, которую человек может на себя взять, в том, чтобы дать ему форму”.
Ален де Бенуа.
В своем масштабном анализе феноменов “цинического разума” Слотердайк часто именует рассматриваемый нами род консервативного цинизма — “господским цинизмом”. Что вполне резонно, раз уж в своих отправных точках он развертывается из (гипотетической) перспективы правящей элиты, претендуя быть чем-то вроде ее невыговоренного “знания”. Консервативна та власть, которая расположена к рефлексии внутренних оснований своего господства. Чем более просвещенным является ее сознание, тем больше оно восстает против интенций Просвещения и противопоставляет им свой макиавеллически прочувствованный циклизм, стоящий по ту сторону прогрессистских и реакционных утопий; антиуниверсализм, предстающий в том, что касается социального порядка как чувство ранга и апология неравенства; имморализм, питающийся не только ницшеанскими токами, но и гегельянски навеянными представлениями о диалектике исторических взаимопревращений добра и зла…
Словом, речь идет о той самой картине мира, на почве которой при определенных условиях возрастает правого стиля “экстремизм”. Он является внутренней возможностью, изнаночной стороной “господского цинизма” и представляет собой, по существу, не что иное, как философию абсолютного действия на вооружении у не-господских, а, допустим, только стремящихся к господству слоев: на вооружении социально обездоленной контрэлиты. Вполне осознав это, мы заручились бы изрядным багажом иронии, подобным глотку свежего воздуха в риторическом удушье наших дней. Приговор очевиден: власть, которая бы и в самом деле вознамерилась устранить мировоззренческую возможность “экстремизма”, должна была бы начать с самоубийства (по меньшей мере — в форме нарочитого, благонамеренного, безоговорочного самооглупления). Что представляет собой все же чрезмерную цену за ложно понятый идеал безопасности.
Глубокая симметрия и потаенное родство между позициями “властителя” и “революционера”, разумеется, не составляют секрета. “Господский цинизм” первого и “экстремизм” второго с равным успехом постигают, что за всем изображаемым как “закон” скрыты властные и силовые диспозиции. Разница будет состоять лишь в том, что для одного скепсис по поводу “закона” (или “традиции” или всего, носящего их имя) станет поводом воспроизводить условия его поддержания, для другого — искать возможности его ниспровержения: лишь затем, чтобы водрузить на месте закостеневшей иллюзии порядка новую, омоложенную, но типологически родственную конструкцию легитимного господства. Мера самосознания “ниспровергателя”, она же мера его консервативного такта, прямо пропорциональна пониманию — не важно, рассудочному или инстинктивному — своего места внутри круга “вечного возвращения” власти.
Подлинным мифическим прототипом консервативного истолкования революции можно считать поэтому метафизический эпос Гераклита о мирах, сменяющих друг друга в фазах “возгорающегося” огня. Решение приветствовать в революционном разрушении возможность нового созидания хорошо знакома многим отнюдь не прогрессистски настроенным мыслителям, нашедшим себя на изломе модерна. Применительно к миру символических форм и применительно к ситуации консерватора, потерянного в руинах старых культурных миров, Ницше описывает эту стратегию как путь “активного”, или “экстатического” нигилизма, суть которого вполне явствует из комментария Алена де Бенуа. “Именно в тот момент, когда старые “абсолюты”, разоблаченные в своем качестве конвенций, наконец вполне в нем предстают, необходимо так же, как всегда, создавать новые нормы, новые “конвенции” с тем большей силой, для того, чтобы в свою очередь они предстали грядущим поколениям в виде столь же “естественных”, как те, что были известны нашим предшественникам” (Ален де Бенуа).
Как видим, проповедуемый Ницше и подхватываемый де Бенуа “активный нигилизм” — в гораздо меньшей степени шальная воля к разрушению мира (тем более, если тот уже разрушен), чем отчаянная воля к его созданию из ничего. “Мужество установления новой объективности, исходя из субъективности, которая знает себя как таковую”/
“Создание из ничего” — попытка писать из головы и с листа, и первым делом “экстремистская” метафизика смахнула со стола, вместе с ворохом пожелтевших архивных бумаг, идею исторической объективности, посредством которой политический консерватизм долгое время связывал себе руки. Вера ультраконсервативных кругов, как мы застаем их в начале ХХ века, в возможность исторического реванша или, выражаясь более возвышенно, исторического творчества требовала отказа от историцистской гипотезы, “согласно которой в истории существует некая связь событий и форм, благодаря чему все в той или иной степени имеет значение, соответствующее его месту в истории, и не все может произойти всегда”(Манхейм).
Историзм снимается в пользу активизма “над-исторической” точки зрения (автор “несвоевременных размышлений” сказал бы, что сама история от этого только выигрывает) — вот экстремальный жест, вводящий консерватора в поле классически понятого фашизма, для которого — фиксирует тот же Манхейм — “любая историческая концепция есть просто конструкция, фикция, которую следует уничтожить в пользу прорывающегося сквозь историческое время действия”. Эта утопически заостренная философия истории свернута в обыгранном “Заратустрой” образе сферы. История — это сфера, и неупорядоченное множество потенциально бесконечных сферических траекторий призвано иллюстрировать взлелеянную реваншизмом веру: “история может в любой момент развиваться в любом направлении, при условии, что достаточно сильная воля навяжет ей свое движение” (Ален де Бенуа). Итак, история пойдет туда, куда ей прикажут, а миры творятся из ничего — в этом апофеозе субъекта фашизм становится идеологией свободы в самом предельном и антилиберальном смысле слова.
Постольку, поскольку “апофеоз субъекта” получает не только метафизическое, но и политическое заострение, в опыт радикального консерватизма в качестве неисчерпаемого источника вдохновения входит ленинизм, понятый как культ организованного контрэлитного меньшинства, задавшегося целью осуществить свою волю или, по большому счету, просто осуществиться (“Наша программа очень проста, — говаривал Муссолини. — Мы хотим управлять Италией”) вопреки какому бы то ни было сопротивлению общественного субстрата. Очищенный от объективистских, историцистских мотивов, которыми в случае самого ленинизма этот культ еще прикрывался, он заостряется здесь уже совершенно гностически.
П. Козловски, идя по следам позднего, увлеченного герметизмом Юнгера, отмечает, что мировоззрения гностического стиля “имеют тенденцию формировать жречество, которое не верит в то, что проповедует”. И в самом деле, если интрига самого ленинизма осуществляется в зазоре между исторической необходимостью и осознанно форсирующей ее партийной волей, то в случае правого, гностически перерожденного ленинизма партийное жречество охвачено иной диалектикой: диалектикой сорелевской открытости опыту мифа — уже потерявшего свое естественное место в структуре космоса, но вновь вводимого в игру на правах эстетического феномена, социально-психологического комплекса, эпистемологической конструкции… Консервативный нигилизм принимает “экстремистские” обертона именно там, где за мифом как эпистемологической конструкцией он сохраняет, упорствует сохранить психологической смысл мифа как сокровенного достояния “жизненного мира”. В этом упорстве скрыта возвышенная драма. Ведь последние, запоздалые, рефлексивно отягощенные мифы так же, как и все прежние, суть требование жертвы.
К морфологии консервативной утопии.
Вместо заключения/
Если господский “цинизм” и контрэлитный “экстремизм” предстали в сделанном очерке как разные антропологические модусы общей, радикально-консервативной картины мира, то следует сказать, что весьма схожей симметрией отмечена и предыдущая типологическая пара: бюрократический “реализм” и религиозно морализирующий консерватизм “прекрасной души”. Она образует континуум традиционного консерватизма.
В физиогномическом смысле реалистический консерватизм статус-кво и традиционалистский консерватизм “прекрасной души” предстают антиподами. Однако антиподами, чья взаимная дополнительность достаточно красноречива и позволяет утверждать, что здесь мы тоже имеем дело с сосуществованием двух экзистенциальных модальностей внутри общего каркаса онтологических презумпций. Эти презумпции сводимы в общих чертах к телеологии линейной истории и статической метафизике порядка. И то, и другое благоприятствует политическому конформизму консерватора, капитулирующего перед наличной исторической данностью, и создает между “архаическим” и “реалистическим” консерватизмом узы глубокого функционального родства.
Здесь впору вспомнить различение “идеологии” и “утопии”, как оно проводится Манхеймом. Для его “социологии знания” та и другая суть формы “ложного сознания”, маскирующего “бытие” как “постоянно функционирующее и действительно существующее жизненное устройство”. Равно подверженные в этом качестве процедуре “критики идеологии”, они различаются своей установкой: “идеология” стабилизирует существующее положение дел, фиксируя его средствами картины мира и лишая присущую действительности динамику качественного смысла; “утопия” как “трансцендентная по отношению к действительности” ориентация видит в существующем на данный момент порядке вещей точку отталкивания и предвещает при своем переходе в действие его радикальную трансформацию. Консерватизм статус-кво и консерватизм “прекрасной души”, при всей их формальной противоположности, представляют собой в указанном смысле классическую (и возможно, не будет передержкой сказать “двуединую”) идеологию. В отношении последнего это может показаться странным: он чужд современности и нарочито порицает ее, “рекомендуя в каждом случае возврат к домодернистским позициям”. Но у того же Манхейма прочтем: “Не каждую ориентацию, не соответствующую данному “бытию”, являющуюся трансцендентной по отношению к нему и в этом смысле “чуждой действительности”, мы назовем утопичной. Мы будем считать утопичной лишь ту “трансцендентную по отношению к действительности” ориентацию, которая, переходя в действие, частично или полностью взрывает существующий в данный момент порядок вещей”. В этом смысле “архаического” стиля консерватизм идеологичен: он поддерживает веру в окончательность “антитрадиционного” уклада даже там и в особенности там, где будто бы противостоит ему.
Стремление проблематизировать господствующую систему отношений всерьез связано с радикальной тенденцией консерватизма. “Радикальной” является попытка менять ситуацию на уровне ее “кодов”, но это должно иметь смысл, очевидно, лишь применительно к той ситуации, которая столь же радикально нас не устраивает. Историческому консерватизму такой мотив отторжения изначально знаком. Он — заведомо опоздавший. Для него налицо все предпосылки ощутить себя аутсайдером “линейной истории”, ибо та дает ему прошлое, на которое нельзя опереться, и настоящее, в котором нельзя обустроиться: обустроиться иначе, чем на правах церковной приживалки или сторожевого пса действительности, основы которой — “упадочны”.
Представления об “упадке”, пожалуй, и являются тем внутренним лейтмотивом консервативной мысли, отправляясь от которого она может оформить собственную форму действенно-утопического сознания. Тот консерватизм, что схватывает действительность через инстанцию статус-кво, заведомо лишен возможности осмысленно ставить вопрос о ее упадке — это потребовало бы включения недоступной ему перспективы, выходящей за пределы конъюнктурного “теперь”. Самое большее, на что он пригоден, — это “морально осудить” те или иные “аспекты” сложившегося порядка как “недостатки”, допускающие реформистское разрешение в его же (сложившегося порядка) рамках. Между тем, концепция упадочной действительности имеет в своей основе отнюдь не моральную оценку, а онтологическое суждение: если нечто налично данное в нем и осуждается, то не от имени “верховных ценностей”, а от имени действительности более фундаментальной, оттесненной, подвергнутой порче или забвению, но — именно постольку, поскольку она действительна, а не идеальна, — способной привести себя к реконструкции. В основе идеологем “упадка” лежит представление о бытии, которое не тождественно самому себе (себе-тождественное политическое бытие мы будем обречены мыслить как раз в терминах статус-кво) и которое может приближаться к этому тождеству либо утрачивать его в ходе некоего принципиально незавершимого процесса. О бытии, которое, как у пифагорейцев, “вдыхает” в себя небытие, создавая универсум, чья “онтологическая плотность” может варьировать.
Именно в этой картине мира становится возможной диалектика, благодаря которой консерватизм способен обнаружить, что выступать на стороне статус-кво отнюдь не всегда значит выступать на стороне действительного. Требование “держаться бытия” и “воздерживаться от идеала” не подлежит сомнению, но оно играет поистине дурную шутку с тем “реалистом”, кто, следуя статическому истолкованию порядка и привязывая себя к непосредственно данному, с головой ангажируется в “реальность”, переполненную пустотой. Жалкая участь — быть центристом там, где налицо патологическая разбалансировка. “Быть реалистом” там, где речь идет о нарушении “инстанции реального” и необходимости ее принудительного восстановления.
“Принцип реальности” является той внутренней опорной точкой, из которой консервативное сознание разворачивает свое контрнаступление на подверженный фальсификациям мир. Слотердайк выражает самую суть, когда признается, что “глубочайшее предназначение прогрессивности” состоит в том, чтобы “стронуть сам принцип реальности с места”. В той мере, в какой это прогрессистское “разжижение” бытия делается возможно, консервативный реализм вынужден требовать восстановления его “онтологической плотности” (разве не таков смысл ницшевских воззваний о “раскрепощении воли к власти”?), оформляясь в своего рода “антиутопическую утопию”: “антиутопическую” — поскольку она заострена против раскрепощенного мышления, перерастающего в симуляцию, против артефактов “политического идеализма”; “утопию” — поскольку эти артефакты проникают в саму ткань общественных отношений, сообщая совокупной действительности “неподлинный” характер.
Если “консервативная утопия” или, если угодно, “анти-утопия”, не может обойтись без экзистенциалистской апелляции к “подлинности”, то это, разумеется, не случайно. Экзистенциализм воссоздает особую диалектику жизни, имеющей тенденцию к самоотчуждению, и видит свою сверхзадачу в преодолении и деконструкции этой упадочной тенденции. Он претендует периодически возвращать жизнь к ее “началам”. В точности таким же образом может быть осмыслена политическая миссия консерватизма. Разумеется, при условии, что сама феноменология жизни освобождается здесь от своей интроспективной, эгоцентрической нагрузки и получает социологическое заострение (в этом нет ничего невозможного, раз коллективное существование не менее достоверно, чем индивидуальное, в глазах консерватора).
Но чтобы возвращать “жизнь” к ее “истоку” или, если угодно, “реальность” к ее “принципу”, этот “принцип” нужно, некоторым образом, “знать”. За прояснением вопроса о его содержании мы можем снова обратиться к Слотердайку, говорящему, что в сердцевине консервативного сознания лежит особого рода поэтика “суровых фактов”, убеждение в первородной жестокости мира, требующей от человека и его общества быть на высоте и поддерживать себя “в форме”. Сам Слотердайк с негодованием отворачивается от этого мобилизационного пафоса, призывая “цивилизацию” к поиску нового, способного продуцировать мир “нежестоких фактов”, “трансмилитаристского и постиндустриального принципа реальности”. “Суровые факты” жизни, разумеется, неоспоримы, однако как знать, — намекнут прогрессисты, — составляют ли они самое ядро жизни или лежат в одной из ее отчуждаемых оболочек.
Представление о привходящем, наносном, “снимаемом” характере политического господства, экономической эксплуатации или войны есть то существеннейшее, что объединяет всех “левых”. Опровергать это представление, наверное, легче всего исторически, листая те великие летописные своды, где “страницы счастья” остаются неизменно “пустыми”. Однако истории пишутся лишь тогда, когда известен ответ на вопрос: “что существенно?”. Поэтому не следует удивляться, если для обоснования своего ответа консервативное мышление оказывается склонно востребовать ресурсы все той же экзистенциальной аналитики, где инстанцией “действительного” является смерть, а синонимом “подлинного” — “бытие-к-ней” (то есть, существование в ее “горизонте” со всеми сопутствующими следствиями). Не случайны в этом смысле — то есть глубоко значимы для истории консерватизма, — и попытки Шпенглера противопоставить “экономике” как экономике денег “политику” как экономику смерти; и попытки Юнгера тематизировать боль как инстанцию реального — не только в личностном, но и в общественном смысле. Не случаен даже левоинтеллектуальный аффект против “алармизма” политических ястребов, которым вменяется в вину сам модус их существования: “alarme”, тревога. Здесь мы оказываемся в самом эпицентре полемики “консервативного” с “прогрессивным”. Лишь плоское сознание сведет ее к дилеммам “сохранения–изменения” или даже “традиции–модернизации”. Борьба, в последнем счете, ведется за незыблемость “принципа реальности” — в его идущем от опыта мифа “пантрагическом” обличье — перед лицом “эвдемонистических” посягательств.
“Экстремисты”
“Либо в универсуме есть порядок, и задача человека состоит в том, чтобы ему соответствовать: установление публичного порядка смешивается тогда с отысканием истины, и сущность политического сводится к морали. Либо универсум есть хаос, и задача, которую человек может на себя взять, в том, чтобы дать ему форму”.
Ален де Бенуа.
В своем масштабном анализе феноменов “цинического разума” Слотердайк часто именует рассматриваемый нами род консервативного цинизма — “господским цинизмом”. Что вполне резонно, раз уж в своих отправных точках он развертывается из (гипотетической) перспективы правящей элиты, претендуя быть чем-то вроде ее невыговоренного “знания”. Консервативна та власть, которая расположена к рефлексии внутренних оснований своего господства. Чем более просвещенным является ее сознание, тем больше оно восстает против интенций Просвещения и противопоставляет им свой макиавеллически прочувствованный циклизм, стоящий по ту сторону прогрессистских и реакционных утопий; антиуниверсализм, предстающий в том, что касается социального порядка как чувство ранга и апология неравенства; имморализм, питающийся не только ницшеанскими токами, но и гегельянски навеянными представлениями о диалектике исторических взаимопревращений добра и зла…
Словом, речь идет о той самой картине мира, на почве которой при определенных условиях возрастает правого стиля “экстремизм”. Он является внутренней возможностью, изнаночной стороной “господского цинизма” и представляет собой, по существу, не что иное, как философию абсолютного действия на вооружении у не-господских, а, допустим, только стремящихся к господству слоев: на вооружении социально обездоленной контрэлиты. Вполне осознав это, мы заручились бы изрядным багажом иронии, подобным глотку свежего воздуха в риторическом удушье наших дней. Приговор очевиден: власть, которая бы и в самом деле вознамерилась устранить мировоззренческую возможность “экстремизма”, должна была бы начать с самоубийства (по меньшей мере — в форме нарочитого, благонамеренного, безоговорочного самооглупления). Что представляет собой все же чрезмерную цену за ложно понятый идеал безопасности.
Глубокая симметрия и потаенное родство между позициями “властителя” и “революционера”, разумеется, не составляют секрета. “Господский цинизм” первого и “экстремизм” второго с равным успехом постигают, что за всем изображаемым как “закон” скрыты властные и силовые диспозиции. Разница будет состоять лишь в том, что для одного скепсис по поводу “закона” (или “традиции” или всего, носящего их имя) станет поводом воспроизводить условия его поддержания, для другого — искать возможности его ниспровержения: лишь затем, чтобы водрузить на месте закостеневшей иллюзии порядка новую, омоложенную, но типологически родственную конструкцию легитимного господства. Мера самосознания “ниспровергателя”, она же мера его консервативного такта, прямо пропорциональна пониманию — не важно, рассудочному или инстинктивному — своего места внутри круга “вечного возвращения” власти.
Подлинным мифическим прототипом консервативного истолкования революции можно считать поэтому метафизический эпос Гераклита о мирах, сменяющих друг друга в фазах “возгорающегося” огня. Решение приветствовать в революционном разрушении возможность нового созидания хорошо знакома многим отнюдь не прогрессистски настроенным мыслителям, нашедшим себя на изломе модерна. Применительно к миру символических форм и применительно к ситуации консерватора, потерянного в руинах старых культурных миров, Ницше описывает эту стратегию как путь “активного”, или “экстатического” нигилизма, суть которого вполне явствует из комментария Алена де Бенуа. “Именно в тот момент, когда старые “абсолюты”, разоблаченные в своем качестве конвенций, наконец вполне в нем предстают, необходимо так же, как всегда, создавать новые нормы, новые “конвенции” с тем большей силой, для того, чтобы в свою очередь они предстали грядущим поколениям в виде столь же “естественных”, как те, что были известны нашим предшественникам” (Ален де Бенуа).
Как видим, проповедуемый Ницше и подхватываемый де Бенуа “активный нигилизм” — в гораздо меньшей степени шальная воля к разрушению мира (тем более, если тот уже разрушен), чем отчаянная воля к его созданию из ничего. “Мужество установления новой объективности, исходя из субъективности, которая знает себя как таковую”/
“Создание из ничего” — попытка писать из головы и с листа, и первым делом “экстремистская” метафизика смахнула со стола, вместе с ворохом пожелтевших архивных бумаг, идею исторической объективности, посредством которой политический консерватизм долгое время связывал себе руки. Вера ультраконсервативных кругов, как мы застаем их в начале ХХ века, в возможность исторического реванша или, выражаясь более возвышенно, исторического творчества требовала отказа от историцистской гипотезы, “согласно которой в истории существует некая связь событий и форм, благодаря чему все в той или иной степени имеет значение, соответствующее его месту в истории, и не все может произойти всегда”(Манхейм).
Историзм снимается в пользу активизма “над-исторической” точки зрения (автор “несвоевременных размышлений” сказал бы, что сама история от этого только выигрывает) — вот экстремальный жест, вводящий консерватора в поле классически понятого фашизма, для которого — фиксирует тот же Манхейм — “любая историческая концепция есть просто конструкция, фикция, которую следует уничтожить в пользу прорывающегося сквозь историческое время действия”. Эта утопически заостренная философия истории свернута в обыгранном “Заратустрой” образе сферы. История — это сфера, и неупорядоченное множество потенциально бесконечных сферических траекторий призвано иллюстрировать взлелеянную реваншизмом веру: “история может в любой момент развиваться в любом направлении, при условии, что достаточно сильная воля навяжет ей свое движение” (Ален де Бенуа). Итак, история пойдет туда, куда ей прикажут, а миры творятся из ничего — в этом апофеозе субъекта фашизм становится идеологией свободы в самом предельном и антилиберальном смысле слова.
Постольку, поскольку “апофеоз субъекта” получает не только метафизическое, но и политическое заострение, в опыт радикального консерватизма в качестве неисчерпаемого источника вдохновения входит ленинизм, понятый как культ организованного контрэлитного меньшинства, задавшегося целью осуществить свою волю или, по большому счету, просто осуществиться (“Наша программа очень проста, — говаривал Муссолини. — Мы хотим управлять Италией”) вопреки какому бы то ни было сопротивлению общественного субстрата. Очищенный от объективистских, историцистских мотивов, которыми в случае самого ленинизма этот культ еще прикрывался, он заостряется здесь уже совершенно гностически.
П. Козловски, идя по следам позднего, увлеченного герметизмом Юнгера, отмечает, что мировоззрения гностического стиля “имеют тенденцию формировать жречество, которое не верит в то, что проповедует”. И в самом деле, если интрига самого ленинизма осуществляется в зазоре между исторической необходимостью и осознанно форсирующей ее партийной волей, то в случае правого, гностически перерожденного ленинизма партийное жречество охвачено иной диалектикой: диалектикой сорелевской открытости опыту мифа — уже потерявшего свое естественное место в структуре космоса, но вновь вводимого в игру на правах эстетического феномена, социально-психологического комплекса, эпистемологической конструкции… Консервативный нигилизм принимает “экстремистские” обертона именно там, где за мифом как эпистемологической конструкцией он сохраняет, упорствует сохранить психологической смысл мифа как сокровенного достояния “жизненного мира”. В этом упорстве скрыта возвышенная драма. Ведь последние, запоздалые, рефлексивно отягощенные мифы так же, как и все прежние, суть требование жертвы.
К морфологии консервативной утопии.
Вместо заключения/
Если господский “цинизм” и контрэлитный “экстремизм” предстали в сделанном очерке как разные антропологические модусы общей, радикально-консервативной картины мира, то следует сказать, что весьма схожей симметрией отмечена и предыдущая типологическая пара: бюрократический “реализм” и религиозно морализирующий консерватизм “прекрасной души”. Она образует континуум традиционного консерватизма.
В физиогномическом смысле реалистический консерватизм статус-кво и традиционалистский консерватизм “прекрасной души” предстают антиподами. Однако антиподами, чья взаимная дополнительность достаточно красноречива и позволяет утверждать, что здесь мы тоже имеем дело с сосуществованием двух экзистенциальных модальностей внутри общего каркаса онтологических презумпций. Эти презумпции сводимы в общих чертах к телеологии линейной истории и статической метафизике порядка. И то, и другое благоприятствует политическому конформизму консерватора, капитулирующего перед наличной исторической данностью, и создает между “архаическим” и “реалистическим” консерватизмом узы глубокого функционального родства.
Здесь впору вспомнить различение “идеологии” и “утопии”, как оно проводится Манхеймом. Для его “социологии знания” та и другая суть формы “ложного сознания”, маскирующего “бытие” как “постоянно функционирующее и действительно существующее жизненное устройство”. Равно подверженные в этом качестве процедуре “критики идеологии”, они различаются своей установкой: “идеология” стабилизирует существующее положение дел, фиксируя его средствами картины мира и лишая присущую действительности динамику качественного смысла; “утопия” как “трансцендентная по отношению к действительности” ориентация видит в существующем на данный момент порядке вещей точку отталкивания и предвещает при своем переходе в действие его радикальную трансформацию. Консерватизм статус-кво и консерватизм “прекрасной души”, при всей их формальной противоположности, представляют собой в указанном смысле классическую (и возможно, не будет передержкой сказать “двуединую”) идеологию. В отношении последнего это может показаться странным: он чужд современности и нарочито порицает ее, “рекомендуя в каждом случае возврат к домодернистским позициям”. Но у того же Манхейма прочтем: “Не каждую ориентацию, не соответствующую данному “бытию”, являющуюся трансцендентной по отношению к нему и в этом смысле “чуждой действительности”, мы назовем утопичной. Мы будем считать утопичной лишь ту “трансцендентную по отношению к действительности” ориентацию, которая, переходя в действие, частично или полностью взрывает существующий в данный момент порядок вещей”. В этом смысле “архаического” стиля консерватизм идеологичен: он поддерживает веру в окончательность “антитрадиционного” уклада даже там и в особенности там, где будто бы противостоит ему.
Стремление проблематизировать господствующую систему отношений всерьез связано с радикальной тенденцией консерватизма. “Радикальной” является попытка менять ситуацию на уровне ее “кодов”, но это должно иметь смысл, очевидно, лишь применительно к той ситуации, которая столь же радикально нас не устраивает. Историческому консерватизму такой мотив отторжения изначально знаком. Он — заведомо опоздавший. Для него налицо все предпосылки ощутить себя аутсайдером “линейной истории”, ибо та дает ему прошлое, на которое нельзя опереться, и настоящее, в котором нельзя обустроиться: обустроиться иначе, чем на правах церковной приживалки или сторожевого пса действительности, основы которой — “упадочны”.
Представления об “упадке”, пожалуй, и являются тем внутренним лейтмотивом консервативной мысли, отправляясь от которого она может оформить собственную форму действенно-утопического сознания. Тот консерватизм, что схватывает действительность через инстанцию статус-кво, заведомо лишен возможности осмысленно ставить вопрос о ее упадке — это потребовало бы включения недоступной ему перспективы, выходящей за пределы конъюнктурного “теперь”. Самое большее, на что он пригоден, — это “морально осудить” те или иные “аспекты” сложившегося порядка как “недостатки”, допускающие реформистское разрешение в его же (сложившегося порядка) рамках. Между тем, концепция упадочной действительности имеет в своей основе отнюдь не моральную оценку, а онтологическое суждение: если нечто налично данное в нем и осуждается, то не от имени “верховных ценностей”, а от имени действительности более фундаментальной, оттесненной, подвергнутой порче или забвению, но — именно постольку, поскольку она действительна, а не идеальна, — способной привести себя к реконструкции. В основе идеологем “упадка” лежит представление о бытии, которое не тождественно самому себе (себе-тождественное политическое бытие мы будем обречены мыслить как раз в терминах статус-кво) и которое может приближаться к этому тождеству либо утрачивать его в ходе некоего принципиально незавершимого процесса. О бытии, которое, как у пифагорейцев, “вдыхает” в себя небытие, создавая универсум, чья “онтологическая плотность” может варьировать.
Именно в этой картине мира становится возможной диалектика, благодаря которой консерватизм способен обнаружить, что выступать на стороне статус-кво отнюдь не всегда значит выступать на стороне действительного. Требование “держаться бытия” и “воздерживаться от идеала” не подлежит сомнению, но оно играет поистине дурную шутку с тем “реалистом”, кто, следуя статическому истолкованию порядка и привязывая себя к непосредственно данному, с головой ангажируется в “реальность”, переполненную пустотой. Жалкая участь — быть центристом там, где налицо патологическая разбалансировка. “Быть реалистом” там, где речь идет о нарушении “инстанции реального” и необходимости ее принудительного восстановления.
“Принцип реальности” является той внутренней опорной точкой, из которой консервативное сознание разворачивает свое контрнаступление на подверженный фальсификациям мир. Слотердайк выражает самую суть, когда признается, что “глубочайшее предназначение прогрессивности” состоит в том, чтобы “стронуть сам принцип реальности с места”. В той мере, в какой это прогрессистское “разжижение” бытия делается возможно, консервативный реализм вынужден требовать восстановления его “онтологической плотности” (разве не таков смысл ницшевских воззваний о “раскрепощении воли к власти”?), оформляясь в своего рода “антиутопическую утопию”: “антиутопическую” — поскольку она заострена против раскрепощенного мышления, перерастающего в симуляцию, против артефактов “политического идеализма”; “утопию” — поскольку эти артефакты проникают в саму ткань общественных отношений, сообщая совокупной действительности “неподлинный” характер.
Если “консервативная утопия” или, если угодно, “анти-утопия”, не может обойтись без экзистенциалистской апелляции к “подлинности”, то это, разумеется, не случайно. Экзистенциализм воссоздает особую диалектику жизни, имеющей тенденцию к самоотчуждению, и видит свою сверхзадачу в преодолении и деконструкции этой упадочной тенденции. Он претендует периодически возвращать жизнь к ее “началам”. В точности таким же образом может быть осмыслена политическая миссия консерватизма. Разумеется, при условии, что сама феноменология жизни освобождается здесь от своей интроспективной, эгоцентрической нагрузки и получает социологическое заострение (в этом нет ничего невозможного, раз коллективное существование не менее достоверно, чем индивидуальное, в глазах консерватора).
Но чтобы возвращать “жизнь” к ее “истоку” или, если угодно, “реальность” к ее “принципу”, этот “принцип” нужно, некоторым образом, “знать”. За прояснением вопроса о его содержании мы можем снова обратиться к Слотердайку, говорящему, что в сердцевине консервативного сознания лежит особого рода поэтика “суровых фактов”, убеждение в первородной жестокости мира, требующей от человека и его общества быть на высоте и поддерживать себя “в форме”. Сам Слотердайк с негодованием отворачивается от этого мобилизационного пафоса, призывая “цивилизацию” к поиску нового, способного продуцировать мир “нежестоких фактов”, “трансмилитаристского и постиндустриального принципа реальности”. “Суровые факты” жизни, разумеется, неоспоримы, однако как знать, — намекнут прогрессисты, — составляют ли они самое ядро жизни или лежат в одной из ее отчуждаемых оболочек.
Представление о привходящем, наносном, “снимаемом” характере политического господства, экономической эксплуатации или войны есть то существеннейшее, что объединяет всех “левых”. Опровергать это представление, наверное, легче всего исторически, листая те великие летописные своды, где “страницы счастья” остаются неизменно “пустыми”. Однако истории пишутся лишь тогда, когда известен ответ на вопрос: “что существенно?”. Поэтому не следует удивляться, если для обоснования своего ответа консервативное мышление оказывается склонно востребовать ресурсы все той же экзистенциальной аналитики, где инстанцией “действительного” является смерть, а синонимом “подлинного” — “бытие-к-ней” (то есть, существование в ее “горизонте” со всеми сопутствующими следствиями). Не случайны в этом смысле — то есть глубоко значимы для истории консерватизма, — и попытки Шпенглера противопоставить “экономике” как экономике денег “политику” как экономику смерти; и попытки Юнгера тематизировать боль как инстанцию реального — не только в личностном, но и в общественном смысле. Не случаен даже левоинтеллектуальный аффект против “алармизма” политических ястребов, которым вменяется в вину сам модус их существования: “alarme”, тревога. Здесь мы оказываемся в самом эпицентре полемики “консервативного” с “прогрессивным”. Лишь плоское сознание сведет ее к дилеммам “сохранения–изменения” или даже “традиции–модернизации”. Борьба, в последнем счете, ведется за незыблемость “принципа реальности” — в его идущем от опыта мифа “пантрагическом” обличье — перед лицом “эвдемонистических” посягательств.
Опубликовано в журнале Логос, номер 5, 2002 год