«Единая Россия», как партия большинства населения, должна уйти в оппозицию реальной партии власти – либеральному истеблишменту – и выдвинуть собственную программу развития страны.
Московская «агора» весной 2011 года стремительно заполнилась идеологическими манифестами, преимущественно либерального характера. Мозговой центр при президенте, ИНСОР в очередной раз запечатлел свой образ светлого будущего для России. Тандем Федотова – Караганова обнародовал план «декоммунизации» общественного сознания. ЦСР призвал к созданию «второй либеральной партии» и коалиционного либерально-единороссовского правительства, а влиятельные экономические эксперты из двух ведущих московских вузов взялись за переписывание «Стратегии 2020» с целью приведения этой программы в соответствие с постулатами либеральной экономической доктрины в ее российском понимании.
Лейтмотивом большинства этих выступлений стала тема демократизации политического режима. Однако, учитывая отсутствие широкой общественной поддержки у российской версии либерализма, рекомендуемая демократизация понимается вполне по Федотову – как «диктатура настоящих демократов».
Наиболее красноречивы в этом отношении «десталинизаторские» инициативы самого Федотова, выдержанные в духе совершенно сталинистских представлений о власти как инстанции, чье мнение по вопросам истории обязательно для общества и проводится без стеснения в средствах.
Схожий подход реализуется и в политической сфере. С одной стороны, усиление либеральной партии воспринимается экспертами ИНСОРа как главный индикатор демократизации, с другой – механизмом такого усиления фактически открыто признается перераспределение административного ресурса (понятно же, что «человек-паровоз» системы Кудрин – Шувалов – Дворкович может тянуть «Правое дело» только по административным, а не электоральным рельсам).
Впрочем, состоится или нет «большое Правое дело» как партийный проект, не столь важно. Ведь дело это уже сейчас живет и побеждает. Социально-экономический курс условной либеральной партии снова и снова оказывается для исполнительной власти «единственно возможным», вне зависимости от результатов этой партии на выборах и даже участия в таковых.
То, что Владимир Путин поручил обновление стратегии развития до 2020 года (которая после выборов 2007 года в значительной степени стала его личным политическим брендом) не кому-нибудь, а видным идеологам реформ 1990-х (Владимир Мау, Евгений Ясин) и идеологам либерал-реформистской волны начала нулевых (Ярослав Кузьминов, Евсей Гурвич), стало знаковым политическим событием. Это не техническая экспертиза, которая заказывалась и заказывается правительством без лишнего шума. Это публичный проект, призванный обозначить определенную философию управления, концепцию принятия решений в сфере социально-экономической политики.
Московская «агора» весной 2011 года стремительно заполнилась идеологическими манифестами, преимущественно либерального характера. Мозговой центр при президенте, ИНСОР в очередной раз запечатлел свой образ светлого будущего для России. Тандем Федотова – Караганова обнародовал план «декоммунизации» общественного сознания. ЦСР призвал к созданию «второй либеральной партии» и коалиционного либерально-единороссовского правительства, а влиятельные экономические эксперты из двух ведущих московских вузов взялись за переписывание «Стратегии 2020» с целью приведения этой программы в соответствие с постулатами либеральной экономической доктрины в ее российском понимании.
Лейтмотивом большинства этих выступлений стала тема демократизации политического режима. Однако, учитывая отсутствие широкой общественной поддержки у российской версии либерализма, рекомендуемая демократизация понимается вполне по Федотову – как «диктатура настоящих демократов».
Наиболее красноречивы в этом отношении «десталинизаторские» инициативы самого Федотова, выдержанные в духе совершенно сталинистских представлений о власти как инстанции, чье мнение по вопросам истории обязательно для общества и проводится без стеснения в средствах.
Схожий подход реализуется и в политической сфере. С одной стороны, усиление либеральной партии воспринимается экспертами ИНСОРа как главный индикатор демократизации, с другой – механизмом такого усиления фактически открыто признается перераспределение административного ресурса (понятно же, что «человек-паровоз» системы Кудрин – Шувалов – Дворкович может тянуть «Правое дело» только по административным, а не электоральным рельсам).
Впрочем, состоится или нет «большое Правое дело» как партийный проект, не столь важно. Ведь дело это уже сейчас живет и побеждает. Социально-экономический курс условной либеральной партии снова и снова оказывается для исполнительной власти «единственно возможным», вне зависимости от результатов этой партии на выборах и даже участия в таковых.
То, что Владимир Путин поручил обновление стратегии развития до 2020 года (которая после выборов 2007 года в значительной степени стала его личным политическим брендом) не кому-нибудь, а видным идеологам реформ 1990-х (Владимир Мау, Евгений Ясин) и идеологам либерал-реформистской волны начала нулевых (Ярослав Кузьминов, Евсей Гурвич), стало знаковым политическим событием. Это не техническая экспертиза, которая заказывалась и заказывается правительством без лишнего шума. Это публичный проект, призванный обозначить определенную философию управления, концепцию принятия решений в сфере социально-экономической политики.
Дискотека 90-х
Как выглядит эта концепция? Как усталое и немного сентиментальное возвращение к истокам – к «осевому времени» нынешнего политического режима.
Точно так же, как ошеломляющая культурная бесплодность нулевых привела к ностальгическим проектам, на которых постаревшие артисты поют постаревшим россиянам мертворожденные песни двух предыдущих десятилетий, политэкономическая бесплодность нулевых закончилась символическим возвращением к реформаторской парадигме 1990-х.
Как выглядит эта концепция? Как усталое и немного сентиментальное возвращение к истокам – к «осевому времени» нынешнего политического режима.
Точно так же, как ошеломляющая культурная бесплодность нулевых привела к ностальгическим проектам, на которых постаревшие артисты поют постаревшим россиянам мертворожденные песни двух предыдущих десятилетий, политэкономическая бесплодность нулевых закончилась символическим возвращением к реформаторской парадигме 1990-х.
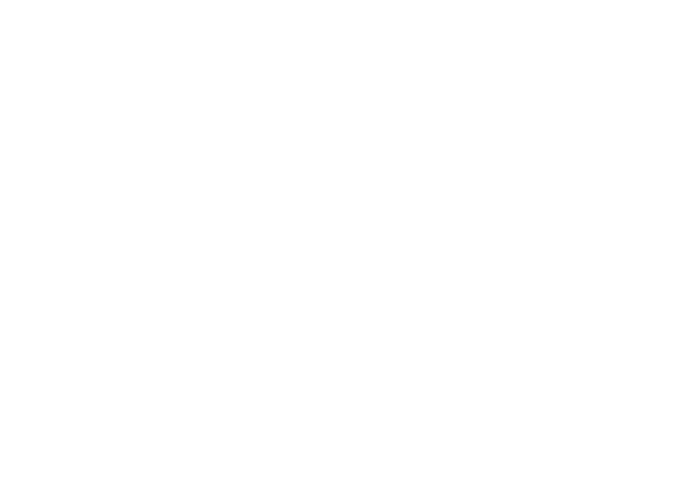
Разумеется, работа авторских коллективов еще не завершена, и содержательные новации возможны. Больше того, разработчики говорят о пакете различных сценариев, а не монологической программе и даже обещают идеологический плюрализм в ходе работы. Тем не менее тезисы, с которыми уже сегодня ассоциируется новая «Стратегия 2020» благодаря публичным заявлениям ее авторов и координаторов, образуют вполне узнаваемое политическое кредо.
Напомним некоторые из них:
Одним словом, речь идет о вариациях на тему модного в 1990-е «Вашингтонского консенсуса». С той лишь разницей, что Джон Вильямсон, с чьей легкой руки некоторые особенности малоудачных латиноамериканских реформ стали восприниматься как кодекс неолиберального реформатора на все времена, включил в свои «десять заповедей» такие избыточные с точки зрения российских реалий рекомендации, как рост вложений в образование, здравоохранение, инфраструктуру, и не предусмотрел такие актуальные, как ликвидация государственной пенсионной системы или массовый завоз гастарбайтеров. Будем считать исправление этого изъяна вкладом российских реформаторов в глобальный канон. В остальном
рецепты за 20 лет не изменились: фискальная дисциплина, либерализация внешней торговли, приватизация, дерегулирование.
Между тем ощутимо изменился политический контекст. Сам опыт 1990-х годов ценен тем, что делает невозможным его наивное повторение. И в этой связи возникают два вопроса:
а) каким образом эта «дискотека 90-х» может быть представлена в качестве программы модернизации?
б) каким образом она может быть представлена в непростой выборный год, когда действующей власти и всей политической системе, по справедливому замечанию экспертов ЦСР, действительно требуется «перезагрузка доверия»?
Напомним некоторые из них:
- отказ от экспортных пошлин на сырье(т. е. отказ от косвенного субсидирования обрабатывающей промышленности со стороны сырьевого сектора); в целом сокращение таможенных барьеров и обеспечение максимальной открытости экономики;
- «санация» выживших в кризис предприятий (в том числе посредством отказа от косвенного субсидирования и протекционизма), ликвидация «избыточной занятости», отказ от господдержки приоритетных отраслей;
- поощрение массовой иммиграции низкоквалифицированной рабочей силы (непонятно, как это соотносится с тезисом об избыточной занятости, но и то и другое – часть либеральной ортодоксии);
- сокращение «государственного спроса» (Владимир Мау называет докризисную экономическую модель «экономикой спроса», хотя больше оснований считать ее «экономикой стерилизации»), минимизация социальных расходов, в перспективе отказ от государственных пенсионных обязательств (это решение, по мнению того же Владимира Мау, в наибольшей мере «соответствует демографическим и интеллектуальным особенностям постиндустриальной экономики»);
- приватизация не с фискальными, а социально-политическими целями (авторы откровенно ссылаются на позитивный опыт 1990-х, когда целью приватизации было создание нового слоя собственников, а не пополнение казны).
Одним словом, речь идет о вариациях на тему модного в 1990-е «Вашингтонского консенсуса». С той лишь разницей, что Джон Вильямсон, с чьей легкой руки некоторые особенности малоудачных латиноамериканских реформ стали восприниматься как кодекс неолиберального реформатора на все времена, включил в свои «десять заповедей» такие избыточные с точки зрения российских реалий рекомендации, как рост вложений в образование, здравоохранение, инфраструктуру, и не предусмотрел такие актуальные, как ликвидация государственной пенсионной системы или массовый завоз гастарбайтеров. Будем считать исправление этого изъяна вкладом российских реформаторов в глобальный канон. В остальном
рецепты за 20 лет не изменились: фискальная дисциплина, либерализация внешней торговли, приватизация, дерегулирование.
Между тем ощутимо изменился политический контекст. Сам опыт 1990-х годов ценен тем, что делает невозможным его наивное повторение. И в этой связи возникают два вопроса:
а) каким образом эта «дискотека 90-х» может быть представлена в качестве программы модернизации?
б) каким образом она может быть представлена в непростой выборный год, когда действующей власти и всей политической системе, по справедливому замечанию экспертов ЦСР, действительно требуется «перезагрузка доверия»?
Модернизацию «подменили»
Начнем с первого вопроса. Между либеральной экономической теорией и теорией модернизации существуют непростые взаимоотношения. Золотой век последней – послевоенные десятилетия – стал временем государственной промышленной политики, проводившейся как догоняющими странами (Япония, Тайвань, Южная Корея), так и развитыми (деголлевская Франция), технологической гонки («момент Спутника» для США, о котором недавно говорил Обама), формирования государства благосостояния (на базе настоящей экономики спроса, а не той, которую инкриминирует В. А. Мау кудринскому правительству). Львиная доля модернизационных историй успеха состоялась скорее вопреки, чем благодаря рыночной ортодоксии. И это закономерно: страны, намеренные качественно изменить свое положение в мировой системе разделения труда, не могут ограничиться созданием условий для свободной конкуренции.
История стран «экономического чуда» и в целом стран, сумевших планомерно и целенаправленно войти в когорту развитых, говорит о том, что национальное богатство возникает не вследствие конкуренции как таковой, но вследствие конкуренции за привилегированные виды экономической деятельности – отрасли с высокой добавленной стоимостью, возрастающей отдачей и высоким технологическим/квалификационным порогом, затрудняющим доступ к ним(Эрик Райнерт называет их «шумпеттерианскими» видами деятельности в противовес «мальтузианским», для которых нормой является убывающая отдача).
Призыв президента Медведева к перезапуску экономики через технологический прорыв в нескольких приоритетных отраслях (прозвучавший в унисон с аналогичной ставкой его американского визави) отсылал к этой прогрессистской традиции, в центре внимания которой производство, а не обмен. Он был интересен тем, что прозвучал в качестве альтернативы не только инерции сырьевой экономики, но и той реформаторской парадигме, внутри которой мы находимся с начала 1990-х гг.
Именно в качестве альтернативы как сырьевой самоуспокоенности нулевых, так и рыночному фундаментализму девяностых модернизационная заявка Медведева обладала серьезным потенциалом формирования нового консенсуса – общественно-политического консенсуса нового десятилетия. Этот потенциал даже стал в определенной степени реализовываться в ходе обсуждения тезисов программной статьи «Россия, вперед!».
Намеченная в ней платформа развития была поддержана (причем не только из конъюнктурных соображений) застарелыми оппонентами, сторонниками еще недавно непримиримых платформ – всесторонней демонополизации и активной промышленной политики/новой индустриализации; роста предпринимательских свобод и социально ориентированной экономики; укрепления национального суверенитета и стратегического союза с Западом. В рамках всех этих позиций находятся весомые аргументы в пользу того, чтобы поддержать прогрессистский сценарий «наукоемкой» модернизации. Однако сегодня этот консенсус, который мог бы определить собой экономический, политический и моральный климат наступившего десятилетия, на глазах рассыпается. И вместо нового модернизационного консенсуса мы получаем старый, «вашингтонский».
Не последнюю роль в этой смене общественной атмосферы играет и тот факт, что сырьевому эгоизму части бюрократии и корпоратократии вновь удалось выступить под эгидой «передовой» либеральной экономической мысли. Скреплением этого союза и стал проект подготовки новой «Стратегии 2020».
Интересы одних очень удачно совпали с ценностям других в том, что касается недопущения перераспределения ресурсов сырьевого сектора в пользу новых наукоемких отраслей и активного государственного инвестирования в факторы будущего (и не надо говорить, что в выборе таковых государство обязательно ошибется, ведь по крайней мере два из них совершенно доподлинно известны – это инфраструктура и человеческий капитал).
Начнем с первого вопроса. Между либеральной экономической теорией и теорией модернизации существуют непростые взаимоотношения. Золотой век последней – послевоенные десятилетия – стал временем государственной промышленной политики, проводившейся как догоняющими странами (Япония, Тайвань, Южная Корея), так и развитыми (деголлевская Франция), технологической гонки («момент Спутника» для США, о котором недавно говорил Обама), формирования государства благосостояния (на базе настоящей экономики спроса, а не той, которую инкриминирует В. А. Мау кудринскому правительству). Львиная доля модернизационных историй успеха состоялась скорее вопреки, чем благодаря рыночной ортодоксии. И это закономерно: страны, намеренные качественно изменить свое положение в мировой системе разделения труда, не могут ограничиться созданием условий для свободной конкуренции.
История стран «экономического чуда» и в целом стран, сумевших планомерно и целенаправленно войти в когорту развитых, говорит о том, что национальное богатство возникает не вследствие конкуренции как таковой, но вследствие конкуренции за привилегированные виды экономической деятельности – отрасли с высокой добавленной стоимостью, возрастающей отдачей и высоким технологическим/квалификационным порогом, затрудняющим доступ к ним(Эрик Райнерт называет их «шумпеттерианскими» видами деятельности в противовес «мальтузианским», для которых нормой является убывающая отдача).
Призыв президента Медведева к перезапуску экономики через технологический прорыв в нескольких приоритетных отраслях (прозвучавший в унисон с аналогичной ставкой его американского визави) отсылал к этой прогрессистской традиции, в центре внимания которой производство, а не обмен. Он был интересен тем, что прозвучал в качестве альтернативы не только инерции сырьевой экономики, но и той реформаторской парадигме, внутри которой мы находимся с начала 1990-х гг.
Именно в качестве альтернативы как сырьевой самоуспокоенности нулевых, так и рыночному фундаментализму девяностых модернизационная заявка Медведева обладала серьезным потенциалом формирования нового консенсуса – общественно-политического консенсуса нового десятилетия. Этот потенциал даже стал в определенной степени реализовываться в ходе обсуждения тезисов программной статьи «Россия, вперед!».
Намеченная в ней платформа развития была поддержана (причем не только из конъюнктурных соображений) застарелыми оппонентами, сторонниками еще недавно непримиримых платформ – всесторонней демонополизации и активной промышленной политики/новой индустриализации; роста предпринимательских свобод и социально ориентированной экономики; укрепления национального суверенитета и стратегического союза с Западом. В рамках всех этих позиций находятся весомые аргументы в пользу того, чтобы поддержать прогрессистский сценарий «наукоемкой» модернизации. Однако сегодня этот консенсус, который мог бы определить собой экономический, политический и моральный климат наступившего десятилетия, на глазах рассыпается. И вместо нового модернизационного консенсуса мы получаем старый, «вашингтонский».
Не последнюю роль в этой смене общественной атмосферы играет и тот факт, что сырьевому эгоизму части бюрократии и корпоратократии вновь удалось выступить под эгидой «передовой» либеральной экономической мысли. Скреплением этого союза и стал проект подготовки новой «Стратегии 2020».
Интересы одних очень удачно совпали с ценностям других в том, что касается недопущения перераспределения ресурсов сырьевого сектора в пользу новых наукоемких отраслей и активного государственного инвестирования в факторы будущего (и не надо говорить, что в выборе таковых государство обязательно ошибется, ведь по крайней мере два из них совершенно доподлинно известны – это инфраструктура и человеческий капитал).
«Иного не дано»
Впрочем, в нашу задачу не входит аргументация в пользу той или иной модели экономического роста. В конце концов, существует длинная история полемики экономических школ, в которой нет, в отличие от тестов ЕГЭ, единственно правильных ответов.
Проблема, которую мы рассматриваем, – это не проблема экономической теории. Это проблема политической культуры российского постсоветского реформизма. Его важнейшей, определяющей предпосылкой является создание искусственной безальтернативности в вопросах социально-экономического развития. Вот и сегодня модернизация оказалась приравнена к очередному туру рыночных реформ как бы по умолчанию, по старому доброму принципу «иного не дано».
«Иного не дано»
Впрочем, в нашу задачу не входит аргументация в пользу той или иной модели экономического роста. В конце концов, существует длинная история полемики экономических школ, в которой нет, в отличие от тестов ЕГЭ, единственно правильных ответов.
Проблема, которую мы рассматриваем, – это не проблема экономической теории. Это проблема политической культуры российского постсоветского реформизма. Его важнейшей, определяющей предпосылкой является создание искусственной безальтернативности в вопросах социально-экономического развития. Вот и сегодня модернизация оказалась приравнена к очередному туру рыночных реформ как бы по умолчанию, по старому доброму принципу «иного не дано».
Важная часть этой искусственной безальтернативности – деполитизация процесса выработки экономической стратегии, т. е. превращение политических решений в «технические» посредством сочетания авторитарных механизмов управления и специального экспертного дизайна, который оформляет выбранное решение как «единственно возможное в сложившихся обстоятельствах». В этой логике были проведены и обоснованы знаковые реформы минувших 20 лет: моментальная либерализация цен и внешней торговли, приватизация, реформа электроэнергетики, монетизация льгот, вступление в ВТО и т. д. Там, где отлаженный процесс «бесшумного» реформирования дает сбои, как в случае с монетизацией льгот, эксперты сетуют на «перегруженность публичностью».
В основе этой философии реформ архетипический для гайдаровской команды комплекс «прогрессора», в логике которого «туземное» общество по определению не может быть «компетентным избирателем» собственной судьбы. В самом лучшем случае – ее «квалифицированным исполнителем». Что, впрочем, тоже маловероятно. Поэтому сами реформаторы возлагаемую на них ответственность за отклонение от желаемых результатов при таком низком качестве «социального сырья» склонны считать трагической несправедливостью (характерен в этом отношении канон прочтения фигуры Егора Гайдара, заданный его единомышленниками).
Нет нужды пояснять, что с классическим либерализмом, для которого каждый вменяемый человек вполне компетентен относительно того, что составляет сферу его непосредственных жизненных интересов, эта философия безответственного реформистского меньшинства имеет мало общего. Ее реализация вновь и вновь ведет к деградации политической системы и рецидивам холодной гражданской войны (вспомним те же инициативы «национального примирения» по Федотову).
Но главное, она плоха не только тем, что аморальна или политически опасна, а тем, что заведомо неэффективна.
Политическая состоятельность реформ (включая формирование коалиции поддержки, механизмы компенсации проигравшим, публичный механизм принятия и обоснования решений и т. д.) является внутренним условием их эффективности.
Институциональные преобразования по принципу игнорирования, обмана или запугивания общества не могут быть успешными.
Об этом напоминает В. М. Полтерович, подводя итоги постсоветского реформаторства.
И здесь мы переходим ко второму вопросу, поставленному выше, – о политической проекции придворного либерал-реформизма в этот выборный цикл.
Электоральный голем
На Красноярском форуме Алексей Кудрин говорил о необходимости «политического кредита» для проведения реформ. По его мнению, выборы должны быть «честными», и только «честные» выборы смогут сделать планируемые экономические преобразования эффективными. С мнением правительственного чиновника можно полностью согласиться, вопрос лишь в том, каким образом близкая ему концепция реформ может получить поддержку избирателя.
Если какая-либо политическая сила пойдет на выборы, вооружившись духом или буквой концепции Мау – Кузьминова или бюджетным консерватизмом самого Кудрина, и при этом получит большинство, – прекрасно: значит, «политический кредит» будет действительно получен.
Гипотетически эту роль могло бы сыграть «Правое дело» под предводительством правительственного координатора экспертных групп по обновлению «Стратегии 2020» Игоря Шувалова. Или «Единая Россия», если она решит превратить избирательную кампанию 2011 года в голосование относительно той же «Стратегии 2020», обновленной согласно либеральным рецептам. Или – что было бы наиболее логично – коалиция этих партий, призванная, по итогам выборов, как и рекомендуют эксперты ЦСР, превратиться в правительственную коалицию.
Однако вероятность этого «честного» сценария столь же невелика, сколь невелика электоральная поддержка либеральных реформ. «Партия большинства» вряд ли решится пугать массового избирателя излишней политической откровенностью. Да и сошествие правительственного вице-премьера на партийное поле, <по последним данным, больше не ожидается.. И главное, даже если представить себе политический успех «либеральной коалиции», он вряд ли может оказаться устойчивым и довольно быстро приведет к обрушению рейтинга «Единой России», делегитимации правительства, опирающегося на ее поддержку, усилению левой оппозиции. Что вернет общество к поляризованной политической ситуации 1990-х, а власть – к необходимости открыто действовать вне поля общественного консенсуса.
Напомним, что нынешний режим, в том числе в его авторитарных проявлениях, стал для правящей элиты способом выхода их этой дискомфортной и даже опасной ситуации.
Поэтому в логике сложившейся системы более вероятен другой сценарий – использование «Единой России» как своего рода электорального голема, обеспечение политического прикрытия непопулярных мер популярными лицами пестрой коалиции спортсменов и шоуменов вкупе с по-прежнему немалым административным ресурсом «партии власти».
В этом случае, однако, результат будет напоминать не политический кредит, а политический подлог, который станет очередным и, возможно, слишком тяжелым испытанием для молодой постсоветской демократии.
«Честность выборов», о которой оправданно беспокоится А. Л. Кудрин, обеспечивается не только пресечением махинаций или сокращением административного ресурса, но и хотя бы минимальным соответствием между повесткой избирательной кампании и повесткой реальной политики законодательной и исполнительной власти.
Главный антидемократический риск, связанный с «Единой Россией», не фальсификация голосов, а фальсификация самого предмета голосования: в урну опускается запрос на социальную стабильность и ответственность, из урны извлекается карт-бланш на неолиберальные реформы.
Функцией ЕР в таком случае оказывается не представительство, а сдерживание большинства. Вся политическая система, выстроенная вокруг доминирующей партии, превращается в «санитарный кордон» между массовыми запросами и механизмом принятия решений, реальной политикой.
Этим определяется двойственная роль «Единой России» с точки зрения реальной партии власти (либеральной экспертократии): она одновременно используется как жупел и как необходимое политическое прикрытие. Эта двусмысленность существовала всегда, но сегодня она доведена до крайности: с одной стороны, основа предвыборной платформы ЕР – «Стратегия-2020» – превращается в неолиберальный манифест, с другой стороны, неолиберальная элита упражняется в феодальной привилегии «охоты на медведей» похлеще, чем английская аристократия в охоте на лис.
Тем самым запускается механизм разрушения (в т. ч. саморазрушения) доминирующей партии.
Ситуация, когда партия является одновременно и важнейшей опорой либерального режима, и главным «козлом отпущения» за все его грехи, едва ли будет привлекательной для тех лидеров мнения, которые за минувшие годы оказались в ее орбите. Ее членам, очевидно, все сложнее принимать на себя многочисленные обвинения со всех сторон, и в особенности со стороны тех привилегированных элитных групп, чью гегемонию они и призваны сегодня страховать от социально-политических рисков. Партия не может сослаться на ту платформу, которую она защищает и ради которой идет на выборы, поскольку в настоящий момент, в ситуации нарастающего разрыва между публичными приоритетами власти и ее традиционной электоральной опорой, такой публичной платформы просто нет. Партия приняла в свое время лозунг «модернизации», добавив к нему определение «консервативная», однако то, что предлагается в настоящий момент творцами обновленной «Стратегии», как мы уже писали, к «консерватизму» имеет так же мало отношения, как и к «модернизации».
В основе этой философии реформ архетипический для гайдаровской команды комплекс «прогрессора», в логике которого «туземное» общество по определению не может быть «компетентным избирателем» собственной судьбы. В самом лучшем случае – ее «квалифицированным исполнителем». Что, впрочем, тоже маловероятно. Поэтому сами реформаторы возлагаемую на них ответственность за отклонение от желаемых результатов при таком низком качестве «социального сырья» склонны считать трагической несправедливостью (характерен в этом отношении канон прочтения фигуры Егора Гайдара, заданный его единомышленниками).
Нет нужды пояснять, что с классическим либерализмом, для которого каждый вменяемый человек вполне компетентен относительно того, что составляет сферу его непосредственных жизненных интересов, эта философия безответственного реформистского меньшинства имеет мало общего. Ее реализация вновь и вновь ведет к деградации политической системы и рецидивам холодной гражданской войны (вспомним те же инициативы «национального примирения» по Федотову).
Но главное, она плоха не только тем, что аморальна или политически опасна, а тем, что заведомо неэффективна.
Политическая состоятельность реформ (включая формирование коалиции поддержки, механизмы компенсации проигравшим, публичный механизм принятия и обоснования решений и т. д.) является внутренним условием их эффективности.
Институциональные преобразования по принципу игнорирования, обмана или запугивания общества не могут быть успешными.
Об этом напоминает В. М. Полтерович, подводя итоги постсоветского реформаторства.
И здесь мы переходим ко второму вопросу, поставленному выше, – о политической проекции придворного либерал-реформизма в этот выборный цикл.
Электоральный голем
На Красноярском форуме Алексей Кудрин говорил о необходимости «политического кредита» для проведения реформ. По его мнению, выборы должны быть «честными», и только «честные» выборы смогут сделать планируемые экономические преобразования эффективными. С мнением правительственного чиновника можно полностью согласиться, вопрос лишь в том, каким образом близкая ему концепция реформ может получить поддержку избирателя.
Если какая-либо политическая сила пойдет на выборы, вооружившись духом или буквой концепции Мау – Кузьминова или бюджетным консерватизмом самого Кудрина, и при этом получит большинство, – прекрасно: значит, «политический кредит» будет действительно получен.
Гипотетически эту роль могло бы сыграть «Правое дело» под предводительством правительственного координатора экспертных групп по обновлению «Стратегии 2020» Игоря Шувалова. Или «Единая Россия», если она решит превратить избирательную кампанию 2011 года в голосование относительно той же «Стратегии 2020», обновленной согласно либеральным рецептам. Или – что было бы наиболее логично – коалиция этих партий, призванная, по итогам выборов, как и рекомендуют эксперты ЦСР, превратиться в правительственную коалицию.
Однако вероятность этого «честного» сценария столь же невелика, сколь невелика электоральная поддержка либеральных реформ. «Партия большинства» вряд ли решится пугать массового избирателя излишней политической откровенностью. Да и сошествие правительственного вице-премьера на партийное поле, <по последним данным, больше не ожидается.. И главное, даже если представить себе политический успех «либеральной коалиции», он вряд ли может оказаться устойчивым и довольно быстро приведет к обрушению рейтинга «Единой России», делегитимации правительства, опирающегося на ее поддержку, усилению левой оппозиции. Что вернет общество к поляризованной политической ситуации 1990-х, а власть – к необходимости открыто действовать вне поля общественного консенсуса.
Напомним, что нынешний режим, в том числе в его авторитарных проявлениях, стал для правящей элиты способом выхода их этой дискомфортной и даже опасной ситуации.
Поэтому в логике сложившейся системы более вероятен другой сценарий – использование «Единой России» как своего рода электорального голема, обеспечение политического прикрытия непопулярных мер популярными лицами пестрой коалиции спортсменов и шоуменов вкупе с по-прежнему немалым административным ресурсом «партии власти».
В этом случае, однако, результат будет напоминать не политический кредит, а политический подлог, который станет очередным и, возможно, слишком тяжелым испытанием для молодой постсоветской демократии.
«Честность выборов», о которой оправданно беспокоится А. Л. Кудрин, обеспечивается не только пресечением махинаций или сокращением административного ресурса, но и хотя бы минимальным соответствием между повесткой избирательной кампании и повесткой реальной политики законодательной и исполнительной власти.
Главный антидемократический риск, связанный с «Единой Россией», не фальсификация голосов, а фальсификация самого предмета голосования: в урну опускается запрос на социальную стабильность и ответственность, из урны извлекается карт-бланш на неолиберальные реформы.
Функцией ЕР в таком случае оказывается не представительство, а сдерживание большинства. Вся политическая система, выстроенная вокруг доминирующей партии, превращается в «санитарный кордон» между массовыми запросами и механизмом принятия решений, реальной политикой.
Этим определяется двойственная роль «Единой России» с точки зрения реальной партии власти (либеральной экспертократии): она одновременно используется как жупел и как необходимое политическое прикрытие. Эта двусмысленность существовала всегда, но сегодня она доведена до крайности: с одной стороны, основа предвыборной платформы ЕР – «Стратегия-2020» – превращается в неолиберальный манифест, с другой стороны, неолиберальная элита упражняется в феодальной привилегии «охоты на медведей» похлеще, чем английская аристократия в охоте на лис.
Тем самым запускается механизм разрушения (в т. ч. саморазрушения) доминирующей партии.
Ситуация, когда партия является одновременно и важнейшей опорой либерального режима, и главным «козлом отпущения» за все его грехи, едва ли будет привлекательной для тех лидеров мнения, которые за минувшие годы оказались в ее орбите. Ее членам, очевидно, все сложнее принимать на себя многочисленные обвинения со всех сторон, и в особенности со стороны тех привилегированных элитных групп, чью гегемонию они и призваны сегодня страховать от социально-политических рисков. Партия не может сослаться на ту платформу, которую она защищает и ради которой идет на выборы, поскольку в настоящий момент, в ситуации нарастающего разрыва между публичными приоритетами власти и ее традиционной электоральной опорой, такой публичной платформы просто нет. Партия приняла в свое время лозунг «модернизации», добавив к нему определение «консервативная», однако то, что предлагается в настоящий момент творцами обновленной «Стратегии», как мы уже писали, к «консерватизму» имеет так же мало отношения, как и к «модернизации».
Порочный круг «слабой власти»
Разумеется, все это может оцениваться как проблемы отдельных людей или, в самом худшем случае, кризис отдельно взятой партии власти, на который носители реальной власти и тем более ее выгодоприобретатели могут смотреть с отстраненной иронией. В конце концов, контроль над процессом выборов и над законодательным процессом может осуществляться и при другой «нарезке» партийного поля. Однако «Единая Россия» – это не только электоральный и парламентский инструмент в руках президентской и правительственной вертикалей. Это определенная модель публичной поддержки всей действующей системы власти, которая была предложена обществу, бюрократии, политическому классу.
Разумеется, все это может оцениваться как проблемы отдельных людей или, в самом худшем случае, кризис отдельно взятой партии власти, на который носители реальной власти и тем более ее выгодоприобретатели могут смотреть с отстраненной иронией. В конце концов, контроль над процессом выборов и над законодательным процессом может осуществляться и при другой «нарезке» партийного поля. Однако «Единая Россия» – это не только электоральный и парламентский инструмент в руках президентской и правительственной вертикалей. Это определенная модель публичной поддержки всей действующей системы власти, которая была предложена обществу, бюрократии, политическому классу.
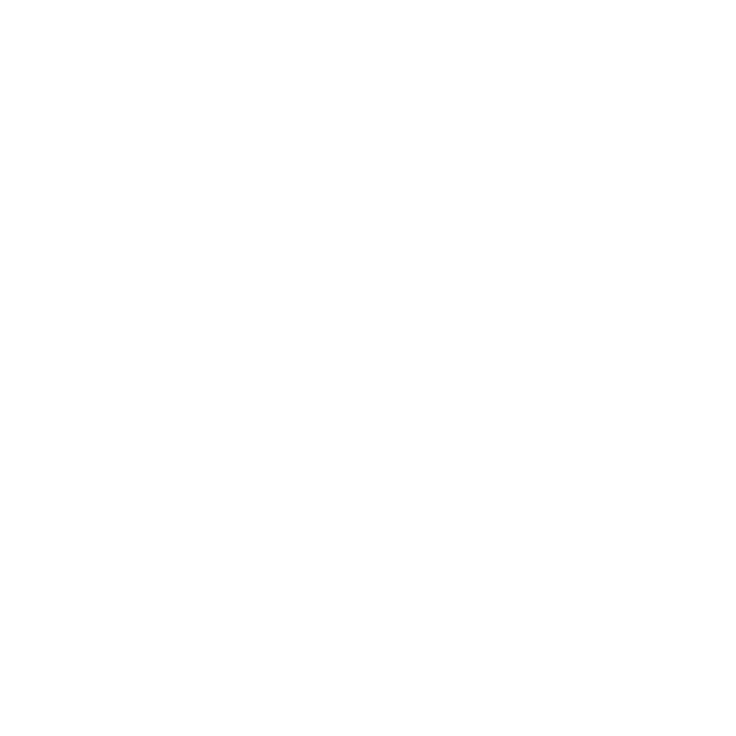
Условно говоря, модель открытой политической лояльности. Поэтому репутационный кризис «Единой России» – это кризис самой идеи о том, что возможна широкая публичная поддержка действующей власти. И по мере его разрастания власть будет все в большей степени действовать, как в «допутинское» время, вне пространства массовой поддержки и политического консенсуса.
Таким образом, вариант использования ЕР как электорального голема под либеральную программу почти с такой же вероятностью, как и вариант открытой либеральной коалиции, возвращает нас к тому сценарию, который можно условно назвать сценарием «слабой власти». «Слабая» (в смысле, лишенная широкой политической опоры) власть может демонстрировать изрядную живучесть и широту реформистского маневра (как это, собственно, и было в 1990-е). Но ей приходится платить за это немалую цену. В частности (и это тоже один из уроков российских девяностых), неизбежными поставщиками «услуг» по укреплению «слабой власти» выступают силовики. Мы можем столкнуться со своеобразным парадоксом либеральной гегемонии: используя в своих целях недовольство засильем силовых корпораций, она приводит к сокращению демократической опоры власти и – на следующем шаге – к расширению «силовой» доли в конструкции режима.
Впрочем на каждом следующем витке спираль «слабой власти» истончается, и в какой-то момент еще более «неизвестное», чем во времена Андропова, общество становится реальностью более весомой, чем известные «силовики».
Время оппозиции
В этом отношении победа неолиберального лобби вполне может оказаться пирровой, и ему впору подумать об осторожности и самоограничении.
Речь не о сокращении влияния его представителей, которое может быть заслуженно высоким, а о преодолении двойной монополии – на власть и на оппозицию. Монополии, которая вот уже 20 лет позволяет воспроизводить безответственность – моральную, политическую, правовую.
Если либералы готовы побеждать в конкурентной политической борьбе, пусть идут, побеждают и несут политическую ответственность (правым либералам в других странах это иногда удается).
Но если, как и прежде, они предпочитают воплощать свои идеи, не вынося их на суд избирателей, то почему бы им не принять, наконец, заслуженную ответственность за все те политические особенности российского режима, которые не вписываются в привычные для Европы стандарты демократии? Очевидно, что наличие всех этих особенностей, включая неведомый Европе суперпрезидентский режим, гегемонию одной партии или отказ от губернаторских выборов, объясняется в первую очередь интересами выживания либерального истеблишмента в неблагоприятной для него «электоральной среде».
Явная гегемония лучше скрытой (в том смысле, что ее легче преодолеть). Поэтому сам факт осознания и опознания реальной структуры гегемонии будет определенной вехой нашей демократизации.
Свою роль в этой связи мог бы сыграть и сегодняшний номинальный гегемон. Сложившееся положение является для «Единой России» серьезным вызовом, но вместе с тем и определенным шансом, который, в силу инерции обстоятельств, вряд ли будет использован, но который мы тем не менее должны зафиксировать.
В свое время партийцев поразила мысль Владислава Суркова о том, что им нужно быть готовыми к переходу в оппозицию. Похоже, что именно сейчас для этого наступил самый подходящий момент.
Уйдя сегодня в оппозицию реальной партии власти (либеральному истеблишменту), ЕР могла бы завтра сформировать новое большинство и определить новый политический ландшафт. Речь идет, конечно, не о том, чтобы партия встала в оппозицию президенту или премьеру, но о том, чтобы она могла выдвинуть собственную программу развития страны, противостоящую альянсу сырьевого статус-кво с догматикой придворного либерализма. Темы этого противостояния могут быть самыми разными – от вывода из офшоров крупного бизнеса и ограничения иммиграции до политики памяти.
Необходимо действовать в зоне принципиального совпадения интересов развития с коренными интересами социального, культурного, морального большинства. Это позволило бы партии № 1 стать не флагманом безальтернативности, а флагманом альтернативы верхушечному неолиберальному консенсусу.
Если население поддержит такую альтернативу (точнее, согласится признать ее в лице ЕР), то это должно стать сигналом к серьезной корректировке курса исполнительной власти. Это и будет искомый политический кредит – кредит доверия лидерам страны, но кредит «связанный», который может быть использован только по назначению. И вряд ли он может быть иным. К сожалению (или к счастью), время «безоговорочного доверия» к власти для «новой России» безвозвратно прошло..
Таким образом, вариант использования ЕР как электорального голема под либеральную программу почти с такой же вероятностью, как и вариант открытой либеральной коалиции, возвращает нас к тому сценарию, который можно условно назвать сценарием «слабой власти». «Слабая» (в смысле, лишенная широкой политической опоры) власть может демонстрировать изрядную живучесть и широту реформистского маневра (как это, собственно, и было в 1990-е). Но ей приходится платить за это немалую цену. В частности (и это тоже один из уроков российских девяностых), неизбежными поставщиками «услуг» по укреплению «слабой власти» выступают силовики. Мы можем столкнуться со своеобразным парадоксом либеральной гегемонии: используя в своих целях недовольство засильем силовых корпораций, она приводит к сокращению демократической опоры власти и – на следующем шаге – к расширению «силовой» доли в конструкции режима.
Впрочем на каждом следующем витке спираль «слабой власти» истончается, и в какой-то момент еще более «неизвестное», чем во времена Андропова, общество становится реальностью более весомой, чем известные «силовики».
Время оппозиции
В этом отношении победа неолиберального лобби вполне может оказаться пирровой, и ему впору подумать об осторожности и самоограничении.
Речь не о сокращении влияния его представителей, которое может быть заслуженно высоким, а о преодолении двойной монополии – на власть и на оппозицию. Монополии, которая вот уже 20 лет позволяет воспроизводить безответственность – моральную, политическую, правовую.
Если либералы готовы побеждать в конкурентной политической борьбе, пусть идут, побеждают и несут политическую ответственность (правым либералам в других странах это иногда удается).
Но если, как и прежде, они предпочитают воплощать свои идеи, не вынося их на суд избирателей, то почему бы им не принять, наконец, заслуженную ответственность за все те политические особенности российского режима, которые не вписываются в привычные для Европы стандарты демократии? Очевидно, что наличие всех этих особенностей, включая неведомый Европе суперпрезидентский режим, гегемонию одной партии или отказ от губернаторских выборов, объясняется в первую очередь интересами выживания либерального истеблишмента в неблагоприятной для него «электоральной среде».
Явная гегемония лучше скрытой (в том смысле, что ее легче преодолеть). Поэтому сам факт осознания и опознания реальной структуры гегемонии будет определенной вехой нашей демократизации.
Свою роль в этой связи мог бы сыграть и сегодняшний номинальный гегемон. Сложившееся положение является для «Единой России» серьезным вызовом, но вместе с тем и определенным шансом, который, в силу инерции обстоятельств, вряд ли будет использован, но который мы тем не менее должны зафиксировать.
В свое время партийцев поразила мысль Владислава Суркова о том, что им нужно быть готовыми к переходу в оппозицию. Похоже, что именно сейчас для этого наступил самый подходящий момент.
Уйдя сегодня в оппозицию реальной партии власти (либеральному истеблишменту), ЕР могла бы завтра сформировать новое большинство и определить новый политический ландшафт. Речь идет, конечно, не о том, чтобы партия встала в оппозицию президенту или премьеру, но о том, чтобы она могла выдвинуть собственную программу развития страны, противостоящую альянсу сырьевого статус-кво с догматикой придворного либерализма. Темы этого противостояния могут быть самыми разными – от вывода из офшоров крупного бизнеса и ограничения иммиграции до политики памяти.
Необходимо действовать в зоне принципиального совпадения интересов развития с коренными интересами социального, культурного, морального большинства. Это позволило бы партии № 1 стать не флагманом безальтернативности, а флагманом альтернативы верхушечному неолиберальному консенсусу.
Если население поддержит такую альтернативу (точнее, согласится признать ее в лице ЕР), то это должно стать сигналом к серьезной корректировке курса исполнительной власти. Это и будет искомый политический кредит – кредит доверия лидерам страны, но кредит «связанный», который может быть использован только по назначению. И вряд ли он может быть иным. К сожалению (или к счастью), время «безоговорочного доверия» к власти для «новой России» безвозвратно прошло..
Авторы:
Михаил Ремизов – директор фонда «Стратегия-2020»
Борис Межуев – заместитель директора фонда «Стратегия-2020»
Опубликовано на портале Газета.ру, 2011 год
