«Мы перешли Рубикон в противостоянии с Западом»
От редакции: На страницах «Евразия.Эксперт» продолжается дискуссия о глобальной идеологии Запада, Китая и России. Белорусский философ Алексей Дзермант убежден, без формулирования глобальной миссии Россия не сможет играть на равных с Запалом и Китаем. Профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев отмечает, что идеологизация мировой политики становится инструментом стратегического планирования ведущих держав. Президент Института национальной стратегии, председатель президиума Экспертного совета при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Михаил Ремизов в интервью для «Евразия.Эксперт» признает, что у России нет глобальной идеологии. Однако Москве есть что предложить союзникам в мире сверхдержав США и Китая. И это отнюдь не империя.
Евразия.Эксперт: Михаил Витальевич, не кажется ли Вам, что глобальные проекты Запада и Китая все больше идеологизируются? Разговоры про конец идеологии на Западе утихли. Китай заявляет амбициозный проект нового Шелкового пути с лозунгом всеобщего процветания...
Михаил Ремизов: Глобальный проект Запада изначально идеологизирован. Сама категория Запада – это не географическая категория, а универсалистская идеология в географической обертке. Универсалистская – значит претендующая на всеобщую значимость. И через это – на иерархию в международных отношениях: на право учить, перевоспитывать, контролировать, судить, наказывать тех, кто менее причастен декларируемым сверхценностям. Понимание этих сверхценностей в истории Западного мира менялось. Сейчас они выстроены вокруг своего рода религии прав человека. Речь идет действительно не о правовой концепции, а о некоем символе веры. Те, кто его не принимают или понимают неправильно, вызывают ненависть как неверные или еретики.
Ситуация Китая другая. Его идеология не является агрессивно-универсалистской. Китай ощущал себя центром мира, Поднебесной, много веков назад и не утратил это самоощущение. Если и считать это идеологией, то идеологией для себя, идеологией цивилизационной самодостаточности.
Правда, нужно добавить, что сегодня цивилизационная самодостаточность Китая уже не означает, как в прежние века его истории, самодостаточности экономической. Китай является основным лоббистом глобалистского проекта в ситуации, когда США и Европа начинают опасаться его последствий и подвергать его ревизии.
Глобальность экономических интересов программирует более активную геополитическую стратегию. Китай активно развивает океанский флот, скупает стратегически значимые активы по всему миру, скупает элиты развивающихся стран – все это элементы экспансии. Но ценностное измерение этой экспансии практически отсутствует. Китайцев интересуют не ценности тех, к кому они приходят, а собственные интересы.
Евразия.Эксперт: Не является ли западная идеология ширмой, за которой страны Запада отстаивают собственные экономические и политические интересы?
Михаил Ремизов: Является, но возможно и обратное. Иногда «ценности» играют первым номером. И это самый худший вариант. Например, давайте посмотрим на бомбардировки Югославии в 1999 г. с точки зрения интересов ключевых европейских стран. Можно ли сказать, что моральные и идеологические аргументы вмешательства были ширмой для их экономических, геополитических интересов? Я так не думаю.
Милошевич и сербы в их картине мира были ассоциированы с мировым злом. По разным причинам – потому ли что сербы стали восприниматься как «балканские русские», потому ли что действия Милошевича в Косово считались проявлением атавистической идеологии национального государства, которой нет места в светлом будущем Евросоюза. Так или иначе, в их квазирелигиозной картине мира «еретик» в центре Европы гораздо хуже, чем осиное гнездо организованной преступности, свитое на территории Косово.
Со Штатами сложнее, у них в этой истории могло быть больше экономических и геополитических мотивов. Но и Штаты все чаще оказываются заложниками той идеологизированной картины мира, которую они навязывают миру. Она перестает быть «прикрытием» и становится матрицей, порождающей логику их действий.
И это, повторюсь, самое страшное, потому что влечет «расчеловечивание» противника – он не просто помеха, а изгой человечества. И потому что закрывает возможности компромисса: договориться на уровне интересов, как правило, можно. Договориться на уровне идеологических догм – нельзя.
Михаил Ремизов: Глобальный проект Запада изначально идеологизирован. Сама категория Запада – это не географическая категория, а универсалистская идеология в географической обертке. Универсалистская – значит претендующая на всеобщую значимость. И через это – на иерархию в международных отношениях: на право учить, перевоспитывать, контролировать, судить, наказывать тех, кто менее причастен декларируемым сверхценностям. Понимание этих сверхценностей в истории Западного мира менялось. Сейчас они выстроены вокруг своего рода религии прав человека. Речь идет действительно не о правовой концепции, а о некоем символе веры. Те, кто его не принимают или понимают неправильно, вызывают ненависть как неверные или еретики.
Ситуация Китая другая. Его идеология не является агрессивно-универсалистской. Китай ощущал себя центром мира, Поднебесной, много веков назад и не утратил это самоощущение. Если и считать это идеологией, то идеологией для себя, идеологией цивилизационной самодостаточности.
Правда, нужно добавить, что сегодня цивилизационная самодостаточность Китая уже не означает, как в прежние века его истории, самодостаточности экономической. Китай является основным лоббистом глобалистского проекта в ситуации, когда США и Европа начинают опасаться его последствий и подвергать его ревизии.
Глобальность экономических интересов программирует более активную геополитическую стратегию. Китай активно развивает океанский флот, скупает стратегически значимые активы по всему миру, скупает элиты развивающихся стран – все это элементы экспансии. Но ценностное измерение этой экспансии практически отсутствует. Китайцев интересуют не ценности тех, к кому они приходят, а собственные интересы.
Евразия.Эксперт: Не является ли западная идеология ширмой, за которой страны Запада отстаивают собственные экономические и политические интересы?
Михаил Ремизов: Является, но возможно и обратное. Иногда «ценности» играют первым номером. И это самый худший вариант. Например, давайте посмотрим на бомбардировки Югославии в 1999 г. с точки зрения интересов ключевых европейских стран. Можно ли сказать, что моральные и идеологические аргументы вмешательства были ширмой для их экономических, геополитических интересов? Я так не думаю.
Милошевич и сербы в их картине мира были ассоциированы с мировым злом. По разным причинам – потому ли что сербы стали восприниматься как «балканские русские», потому ли что действия Милошевича в Косово считались проявлением атавистической идеологии национального государства, которой нет места в светлом будущем Евросоюза. Так или иначе, в их квазирелигиозной картине мира «еретик» в центре Европы гораздо хуже, чем осиное гнездо организованной преступности, свитое на территории Косово.
Со Штатами сложнее, у них в этой истории могло быть больше экономических и геополитических мотивов. Но и Штаты все чаще оказываются заложниками той идеологизированной картины мира, которую они навязывают миру. Она перестает быть «прикрытием» и становится матрицей, порождающей логику их действий.
И это, повторюсь, самое страшное, потому что влечет «расчеловечивание» противника – он не просто помеха, а изгой человечества. И потому что закрывает возможности компромисса: договориться на уровне интересов, как правило, можно. Договориться на уровне идеологических догм – нельзя.
Евразия.Эксперт: На Ваш взгляд, отказалась ли Россия сегодня от имперского проекта и идеи глобальной исторической миссии?
Михаил Ремизов: Исходя из того, что было сказано выше, носителем глобального имперского проекта является Запад. Россия волей-неволей ему противостоит. С каких позиций? С позиций носителя альтернативного имперского проекта? Я считаю, что нет. Скорее – с позиций нетерпимости к чужому имперскому господству, что характерно для уважающего себя национального государства.
Михаил Ремизов: Исходя из того, что было сказано выше, носителем глобального имперского проекта является Запад. Россия волей-неволей ему противостоит. С каких позиций? С позиций носителя альтернативного имперского проекта? Я считаю, что нет. Скорее – с позиций нетерпимости к чужому имперскому господству, что характерно для уважающего себя национального государства.
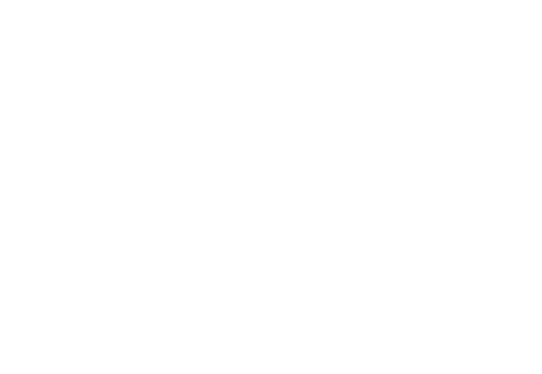
Империя отличается от обычного государства тем, что требует как раз того самого идеологического универсализма. В основе классического государства Нового времени лежит идея суверенитета народа. Империя же требует некоей идеи, как правило, религиозной или квазирелигиозной, которая стояла бы «выше» воли народа и национальных интересов.
В империях древности являлось обычным делом, что верховное лицо является также и главой религиозной организации или обожествляется. Христианство сделало такое обожествление невозможным. Но в Средневековой Европе вся феодальная «лестница» возводилась к авторитету Римского Престола, а на ее вершине, пусть и номинально, стоял император Священной римской империи.
Затем было «божественное право» королей. В СССР эту роль «наднациональной» скрепы играла коммунистическая идея. На современном Западе, как я уже сказал, – религия прав человека. К сожалению или к счастью, у сегодняшней России нет такой идеи. Такой универсалистской, глобальной идеологии, на которой можно было бы построить некую конструкцию имперского толка. Но это не значит, что у нас не может быть миссии.
Если посмотреть на нашу историю, она просматривается вполне отчетливо. Россия не раз оказывалась камнем преткновения на пути мирового господства. Карл XII, Наполеон, Гитлер, сегодняшние США.
Неважно, олицетворяет ли претендент на мировое господство прогресс, как Наполеон, или нечто прямо противоположное, как Гитлер. Мировое господство – это по определению зло. Мы в силу своего геополитического положения и своей привычки к суверенитету стоим у него на пути. Это более чем достойная миссия.
Евразия.Эксперт: Вы отметили, что сегодня нет идеи, которую можно было бы поставить выше суверенитета народа. По Вашему мнению, нужна ли она?
Михаил Ремизов: Давайте уточним. Если мы возьмем ключевые мировые религии, каждая из них содержит идеи, которые можно поставить выше всех остальных. Но это касается человеческой личности, ее системы приоритетов. А вот если мы говорим о легитимности государства, то это другое дело.
Если государство ставит себя «над» суверенитетом народа, то это будет абсолютная монархия с династической легитимностью, как в досовременную эпоху, или теократия, как в Иране, или идеократия, как в СССР и на современном Западе с их «единственно верными» учениями.
Подходят ли нам эти варианты? Теократия для христианства – довольно спорная вещь, к тому же, она требует действительно глубокой и всепроникающей религиозности общества, которой у нас нет. Идеократия программирует тотальное лицемерие и принудительное единомыслие. А монархия… Монархия умерла, по крайней мере, как самостоятельная модель легитимности, альтернативная демократии.
В свое время один радикальный испанский монархист сказал, что монархия умерла, потому что сейчас ни у кого бы не достало мужества быть монархом иначе, чем по воле народа. И дело не в мужестве, а в том, что идеи по-своему объективны. В современном европейском контексте династии могут сохраняться как вензель на фасаде дворца, но не как несущая опорная конструкция.
Поэтому, на мой взгляд, поиски чего-то «наднационального» как базы для легитимации государства не нужны и вредны. Внутри страны это разрушает демократическую культуру и ответственность, а вовне – подрывает национальные интересы.
Не случайно, когда мы выступали в роли носителя того или иного универсалистского проекта мирового масштаба – а это было во времена Священного Союза и во времена мирового социалистического лагеря, – это определенно шло во вред внутреннему национальному развитию нашей страны, да и международные плоды оказались крайне сомнительны.
Евразия.Эксперт: Идея стабильности, обосновывающая нахождение у власти правителя, который сможет ее поддерживать, не является, на Ваш взгляд, преемницей монархической легитимности?
Михаил Ремизов: Стабильность – это идея, через которую себя легитимирует любое государство, потому что оно должно давать людям устойчивость и предсказуемость правил игры. Это некий минимум, на котором строится классическое государство. Но стабильность и правопорядок никак не связаны с властью одного единственного человека. Как раз напротив, чтобы система была устойчивой, власть должна носить распределенный характер. Персоналистские режимы с сильной концентрацией власти сталкиваются с проблемой передачи власти, с проблемой качества управления. Поэтому идея устойчивости и стабильности власти никак не обосновывает в долгосрочной перспективе персоналистскую модель.
Евразия.Эксперт: Если говорить не о стране, а о региональной интеграции, что могло бы послужить объединяющей идеей?
Михаил Ремизов: Если вы говорите об интеграции на постсоветском пространстве, то она, на мой взгляд, могла бы основываться на двух идеях. Первая – новая индустриализация. Региональная интеграция оправдана, прежде всего, если мы стремимся профилироваться как индустриальные экономики. Если мы рентная (сырьевая) экономика, то нам нет нужды расширять внутренний рынок – нам нужно наоборот сократить количество «едоков», на которое рента будет делиться. В сырьевой модели интеграция противопоказана.
И наоборот, интеграция благоприятна, если мы строим экономику вокруг обрабатывающей промышленности. Такая экономика нуждается в емком внутреннем рынке, который будет базой промышленности. Эта модель получила название «фордизм».
В свое время [владельцу автомобильных заводов Генри] Форду пришла замечательная идея. Столкнувшись с кризисом сбыта своих автомобилей, он решил, что машины «Форда» должны покупать и рабочие «Форда». Правда, для этого они должны получать соответствующую зарплату. Тогда они смогут быть якорным рынком сбыта для тех автомобилей, которые они производят.
История успеха западных стран во второй половине XX века создана именно по этой фордистской модели – развитие с опорой на внутренний рынок, когда люди хорошо работают и хорошо получают. Такое накопление богатства характерно для развитого индустриального общества. В этом случае увеличение емкости внутреннего рынка имеет принципиальное значение.
Вторая идея, обосновывающая интеграцию, пока не активирована в полной мере. Это создание инфраструктуры суверенитета в условиях глобализации в мире, где действуют более сильные сверхдержавы – Соединенные Штаты и Китай, прежде всего.
Пока есть одна сверхдержава – США, но Китай постепенно становится вровень. Эти сверхдержавы претендуют (хотя и по-разному) на то, чтобы контролировать в своих интересах окружающее пространство. Поэтому государства, которые дорожат своим суверенитетом, должны позаботиться о том, чтобы этот суверенитет имел базу, в том числе в технологической, правовой, финансовой сферах.
Региональные интеграционные проекты могут этому поспособствовать. Да, они требуют, чтобы государства поступались какими-то прерогативами. Но они могут быть оправданы созданием некой инфраструктуры независимости от глобальных игроков. Потому что зависимость от них будет носить более невыгодный и тотальный характер, чем наша зависимость друг от друга. По сути Россия способна предложить своим региональным партнерам тот максимум суверенитета, который вообще возможен для относительно небольших государств в современном мире.
Евразия.Эксперт: Получается, что создавая интеграционную структуру, Россия пытается уйти от сырьевой модели?
Михаил Ремизов: По крайней мере, в ином случае это бессмысленно.
В империях древности являлось обычным делом, что верховное лицо является также и главой религиозной организации или обожествляется. Христианство сделало такое обожествление невозможным. Но в Средневековой Европе вся феодальная «лестница» возводилась к авторитету Римского Престола, а на ее вершине, пусть и номинально, стоял император Священной римской империи.
Затем было «божественное право» королей. В СССР эту роль «наднациональной» скрепы играла коммунистическая идея. На современном Западе, как я уже сказал, – религия прав человека. К сожалению или к счастью, у сегодняшней России нет такой идеи. Такой универсалистской, глобальной идеологии, на которой можно было бы построить некую конструкцию имперского толка. Но это не значит, что у нас не может быть миссии.
Если посмотреть на нашу историю, она просматривается вполне отчетливо. Россия не раз оказывалась камнем преткновения на пути мирового господства. Карл XII, Наполеон, Гитлер, сегодняшние США.
Неважно, олицетворяет ли претендент на мировое господство прогресс, как Наполеон, или нечто прямо противоположное, как Гитлер. Мировое господство – это по определению зло. Мы в силу своего геополитического положения и своей привычки к суверенитету стоим у него на пути. Это более чем достойная миссия.
Евразия.Эксперт: Вы отметили, что сегодня нет идеи, которую можно было бы поставить выше суверенитета народа. По Вашему мнению, нужна ли она?
Михаил Ремизов: Давайте уточним. Если мы возьмем ключевые мировые религии, каждая из них содержит идеи, которые можно поставить выше всех остальных. Но это касается человеческой личности, ее системы приоритетов. А вот если мы говорим о легитимности государства, то это другое дело.
Если государство ставит себя «над» суверенитетом народа, то это будет абсолютная монархия с династической легитимностью, как в досовременную эпоху, или теократия, как в Иране, или идеократия, как в СССР и на современном Западе с их «единственно верными» учениями.
Подходят ли нам эти варианты? Теократия для христианства – довольно спорная вещь, к тому же, она требует действительно глубокой и всепроникающей религиозности общества, которой у нас нет. Идеократия программирует тотальное лицемерие и принудительное единомыслие. А монархия… Монархия умерла, по крайней мере, как самостоятельная модель легитимности, альтернативная демократии.
В свое время один радикальный испанский монархист сказал, что монархия умерла, потому что сейчас ни у кого бы не достало мужества быть монархом иначе, чем по воле народа. И дело не в мужестве, а в том, что идеи по-своему объективны. В современном европейском контексте династии могут сохраняться как вензель на фасаде дворца, но не как несущая опорная конструкция.
Поэтому, на мой взгляд, поиски чего-то «наднационального» как базы для легитимации государства не нужны и вредны. Внутри страны это разрушает демократическую культуру и ответственность, а вовне – подрывает национальные интересы.
Не случайно, когда мы выступали в роли носителя того или иного универсалистского проекта мирового масштаба – а это было во времена Священного Союза и во времена мирового социалистического лагеря, – это определенно шло во вред внутреннему национальному развитию нашей страны, да и международные плоды оказались крайне сомнительны.
Евразия.Эксперт: Идея стабильности, обосновывающая нахождение у власти правителя, который сможет ее поддерживать, не является, на Ваш взгляд, преемницей монархической легитимности?
Михаил Ремизов: Стабильность – это идея, через которую себя легитимирует любое государство, потому что оно должно давать людям устойчивость и предсказуемость правил игры. Это некий минимум, на котором строится классическое государство. Но стабильность и правопорядок никак не связаны с властью одного единственного человека. Как раз напротив, чтобы система была устойчивой, власть должна носить распределенный характер. Персоналистские режимы с сильной концентрацией власти сталкиваются с проблемой передачи власти, с проблемой качества управления. Поэтому идея устойчивости и стабильности власти никак не обосновывает в долгосрочной перспективе персоналистскую модель.
Евразия.Эксперт: Если говорить не о стране, а о региональной интеграции, что могло бы послужить объединяющей идеей?
Михаил Ремизов: Если вы говорите об интеграции на постсоветском пространстве, то она, на мой взгляд, могла бы основываться на двух идеях. Первая – новая индустриализация. Региональная интеграция оправдана, прежде всего, если мы стремимся профилироваться как индустриальные экономики. Если мы рентная (сырьевая) экономика, то нам нет нужды расширять внутренний рынок – нам нужно наоборот сократить количество «едоков», на которое рента будет делиться. В сырьевой модели интеграция противопоказана.
И наоборот, интеграция благоприятна, если мы строим экономику вокруг обрабатывающей промышленности. Такая экономика нуждается в емком внутреннем рынке, который будет базой промышленности. Эта модель получила название «фордизм».
В свое время [владельцу автомобильных заводов Генри] Форду пришла замечательная идея. Столкнувшись с кризисом сбыта своих автомобилей, он решил, что машины «Форда» должны покупать и рабочие «Форда». Правда, для этого они должны получать соответствующую зарплату. Тогда они смогут быть якорным рынком сбыта для тех автомобилей, которые они производят.
История успеха западных стран во второй половине XX века создана именно по этой фордистской модели – развитие с опорой на внутренний рынок, когда люди хорошо работают и хорошо получают. Такое накопление богатства характерно для развитого индустриального общества. В этом случае увеличение емкости внутреннего рынка имеет принципиальное значение.
Вторая идея, обосновывающая интеграцию, пока не активирована в полной мере. Это создание инфраструктуры суверенитета в условиях глобализации в мире, где действуют более сильные сверхдержавы – Соединенные Штаты и Китай, прежде всего.
Пока есть одна сверхдержава – США, но Китай постепенно становится вровень. Эти сверхдержавы претендуют (хотя и по-разному) на то, чтобы контролировать в своих интересах окружающее пространство. Поэтому государства, которые дорожат своим суверенитетом, должны позаботиться о том, чтобы этот суверенитет имел базу, в том числе в технологической, правовой, финансовой сферах.
Региональные интеграционные проекты могут этому поспособствовать. Да, они требуют, чтобы государства поступались какими-то прерогативами. Но они могут быть оправданы созданием некой инфраструктуры независимости от глобальных игроков. Потому что зависимость от них будет носить более невыгодный и тотальный характер, чем наша зависимость друг от друга. По сути Россия способна предложить своим региональным партнерам тот максимум суверенитета, который вообще возможен для относительно небольших государств в современном мире.
Евразия.Эксперт: Получается, что создавая интеграционную структуру, Россия пытается уйти от сырьевой модели?
Михаил Ремизов: По крайней мере, в ином случае это бессмысленно.
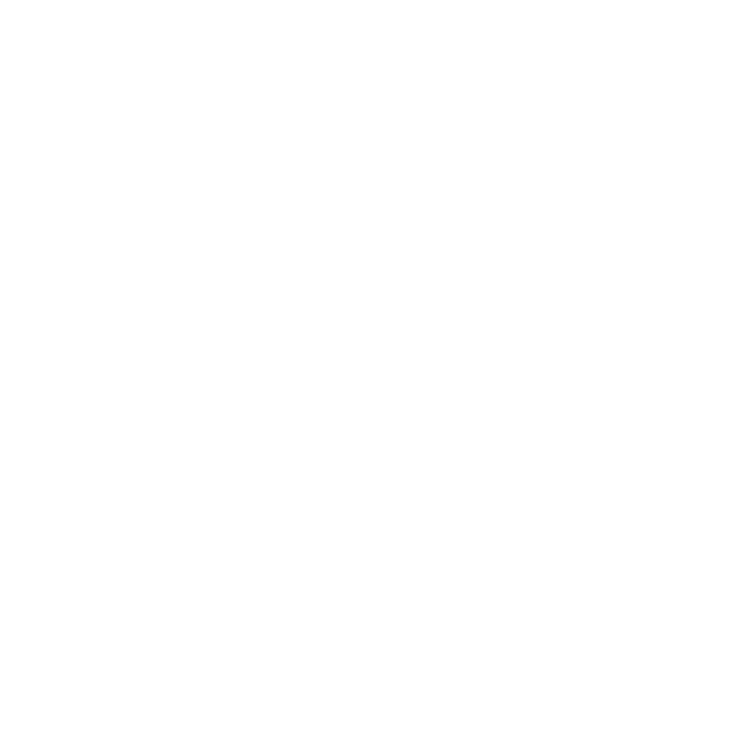
Евразия.Эксперт: Михаил Витальевич, Евразийский экономический союз преподносится сегодня как чисто экономический проект. Может ли ЕАЭС развиваться без идеологического наполнения? Не лишает ли его отсутствие идеологии долгосрочного горизонта планирования?
Михаил Ремизов: Я думаю, что принцип «только экономика и ничего больше» – это лукавство, потому что такой уровень интеграции создает серьезную взаимозависимость. Государства и люди готовы зависеть только от тех, с кем у них добрые отношения. А это не экономическая категория, а категория, отсылающая к историческому самосознанию.
Михаил Ремизов: Я думаю, что принцип «только экономика и ничего больше» – это лукавство, потому что такой уровень интеграции создает серьезную взаимозависимость. Государства и люди готовы зависеть только от тех, с кем у них добрые отношения. А это не экономическая категория, а категория, отсылающая к историческому самосознанию.
Не думаю, что идеология в узком смысле (все, что оканчивается на -изм) является хорошим способом создания этого единства. На мой взгляд, гораздо важнее и реалистичнее продвигать единые подходы в сфере политики памяти.
Если мы разойдемся по линии политики памяти слишком далеко, то ни экономического, ни военного союза в долгосрочной перспективе тоже не будет. Это касается в особенности России и Беларуси. Мы должны активнее продвигать общие проекты и подходы в сфере политики памяти.
В отношении к Великой Отечественной войне противоречий нет, и многое на этом держится. Но, если брать предшествующие периоды, то там политика памяти нас все больше разделяет.
С этой точки зрения, в отличие от Великой Отечественной, первая «отечественная война» – война 1812 г. – для белорусского школьника, вроде бы, уже чужая. А представление о том, что присоединение западнорусских земель к России в ходе разделов Польши представляло собой национальное воссоединение, воссоединение некогда единого русского пространства, в этой картине отсутствует или считается не политкорректным.
В случае с Казахстаном общность истории носит не такой глубокий характер, поэтому и расхождения не так болезненны. Но, скажем, все более проявляющаяся склонность прочитывать совместную часть истории как колониальный период, игнорируя или отрицая огромные модернизационные усилия Москвы в Средней Азии. Это, безусловно, подрывает почву для какого-то совместного будущего.
Если сильные расхождения в сфере политики памяти зацементируются и закоснеют, то мы разойдемся и в экономической, и в военной сферах.
Евразия.Эксперт: Латинизация казахского языка, по Вашему мнению, относится в этом смысле к исторической памяти?
Михаил Ремизов: Относится, но конкретно это я не стал бы расценивать как болезненный вызов. Безусловно, Казахстан дает понять, что считает себя частью тюркского мира, а не русского. Почти все тюркские государства используют латиницу. Но есть русский Казахстан. Его представители могут и должны заявлять о себе как о части русского культурного пространства. Поэтому мы можем спокойно смотреть на латинизацию казахского языка, но должны очень принципиально относиться к статусу русского языка и русской культуры в соседних республиках. Это должно быть одним из наших безусловных и постоянных приоритетов в отношениях с соседями.
Евразия.Эксперт: В одной из статей Вы писали, что у России больше нет и не может быть имперского проекта. Вместо этого России следует обратить внимание на пример Турции, последовавшей по пути укрепления национальной идеи. Как идею русского национализма можно реализовать в многонациональном государстве?
Михаил Ремизов: Турция не менее многосоставная – если не по количеству этнических единиц, дорожащих своей инаковостью, то по их доле в населении страны. Это не помешало Кемалю, после распада Османской империи, опереться на тюркские элементы и построить на этой основе достаточно успешный проект.
Но давайте возьмем более близкий пример. Не Турции, а Татарстана. В республике официально, на уровне разных законодательных актов, обозначены обязательства государства перед татарским народом внутри и вне своих границ. Является ли Татарстан многосоставным образованием? Безусловно.
«Титульного» населения в республике – немногим более половины. В России русских – более 80%. Причем если считать по критерию родного языка, что, на мой взгляд, было бы правильно, – то сильно более. Будет ли справедливо, если Российская Федерация ассоциирует себя с русским народом хотя бы в той же степени, в какой Татарстан ассоциирует себя с татарским? По-моему, вполне.
Причем не только справедливо, но и жизненно важно. У России должно быть сильное русское ядро, и только в этом случае будет создаваться необходимая культурно-цивилизационная гравитация для сохранения единства страны. Границы в нашей истории менялись довольно часто и сильно, идеологии и формы правления – тоже. Поэтому наши константы – это русская культура, русский язык и историческая память.
Даже если взять нерусские народы России, то они настолько разнообразны, что между собой их связывает именно этот русский элемент. Если русские теряют собственную идентичность и жизнеспособность, то «гравитация» на российском пространстве выключается, и оно идет к распаду.
Иными словами, мы должны найти такую формулу интеграции, которая не будет требовать от русских того, чтобы они перестали быть собой и растворились в какой-то наднациональной сущности. То же самое касается и других народов.
Русские смогут выполнять роль интегратора только в том случае, если будут осознавать себя, воспроизводить себя в поколениях – и уже на этой основе договариваться с другими народами о правилах игры в едином государственном или интеграционном пространстве.
Евразия.Эксперт: А как быть с тем, что статусы субъектов в России разные?
Михаил Ремизов: Этнотерриториальное деление – это действительно мина, заложенная под Россию. Культурные автономии, на мой взгляд, – куда более удачный способ реализации этнических прав, чем территориальные. Особенно там, где преобладает дисперсное, а не компактное расселение. Национальные республики занимают почти 1/3 территории РФ – так много получается, конечно, из-за огромной Якутии. При этом «титульные» национальности в соответствующих республиках составляют лишь порядка 7% российских граждан. Это явная и нездоровая диспропорция.
С другой стороны, мины не стоит разминировать посредством самоподрыва. Здесь нужно проявлять осторожность, и постепенно выравнивать статусы субъектов. Причем выравнивать на основе реального федерализма. Думаю, мы должны стремиться к тому, чтобы регионы имели больше самостоятельности и инициативы в управлении, чем они имеют сейчас. Большой вопрос – возможно ли это при нынешней территориальной «нарезке» страны, где потенциалы регионов очень неравновесны, и это компенсируется через жесткий бюджетный централизм.
Евразия.Эксперт: Россия сейчас в условиях санкций и ухудшения отношений с Западом больше ориентирована на концепцию внутреннего развития или внешнего?
Михаил Ремизов: Что такое «внешняя концепция» в данном случае? Если создание какой-то глобальной сферы влияния по образцу «соцлагеря», то это ненужно и непосильно. Если же речь пойдет о создании той самой инфраструктуры независимости на международном уровне, то здесь никакого противоречия с национальными задачами не возникает.
Сегодня США и крупные западные ТНК обладают своего рода инфраструктурными монополиями. Биржевая торговля – доллар. Система расчетов – SWIFT. Рейтинговые агентства – узкий пул западных компаний. Аудит и консалтинг – то же самое. Технологии, на которые завязаны системы жизнеобеспечения – энергетика, транспорт и так далее, – поставляются по принципу «черного ящика». Потребитель не знает, что внутри, и они могут быть дистанционно отключены в любой момент.
Для того чтобы устранить эту зависимость подчас недостаточно национальных решений и национальных рынков, необходима международная кооперация и инфраструктура, но построенная на других принципах. Партнерами по ее формированию могут быть государства БРИКС и развивающиеся страны на всех континентах, заинтересованные в своей независимости. Такой внешний проект является не альтернативой национальному развитию, а необходимой для него рамкой.
Евразия.Эксперт: Движемся ли мы уже в этом направлении?
Михаил Ремизов: Мы перешли Рубикон в противостоянии с глобальной империей (Крым стал таким Рубиконом), но пока не сделали выводов. Наша заявка на военно-политический суверенитет находится в разительном противоречии с экономикой зависимости, экономикой Вашингтонского консенсуса, которую мы в основных чертах сохраняем.
Понятно, что империя гипнотизирует наши элиты своей силой. Но для того, чтобы отстоять свою самостоятельность, не нужно быть сильнее ее. Глобальные империи нередко отступали перед лицом менее сильных противников, если те были достаточно упрямыми и умело использовали свои преимущества.
Если мы разойдемся по линии политики памяти слишком далеко, то ни экономического, ни военного союза в долгосрочной перспективе тоже не будет. Это касается в особенности России и Беларуси. Мы должны активнее продвигать общие проекты и подходы в сфере политики памяти.
В отношении к Великой Отечественной войне противоречий нет, и многое на этом держится. Но, если брать предшествующие периоды, то там политика памяти нас все больше разделяет.
С этой точки зрения, в отличие от Великой Отечественной, первая «отечественная война» – война 1812 г. – для белорусского школьника, вроде бы, уже чужая. А представление о том, что присоединение западнорусских земель к России в ходе разделов Польши представляло собой национальное воссоединение, воссоединение некогда единого русского пространства, в этой картине отсутствует или считается не политкорректным.
В случае с Казахстаном общность истории носит не такой глубокий характер, поэтому и расхождения не так болезненны. Но, скажем, все более проявляющаяся склонность прочитывать совместную часть истории как колониальный период, игнорируя или отрицая огромные модернизационные усилия Москвы в Средней Азии. Это, безусловно, подрывает почву для какого-то совместного будущего.
Если сильные расхождения в сфере политики памяти зацементируются и закоснеют, то мы разойдемся и в экономической, и в военной сферах.
Евразия.Эксперт: Латинизация казахского языка, по Вашему мнению, относится в этом смысле к исторической памяти?
Михаил Ремизов: Относится, но конкретно это я не стал бы расценивать как болезненный вызов. Безусловно, Казахстан дает понять, что считает себя частью тюркского мира, а не русского. Почти все тюркские государства используют латиницу. Но есть русский Казахстан. Его представители могут и должны заявлять о себе как о части русского культурного пространства. Поэтому мы можем спокойно смотреть на латинизацию казахского языка, но должны очень принципиально относиться к статусу русского языка и русской культуры в соседних республиках. Это должно быть одним из наших безусловных и постоянных приоритетов в отношениях с соседями.
Евразия.Эксперт: В одной из статей Вы писали, что у России больше нет и не может быть имперского проекта. Вместо этого России следует обратить внимание на пример Турции, последовавшей по пути укрепления национальной идеи. Как идею русского национализма можно реализовать в многонациональном государстве?
Михаил Ремизов: Турция не менее многосоставная – если не по количеству этнических единиц, дорожащих своей инаковостью, то по их доле в населении страны. Это не помешало Кемалю, после распада Османской империи, опереться на тюркские элементы и построить на этой основе достаточно успешный проект.
Но давайте возьмем более близкий пример. Не Турции, а Татарстана. В республике официально, на уровне разных законодательных актов, обозначены обязательства государства перед татарским народом внутри и вне своих границ. Является ли Татарстан многосоставным образованием? Безусловно.
«Титульного» населения в республике – немногим более половины. В России русских – более 80%. Причем если считать по критерию родного языка, что, на мой взгляд, было бы правильно, – то сильно более. Будет ли справедливо, если Российская Федерация ассоциирует себя с русским народом хотя бы в той же степени, в какой Татарстан ассоциирует себя с татарским? По-моему, вполне.
Причем не только справедливо, но и жизненно важно. У России должно быть сильное русское ядро, и только в этом случае будет создаваться необходимая культурно-цивилизационная гравитация для сохранения единства страны. Границы в нашей истории менялись довольно часто и сильно, идеологии и формы правления – тоже. Поэтому наши константы – это русская культура, русский язык и историческая память.
Даже если взять нерусские народы России, то они настолько разнообразны, что между собой их связывает именно этот русский элемент. Если русские теряют собственную идентичность и жизнеспособность, то «гравитация» на российском пространстве выключается, и оно идет к распаду.
Иными словами, мы должны найти такую формулу интеграции, которая не будет требовать от русских того, чтобы они перестали быть собой и растворились в какой-то наднациональной сущности. То же самое касается и других народов.
Русские смогут выполнять роль интегратора только в том случае, если будут осознавать себя, воспроизводить себя в поколениях – и уже на этой основе договариваться с другими народами о правилах игры в едином государственном или интеграционном пространстве.
Евразия.Эксперт: А как быть с тем, что статусы субъектов в России разные?
Михаил Ремизов: Этнотерриториальное деление – это действительно мина, заложенная под Россию. Культурные автономии, на мой взгляд, – куда более удачный способ реализации этнических прав, чем территориальные. Особенно там, где преобладает дисперсное, а не компактное расселение. Национальные республики занимают почти 1/3 территории РФ – так много получается, конечно, из-за огромной Якутии. При этом «титульные» национальности в соответствующих республиках составляют лишь порядка 7% российских граждан. Это явная и нездоровая диспропорция.
С другой стороны, мины не стоит разминировать посредством самоподрыва. Здесь нужно проявлять осторожность, и постепенно выравнивать статусы субъектов. Причем выравнивать на основе реального федерализма. Думаю, мы должны стремиться к тому, чтобы регионы имели больше самостоятельности и инициативы в управлении, чем они имеют сейчас. Большой вопрос – возможно ли это при нынешней территориальной «нарезке» страны, где потенциалы регионов очень неравновесны, и это компенсируется через жесткий бюджетный централизм.
Евразия.Эксперт: Россия сейчас в условиях санкций и ухудшения отношений с Западом больше ориентирована на концепцию внутреннего развития или внешнего?
Михаил Ремизов: Что такое «внешняя концепция» в данном случае? Если создание какой-то глобальной сферы влияния по образцу «соцлагеря», то это ненужно и непосильно. Если же речь пойдет о создании той самой инфраструктуры независимости на международном уровне, то здесь никакого противоречия с национальными задачами не возникает.
Сегодня США и крупные западные ТНК обладают своего рода инфраструктурными монополиями. Биржевая торговля – доллар. Система расчетов – SWIFT. Рейтинговые агентства – узкий пул западных компаний. Аудит и консалтинг – то же самое. Технологии, на которые завязаны системы жизнеобеспечения – энергетика, транспорт и так далее, – поставляются по принципу «черного ящика». Потребитель не знает, что внутри, и они могут быть дистанционно отключены в любой момент.
Для того чтобы устранить эту зависимость подчас недостаточно национальных решений и национальных рынков, необходима международная кооперация и инфраструктура, но построенная на других принципах. Партнерами по ее формированию могут быть государства БРИКС и развивающиеся страны на всех континентах, заинтересованные в своей независимости. Такой внешний проект является не альтернативой национальному развитию, а необходимой для него рамкой.
Евразия.Эксперт: Движемся ли мы уже в этом направлении?
Михаил Ремизов: Мы перешли Рубикон в противостоянии с глобальной империей (Крым стал таким Рубиконом), но пока не сделали выводов. Наша заявка на военно-политический суверенитет находится в разительном противоречии с экономикой зависимости, экономикой Вашингтонского консенсуса, которую мы в основных чертах сохраняем.
Понятно, что империя гипнотизирует наши элиты своей силой. Но для того, чтобы отстоять свою самостоятельность, не нужно быть сильнее ее. Глобальные империи нередко отступали перед лицом менее сильных противников, если те были достаточно упрямыми и умело использовали свои преимущества.
Опубликовано в издании "Евразия Эксперт", 2017 год
Беседовала Юлия Рулева
Беседовала Юлия Рулева
