Консерватизм как стиль мышления и политическая повестка
Академик Гусейнов поставил вопрос о том, является ли консерватизм идеологией. И предварительно на него ответил – «нет», потому что в нем нет своей концепции общественного идеала. Это своего рода традиция в понимании консерватизма. Она респектабельная, ее многие придерживаются. Понимание консерватизма как антирадикализма, как полюса в любой идейной традиции, противостоящего радикальному прочтению любой идеологии. Консерватизм в этом смысле, несомненно, существует. Однако можно говорить и о консерватизме как самостоятельной идеологической традиции, как об определенном идеологическом направлении, наряду с либеральной идеологией или семейством левых идеологий. Я согласен – у консерватизма в строгом смысле нет общественного идеала. Но это не единственный способ оценки вещей, это не единственный способ быть идеологией. У консерватизма нет общественного идеала, но есть своего рода миссия. Я бы назвал ее возобновлением истоков. Попробую пояснить… История современной цивилизации, начавшей формироваться в Европе в Новое время, это не только история прогресса – в технологиях, в экономической эффективности, в сфере свобод и эмансипации человека от ограничений и угнетений. Но это и история некоей растраты.
Растраты ресурсов, которые, возможно, являются невозобновляемыми, – ресурсов традиционного общества. Современная цивилизация выходит на арену, когда традиционное общество распадается. Это объективный, мучительный процесс. Повернуть его вспять невозможно, и консерваторы это понимают. Они понимают и риски, связанные с распадом традиционного общества. Что это за ресурсы традиционного общества, которые, с одной стороны, жизненно важны для современной цивилизации, а с другой – ею размываются и уничтожаются? Это трудовая этика. Макс Вебер в известной работе «О протестантской этике и духе капитализма» сделал акцент на трудовой этике протестантских деноминаций как основе современного капитализма. Но по мере своего роста и развития, особенно при переходе к стадии массовых рынков, формировании потребительской цивилизации, капитализм эту трудовую этику разрушает. Это одна из проблем, о которой говорят социологи и философы. Это пример того, как ресурс традиционного общества, который мы унаследовали, разрушается современной цивилизацией, но при этом нужен ей.
Другой пример – семейная этика. Мы, современная цивилизация, унаследовали от традиционного общества определенную модель, как сейчас принято говорить, гендерных отношений. Эта модель позволяла долгое время поддерживать довольно высокую рождаемость. Когда современные технологии позволили сократить смертность, в течение какого-то периода происходил интенсивный рост населения. А потом имел место так называемый демографический переход, когда рождаемость резко начала снижаться. Современное общество оказалось перед проблемой старения. Ситуация, когда доля пожилого населения в общей совокупности постоянно растет, чревата целым рядом проблем и ставит не только вопрос об источниках наполнения пенсионных фондов, но и об эволюционной состоятельности современного человечества. И, в конце концов, кто будет потреблять на тех рынках, что создают современная цивилизация и современный капитализм? Современному технико-экономическому укладу не нужно много рабочих рук. Нас всё время пугают, что не хватит рук, нужна миграция – это не так. Современные технологии позволяют производить большой объем общественного богатства малым числом рабочих рук за счет трудозамещающих технологий. Но экономике нужно много потребителей. Это одно из противоречий современного капитализма. Непонятно, как мы можем рассчитывать на экономический рост, если мы вымираем?
Растраты ресурсов, которые, возможно, являются невозобновляемыми, – ресурсов традиционного общества. Современная цивилизация выходит на арену, когда традиционное общество распадается. Это объективный, мучительный процесс. Повернуть его вспять невозможно, и консерваторы это понимают. Они понимают и риски, связанные с распадом традиционного общества. Что это за ресурсы традиционного общества, которые, с одной стороны, жизненно важны для современной цивилизации, а с другой – ею размываются и уничтожаются? Это трудовая этика. Макс Вебер в известной работе «О протестантской этике и духе капитализма» сделал акцент на трудовой этике протестантских деноминаций как основе современного капитализма. Но по мере своего роста и развития, особенно при переходе к стадии массовых рынков, формировании потребительской цивилизации, капитализм эту трудовую этику разрушает. Это одна из проблем, о которой говорят социологи и философы. Это пример того, как ресурс традиционного общества, который мы унаследовали, разрушается современной цивилизацией, но при этом нужен ей.
Другой пример – семейная этика. Мы, современная цивилизация, унаследовали от традиционного общества определенную модель, как сейчас принято говорить, гендерных отношений. Эта модель позволяла долгое время поддерживать довольно высокую рождаемость. Когда современные технологии позволили сократить смертность, в течение какого-то периода происходил интенсивный рост населения. А потом имел место так называемый демографический переход, когда рождаемость резко начала снижаться. Современное общество оказалось перед проблемой старения. Ситуация, когда доля пожилого населения в общей совокупности постоянно растет, чревата целым рядом проблем и ставит не только вопрос об источниках наполнения пенсионных фондов, но и об эволюционной состоятельности современного человечества. И, в конце концов, кто будет потреблять на тех рынках, что создают современная цивилизация и современный капитализм? Современному технико-экономическому укладу не нужно много рабочих рук. Нас всё время пугают, что не хватит рук, нужна миграция – это не так. Современные технологии позволяют производить большой объем общественного богатства малым числом рабочих рук за счет трудозамещающих технологий. Но экономике нужно много потребителей. Это одно из противоречий современного капитализма. Непонятно, как мы можем рассчитывать на экономический рост, если мы вымираем?
“
Современные технологии позволяют производить большой объем общественного богатства малым числом рабочих рук за счет трудозамещающих технологий. Но экономике нужно много потребителей. Это одно из противоречий современного капитализма. Непонятно, как мы можем рассчитывать на экономический рост, если мы вымираем?
То же самое можно сказать о христианской идее человеческой личности как некоем ресурсе, который мы наследуем от традиционного общества и который мы в каком-то смысле растрачиваем. Например, идея эмансипации – это идея, с которой современная цивилизация рождается, входит в Просвещение, эпоху борьбы идеологий. В ней нет ничего плохого. Это идея освобождения от гнета, от неких оков общества, это движение в сторону свободы человека. Но если мы посмотрим глубже, то заметим, что если этот процесс зайдет слишком далеко, начнет разрушаться сама структура человеческой личности. Потому что эмансипация предполагает не только освобождение от внешнего гнета, от внешнего принуждения со стороны общества, но и от своего рода внутреннего принуждения со стороны общества. Консервативная идея человека состоит в том, что каждый из нас, в той мере, в которой он является личностью, несет в структуре своей личности целый набор социальных институтов. Я – это не пустое «я», а член своего рода, семьи, носитель определенной национальной идентичности, наконец, я – это мужчина или женщина.
Эмансипация в ее продвинутой фазе предполагает освобождение уже не только от внешнего принуждения со стороны общества, но и от тех ролевых моделей, которые вшиты в структуру человеческой личности. Поэтому в наиболее «продвинутых» странах прогрессоры, эмансипаторы приходят к детям в школу и говорят: «Это неверное представление, что раз вы рождены мальчиками, то должны следовать мужской этике поведения, а раз вы рождены девочками – то женской. Это всего лишь гендерные роли, то есть поло-ролевые модели, которые вы можете выбрать». Всеми этими идентичностями, которые консервативная идея человека считает вшитыми в структуру человеческой личности, можно манипулировать, как конструктором. Наталия Алексеевна (Нарочницкая. – Ред.) совершенно права – когда сегодня повестка защиты сексуальных меньшинств или трансгендеров становится политически значимой и заряжает определенную часть европейской интеллигенции, будучи очень важной для нее, то дело не в собственно правозащитной деятельности – предмета для правозащитной деятельности уже нет.
Дело в том, чтобы разрушить те ролевые модели, которые предписаны человеку от рождения. Потому что сам факт, что нам нечто предписано от рождения и что эти модели ограничивают нашу ложно понятую свободу, является вызовом для идеи эмансипации. Но тем самым она разрушает структуру человеческой личности. Возникает парадоксальная ситуация. На старте идея эмансипации начинает развиваться только потому, что мы унаследовали от традиции христианскую идею человеческой личности и человеческой свободы и начали в европейской истории великий процесс ее институционализации – исходя из того, что права этой человеческой личности должны уважаться. А в какой-то момент мы приходим к тому, что сама структура человеческой личности, в ее христианском понимании, оказывается разрушенной и уничтоженной этим процессом. Где мы должны остановиться, чтобы реализовать творческо-созидательный компонент этого процесса и предотвратить саморазрушение антропоструктуры, структуры человеческой личности? Современные философы говорят о проблеме дегуманизации, о ее перспективе. Это одна из подспудных тем, которые очень волнуют современных консервативных мыслителей. Это одна консервативная тема, которую я хотел затронуть. Есть и вторая, которая тоже является примером того, как консерватизм может ответить на вызов распада ресурсов традиционного общества в рамках современной цивилизации таким образом, чтобы их поддерживать и воспроизводить.
Эмансипация в ее продвинутой фазе предполагает освобождение уже не только от внешнего принуждения со стороны общества, но и от тех ролевых моделей, которые вшиты в структуру человеческой личности. Поэтому в наиболее «продвинутых» странах прогрессоры, эмансипаторы приходят к детям в школу и говорят: «Это неверное представление, что раз вы рождены мальчиками, то должны следовать мужской этике поведения, а раз вы рождены девочками – то женской. Это всего лишь гендерные роли, то есть поло-ролевые модели, которые вы можете выбрать». Всеми этими идентичностями, которые консервативная идея человека считает вшитыми в структуру человеческой личности, можно манипулировать, как конструктором. Наталия Алексеевна (Нарочницкая. – Ред.) совершенно права – когда сегодня повестка защиты сексуальных меньшинств или трансгендеров становится политически значимой и заряжает определенную часть европейской интеллигенции, будучи очень важной для нее, то дело не в собственно правозащитной деятельности – предмета для правозащитной деятельности уже нет.
Дело в том, чтобы разрушить те ролевые модели, которые предписаны человеку от рождения. Потому что сам факт, что нам нечто предписано от рождения и что эти модели ограничивают нашу ложно понятую свободу, является вызовом для идеи эмансипации. Но тем самым она разрушает структуру человеческой личности. Возникает парадоксальная ситуация. На старте идея эмансипации начинает развиваться только потому, что мы унаследовали от традиции христианскую идею человеческой личности и человеческой свободы и начали в европейской истории великий процесс ее институционализации – исходя из того, что права этой человеческой личности должны уважаться. А в какой-то момент мы приходим к тому, что сама структура человеческой личности, в ее христианском понимании, оказывается разрушенной и уничтоженной этим процессом. Где мы должны остановиться, чтобы реализовать творческо-созидательный компонент этого процесса и предотвратить саморазрушение антропоструктуры, структуры человеческой личности? Современные философы говорят о проблеме дегуманизации, о ее перспективе. Это одна из подспудных тем, которые очень волнуют современных консервативных мыслителей. Это одна консервативная тема, которую я хотел затронуть. Есть и вторая, которая тоже является примером того, как консерватизм может ответить на вызов распада ресурсов традиционного общества в рамках современной цивилизации таким образом, чтобы их поддерживать и воспроизводить.
Немецкий социолог Фердинанд Тённис предложил дихотомию, которая стала популярной в социологии, – «общность» и «общество». Общность – условно говоря, человеческое сообщество, мыслимое по образцу семьи, на основе неких органических связей. Общество – это приоритет договорных отношений. И предполагается, что линия развития современной цивилизации, основной трек, это переход от общества семейного типа общественных связей к преобладанию договорных связей.
И Тённис, и другие социологи, которые об этом говорят, видят в этом риски. Потому что нарастает отчуждение, когда органическое соседское ощущение общины, что люди – твои братья, сменяется ощущением, что есть лишь расторжимые договорные отношения между людьми. Это рождает кризис солидарности, кризис норм.
И Тённис, и другие социологи, которые об этом говорят, видят в этом риски. Потому что нарастает отчуждение, когда органическое соседское ощущение общины, что люди – твои братья, сменяется ощущением, что есть лишь расторжимые договорные отношения между людьми. Это рождает кризис солидарности, кризис норм.
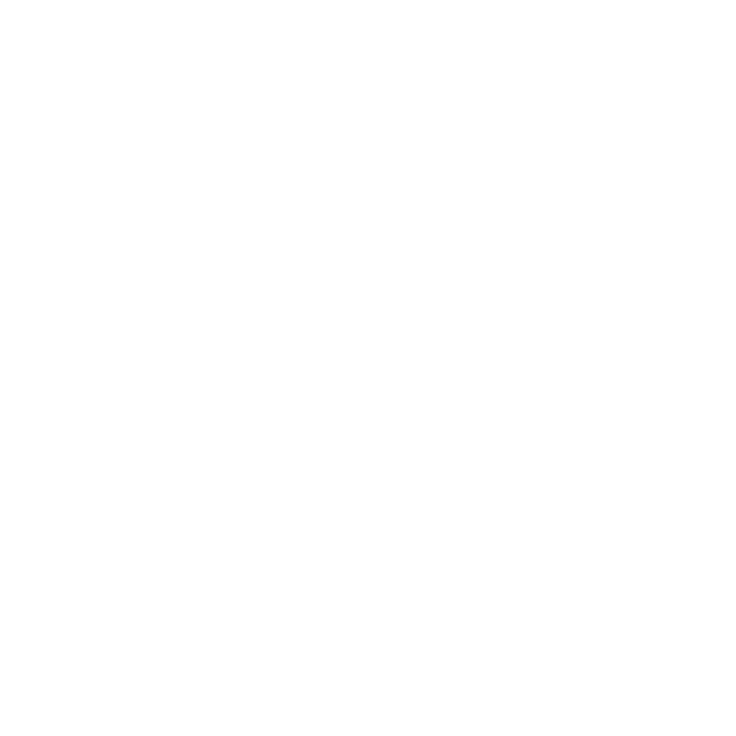
Эмиль Дюркгейм вводит такое понятие, как «аномия», то есть потеря авторитета норм, кризис ценностных регулятивов общества. Он размышляет о том, как преодолеть этот кризис, который рождается цивилизацией закономерным путем. Он предлагает идею корпоративизма, согласно которой социальные корпорации, социальные среды, построенные по профессиональному принципу, по принципу образа жизни, должны быть эрзац-общинами, заменителями традиционных общин в современном обществе. Эта идея отчасти реализовалась при построении корпоративных государств в первой трети XX века. Есть другая линия решения этой проблемы – создать в рамках современного массового общества, где люди атомизированы, элементы солидарности, элементы преемственности поколений.
Это идея национализма, который, в академическом смысле слова, подразумевает ориентацию на нацию как основную единицу общественной солидарности. Еще одна линия решения этой же проблемы поддержания органических взаимосвязей внутри современного массового общества – коммунитаризм, модная сейчас теория Чарльза Тейлора и Майкла Зайделя. Это способ органических взаимосвязей внутри малых общин и сообществ. Здесь всплывает и тема местного самоуправления. Это другой пример того, как консерватизм осуществляет некую стратегию даже не реакции – я согласен с академиком Гусейновым, что консерватизм реактивен, – но стратегию продуктивного реванша. В том смысле, что ресурсы традиционного общества в рамках массового общества можно воспроизводить и можно компенсировать атомизацию, дегуманизацию некоей контрстратегией. История консерватизма это и есть история такой контрстратегии, стратегии продуктивного реванша. На мой взгляд, ее наиболее зримым воплощением является идея нации. С одной стороны, это одна из основных идей современной цивилизации, общества модерна. С другой – некое эхо традиционной модели социума. Это способ сохранить в современном массовом обществе те формы солидарности и органические взаимосвязи, которые были характерны для традиционного общества. И именно в контексте национальной идеи возникает осевая, на мой взгляд, политическая идея консерватизма. Это идея совместного наследия. Если мы сравним между собой большие политические идеологии, то увидим, что у них не просто разные политические ценности, а разный источник политических ценностей. Для одних – это общественный идеал, идеал справедливого общества, во имя которого приносились революционные жертвы и затевались большие проекты переустройства человеческой жизни. Для других – идея индивидуальных прав и свобод, частной собственности. Так вот, на мой взгляд, для консерватизма таким источником политических ценностей является идея того, что мы как историческое сообщество, как нация, являемся обладателями сверхзначимого совместного наследия. Это то, что заставляет нас реализовывать совместные стратегии.
Речь идет как о материальном наследии – земле, недрах, инфраструктуре, стратегических объектах, – так и о нематериальном – культуре, языке, исторических преданиях. Мы как члены этого общества, которое имеет коллективное наследство, гораздо богаче, чем как индивидуальные единицы. Потому что как членам этой общности нам принадлежит всё ее совокупное, накопленное поколениями богатство. И мы вправе и обязаны ставить вопрос, насколько оно продуктивно и рачительно используется, насколько мы адекватно реализуем свои права и обязанности наследников.
Одна из претензий, предъявляемых консерваторам, состоит во властепоклонстве, лоялизме по отношению к государству. Это подразумевается как бы по определению. Это несправедливо. Консерватор, по определению, куда более требователен по отношению к своему государству, чем либерал или марксист. В чем для либералов основание требовательности к государству? Мы платим налоги, дайте нам дороги. Это справедливо, но, что называется, от сих до сих. Наше государство получает налоги преимущественно от крупных корпораций, поэтому в России такая логика требований к государству хромает. Не частные лица составляют бюджет, а корпорации. Марксистская же линия требовательности к государству состоит в том, что капитал присваивает прибавочный продукт, а государство является агентом капитала, то есть государство косвенно присваивает наш труд. Основание же консервативной идеи требовательности по отношению к государству другое: государство – это распорядитель нашего совместного наследства, которое оставили нам предшествующие поколения, материального и нематериального. Отсюда вырастает практическая повестка консерватизма. В том, что касается материального наследства, вопрос номер один: «Как сделать так, чтобы стратегические объекты и активы работали на общественное благо?»
Это идея национализма, который, в академическом смысле слова, подразумевает ориентацию на нацию как основную единицу общественной солидарности. Еще одна линия решения этой же проблемы поддержания органических взаимосвязей внутри современного массового общества – коммунитаризм, модная сейчас теория Чарльза Тейлора и Майкла Зайделя. Это способ органических взаимосвязей внутри малых общин и сообществ. Здесь всплывает и тема местного самоуправления. Это другой пример того, как консерватизм осуществляет некую стратегию даже не реакции – я согласен с академиком Гусейновым, что консерватизм реактивен, – но стратегию продуктивного реванша. В том смысле, что ресурсы традиционного общества в рамках массового общества можно воспроизводить и можно компенсировать атомизацию, дегуманизацию некоей контрстратегией. История консерватизма это и есть история такой контрстратегии, стратегии продуктивного реванша. На мой взгляд, ее наиболее зримым воплощением является идея нации. С одной стороны, это одна из основных идей современной цивилизации, общества модерна. С другой – некое эхо традиционной модели социума. Это способ сохранить в современном массовом обществе те формы солидарности и органические взаимосвязи, которые были характерны для традиционного общества. И именно в контексте национальной идеи возникает осевая, на мой взгляд, политическая идея консерватизма. Это идея совместного наследия. Если мы сравним между собой большие политические идеологии, то увидим, что у них не просто разные политические ценности, а разный источник политических ценностей. Для одних – это общественный идеал, идеал справедливого общества, во имя которого приносились революционные жертвы и затевались большие проекты переустройства человеческой жизни. Для других – идея индивидуальных прав и свобод, частной собственности. Так вот, на мой взгляд, для консерватизма таким источником политических ценностей является идея того, что мы как историческое сообщество, как нация, являемся обладателями сверхзначимого совместного наследия. Это то, что заставляет нас реализовывать совместные стратегии.
Речь идет как о материальном наследии – земле, недрах, инфраструктуре, стратегических объектах, – так и о нематериальном – культуре, языке, исторических преданиях. Мы как члены этого общества, которое имеет коллективное наследство, гораздо богаче, чем как индивидуальные единицы. Потому что как членам этой общности нам принадлежит всё ее совокупное, накопленное поколениями богатство. И мы вправе и обязаны ставить вопрос, насколько оно продуктивно и рачительно используется, насколько мы адекватно реализуем свои права и обязанности наследников.
Одна из претензий, предъявляемых консерваторам, состоит во властепоклонстве, лоялизме по отношению к государству. Это подразумевается как бы по определению. Это несправедливо. Консерватор, по определению, куда более требователен по отношению к своему государству, чем либерал или марксист. В чем для либералов основание требовательности к государству? Мы платим налоги, дайте нам дороги. Это справедливо, но, что называется, от сих до сих. Наше государство получает налоги преимущественно от крупных корпораций, поэтому в России такая логика требований к государству хромает. Не частные лица составляют бюджет, а корпорации. Марксистская же линия требовательности к государству состоит в том, что капитал присваивает прибавочный продукт, а государство является агентом капитала, то есть государство косвенно присваивает наш труд. Основание же консервативной идеи требовательности по отношению к государству другое: государство – это распорядитель нашего совместного наследства, которое оставили нам предшествующие поколения, материального и нематериального. Отсюда вырастает практическая повестка консерватизма. В том, что касается материального наследства, вопрос номер один: «Как сделать так, чтобы стратегические объекты и активы работали на общественное благо?»
“
Основание же консервативной идеи требовательности по отношению к государству другое: государство – это распорядитель нашего совместного наследства, которое оставили нам предшествующие поколения, материального и нематериального. Отсюда вырастает практическая повестка консерватизма. В том, что касается материального наследства, вопрос номер один: «Как сделать так, чтобы стратегические объекты и активы работали на общественное благо?»
Форма собственности может быть самой разной, но режим экономического использования стратегических объектов должен быть таким, чтобы они работали на общественное благо. Здесь мы говорим о проблеме недропользования, деоффшоризации экономики, о тех вопросах, которые Сергей Юрьевич (Глазьев. – Ред.) поднимал в своем выступлении. В том, что касается нематериального наследства, вопрос номер один: «Как сделать так, чтобы это большое нематериальное наследие стало ресурсом воспроизводства человеческой личности и нации?».
Консервативная идея образования отличается от либеральной тем, что мы видим в системе образования не только способ выработки профессиональных компетенций и навыков, но и систему, модель формирования нации. Именно так рождались современные системы образования в Европе в XIX веке. Потом эту функцию они стали утрачивать. Хотелось бы, чтобы мы эти истоки не теряли. Итак, я представил две линии размышлений, две темы, важные для консерватизма. Первая тема – это то, что можно назвать традиционными ценностями семьи и христианским пониманием человеческой личности, то есть сопротивлением дегуманизации в ее современном виде. Другая тема – это совокупное наследство, материальное и нематериальное, которым мы должны эффективно распорядиться.
Эти две темы представляют идеальную модель для распределения ролей государства и общества в консервативной политике. Если всё, что касается общественного наследия, это по преимуществу прерогатива государства и его прямая обязанность (и стратегические недра, и система образования), то всё, что касается политики защиты, актуализации традиционных европейских ценностей, – это задача общества. Здесь государство может сильно навредить, если будет насаждать это напрямую. В данном случае задача государства скорее оградить от зла, чем насадить добро. Условно говоря, не пустить в школы тех западных культуртрегеров, которые будут рассказывать детям, что есть родитель № 1 и родитель № 2, а гендерные идентичности можно свободно выбирать, в зависимости от вкусовых пристрастий. Не пускать этих людей в школы – задача государства. Но всё остальное – реализация позитивной стороны консервативной повестки – задача активного гражданского общества.
Консервативная идея образования отличается от либеральной тем, что мы видим в системе образования не только способ выработки профессиональных компетенций и навыков, но и систему, модель формирования нации. Именно так рождались современные системы образования в Европе в XIX веке. Потом эту функцию они стали утрачивать. Хотелось бы, чтобы мы эти истоки не теряли. Итак, я представил две линии размышлений, две темы, важные для консерватизма. Первая тема – это то, что можно назвать традиционными ценностями семьи и христианским пониманием человеческой личности, то есть сопротивлением дегуманизации в ее современном виде. Другая тема – это совокупное наследство, материальное и нематериальное, которым мы должны эффективно распорядиться.
Эти две темы представляют идеальную модель для распределения ролей государства и общества в консервативной политике. Если всё, что касается общественного наследия, это по преимуществу прерогатива государства и его прямая обязанность (и стратегические недра, и система образования), то всё, что касается политики защиты, актуализации традиционных европейских ценностей, – это задача общества. Здесь государство может сильно навредить, если будет насаждать это напрямую. В данном случае задача государства скорее оградить от зла, чем насадить добро. Условно говоря, не пустить в школы тех западных культуртрегеров, которые будут рассказывать детям, что есть родитель № 1 и родитель № 2, а гендерные идентичности можно свободно выбирать, в зависимости от вкусовых пристрастий. Не пускать этих людей в школы – задача государства. Но всё остальное – реализация позитивной стороны консервативной повестки – задача активного гражданского общества.
Опубликовано на портале essaysonconservatism.ru. Стенограмма семинара от 24 февраля 2014 года
