Консерватизм и вызов интеллектуального класса
Викторианский проект для России
Интеллектуальный класс как субъект и адресат идеологий
В общественных науках рубежа XX–XXI веков преобладало мнение, что век политических идеологий миновал. Это может быть верно при узком понимании идеологий как целостных доктрин, функционально привязанных к классовой структуре общества. Но в более широком смысле под политической идеологией можно понимать любую устойчивую модель интеграции элит, а также коммуникации элит и масс, так или иначе «склеивающую» политические цели и ценности, групповые аффекты и социальные интересы. В этом качестве политические идеологии остаются актуальны и функциональны.
Вопрос в том, какую функцию поставить на первый план. Обычно в этом качестве по умолчанию воспринимают функцию мобилизации социальной поддержки, легитимации действий власти и самого ее существования в глазах широких слоев общества. Однако более важной и более специфичной представляется другая функция – интеграция элит. Более специфичной – поскольку здесь бóльшую роль играет коммуникация по поводу целей и ценностей (на массовом уровне интеграция достигается скорее на уровне культурного и информационного поля, чем политического мировоззрения). Более важной – поскольку консолидация «элит» является предпосылкой мобилизации «общества».
Говоря об элитах, мы в данном случае имеем в виду не только относительно узкую правящую группу, но достаточно широкий слой носителей разных типов «капитала», в терминах Пьера Бурдье (административного, финансового, символического, культурного, силового и т.д.). Сложность интеграции элит в указанном смысле состоит в том, что способом их существования является конфликт, причем конфликт не только между элитными группами, но между носителями разных видов «капитала». Например, финансового, силового и культурного. Конфликты такого рода вполне нормальны, но могут быть и чрезвычайно разрушительны. Идеологическая интеграция элит важна в том числе и для того, чтобы они не приобретали антагонистический характер.
Разумеется, это зависит от всех потенциальных сторон конфликта. Но в том, что касается собственно идеологической интеграции элит, «первая скрипка» принадлежит скорее не «власти», а «интеллектуальному классу». Именно этот слой людей, являющихся носителем символического, культурного капитала и причастных к производству и распространению знания, является ключевым автором и адресатом политических идеологий.
Во-первых, по той простой причине, что наиболее чувствителен к идеям, идеологическим факторам социальной интеграции.
Во-вторых, поскольку является ретранслятором любых идей и веяний на другие социальные слои.
В-третьих, именно он (в возрастающей степени по мере развития технологий и социальных коммуникаций) «создает будущее» (включая и образы будущего, и его факторы в виде производительных сил).
Для сегодняшней России идеологическая интеграция интеллектуального класса является одним из ключевых вызовов. И проблема не только и не столько в нелояльности значительной части интеллектуального класса по отношению к действующей власти. Проблема в нелояльности по отношению к национальной государственности России как таковой и заведомой нетерпимости к «сословным» антагонистам в лице «бюрократии», «силовиков», «РПЦ» и так далее. Обе эти черты – космополитизм и социальная нетерпимость – заставляют вспомнить о трагической роли интеллигенции в конце XIX – начале XX века. Трагической как для судеб страны, так и для нее самой.
Опыт отечественной истории ХХ века убедительно доказал, что конфликт интеллектуального класса с национальной государственностью потенциально убийствен для обеих соперничающих сил. Поэтому любая идеологическая конструкция, которая формируется сегодня в России и для России, должна давать ответ на этот двойной вызов:
– как обеспечить национальную лояльность интеллектуального класса?
– как обеспечить его готовность к социальному сотрудничеству и компромиссу?
Такая постановка вопроса делает вполне закономерным обращение к консервативной идеологической традиции, которая с самых своих истоков делает акцент на значимости общего исторического наследия как основы социальной связи и ориентируется на социально-корпоративное сотрудничество как альтернативу классовому и сословному антагонизму.
В общественных науках рубежа XX–XXI веков преобладало мнение, что век политических идеологий миновал. Это может быть верно при узком понимании идеологий как целостных доктрин, функционально привязанных к классовой структуре общества. Но в более широком смысле под политической идеологией можно понимать любую устойчивую модель интеграции элит, а также коммуникации элит и масс, так или иначе «склеивающую» политические цели и ценности, групповые аффекты и социальные интересы. В этом качестве политические идеологии остаются актуальны и функциональны.
Вопрос в том, какую функцию поставить на первый план. Обычно в этом качестве по умолчанию воспринимают функцию мобилизации социальной поддержки, легитимации действий власти и самого ее существования в глазах широких слоев общества. Однако более важной и более специфичной представляется другая функция – интеграция элит. Более специфичной – поскольку здесь бóльшую роль играет коммуникация по поводу целей и ценностей (на массовом уровне интеграция достигается скорее на уровне культурного и информационного поля, чем политического мировоззрения). Более важной – поскольку консолидация «элит» является предпосылкой мобилизации «общества».
Говоря об элитах, мы в данном случае имеем в виду не только относительно узкую правящую группу, но достаточно широкий слой носителей разных типов «капитала», в терминах Пьера Бурдье (административного, финансового, символического, культурного, силового и т.д.). Сложность интеграции элит в указанном смысле состоит в том, что способом их существования является конфликт, причем конфликт не только между элитными группами, но между носителями разных видов «капитала». Например, финансового, силового и культурного. Конфликты такого рода вполне нормальны, но могут быть и чрезвычайно разрушительны. Идеологическая интеграция элит важна в том числе и для того, чтобы они не приобретали антагонистический характер.
Разумеется, это зависит от всех потенциальных сторон конфликта. Но в том, что касается собственно идеологической интеграции элит, «первая скрипка» принадлежит скорее не «власти», а «интеллектуальному классу». Именно этот слой людей, являющихся носителем символического, культурного капитала и причастных к производству и распространению знания, является ключевым автором и адресатом политических идеологий.
Во-первых, по той простой причине, что наиболее чувствителен к идеям, идеологическим факторам социальной интеграции.
Во-вторых, поскольку является ретранслятором любых идей и веяний на другие социальные слои.
В-третьих, именно он (в возрастающей степени по мере развития технологий и социальных коммуникаций) «создает будущее» (включая и образы будущего, и его факторы в виде производительных сил).
Для сегодняшней России идеологическая интеграция интеллектуального класса является одним из ключевых вызовов. И проблема не только и не столько в нелояльности значительной части интеллектуального класса по отношению к действующей власти. Проблема в нелояльности по отношению к национальной государственности России как таковой и заведомой нетерпимости к «сословным» антагонистам в лице «бюрократии», «силовиков», «РПЦ» и так далее. Обе эти черты – космополитизм и социальная нетерпимость – заставляют вспомнить о трагической роли интеллигенции в конце XIX – начале XX века. Трагической как для судеб страны, так и для нее самой.
Опыт отечественной истории ХХ века убедительно доказал, что конфликт интеллектуального класса с национальной государственностью потенциально убийствен для обеих соперничающих сил. Поэтому любая идеологическая конструкция, которая формируется сегодня в России и для России, должна давать ответ на этот двойной вызов:
– как обеспечить национальную лояльность интеллектуального класса?
– как обеспечить его готовность к социальному сотрудничеству и компромиссу?
Такая постановка вопроса делает вполне закономерным обращение к консервативной идеологической традиции, которая с самых своих истоков делает акцент на значимости общего исторического наследия как основы социальной связи и ориентируется на социально-корпоративное сотрудничество как альтернативу классовому и сословному антагонизму.
Опыт Британии: как сублимировать революцию?
Эта двуединая задача «национализации» и социальной кооптации интеллектуального класса, во-первых, далеко не беспрецедентна (а, напротив, вполне типична для модернизирующихся обществ) и, во-вторых, вполне решаема.
Интеллектуальный класс возникает в эпоху Модерна и во многом ее олицетворяет, реализуя характерные для нее установки на прогресс и новизну. В этом качестве он с неизбежностью бросает вызов сложившейся структуре общества, в которой для него не находится места. Интеллектуальная и идеологическая история Нового времени во многом является историей этого вызова и различных форм ответа на него.
Интеллектуальный класс возникает в эпоху Модерна и во многом ее олицетворяет, реализуя характерные для нее установки на прогресс и новизну. В этом качестве он с неизбежностью бросает вызов сложившейся структуре общества, в которой для него не находится места. Интеллектуальная и идеологическая история Нового времени во многом является историей этого вызова и различных форм ответа на него.
Примерами успешного ответа на этот вызов служат «бисмарковская» Германия, где интеллектуальный класс консолидировался на почве национальной идеи (именно успешная интеграция интеллектуального класса в сословную структуру и культурное поле германской бюрократической империи обеспечили научно-промышленный и военный рывок этой страны в конце XIX века) и «викторианская» Англия, ставшая, по выражению Вадима Цымбурского, единственной из великих держав, которая «при переходе к массовому обществу сумела сублимировать революцию».
Великобритании сформировался негласный альянс земельной аристократии и новых городских кругов, который явился ключевым признаком британского викторианства и основывался на надсословном идеале «джентльмена», то есть аристократической модели личности, впитавшей в себя ценности новой эпохи знаний и открытой для лучших представителей других сословий.
Цымбурский в статье «О “русском викторианстве”» пишет о своего рода социальном пакте, реализованном в викторианскую эпоху в Британии, до этого пережившей сначала «дразнящий и злящий буржуа разгул аристократов при Георгах III и IV», «а затем – двадцать лет… чартистской революции». Суть этого пакта сводилась к трем основным позициям (звучащим весьма актуально для современной России):
– обуздание социального эгоизма и самодовольства знати;
– формирование нового надсословного типа человека элиты;
– безоговорочная национальная лояльность.
К этим трем позициям можно добавить приверженность местному укладу жизни, созвучному принципам консервативного «локализма» в духе Эдмунда Бёрка.
В мировоззренческом отношении ключевой чертой «викторианского» проекта стал синтез военно-аристократических и научно-интеллектуальных ценностей и моделей поведения (этосов). В России в XIX веке исторического синтеза между ними не произошло – разночинная интеллигенция столкнулась с аристократической империей в непримиримом конфликте. При этом позднеимперский период в России оказался богат яркими типажами, воплощающими живой синтез интеллектуально-научного и военно-аристократического этоса. Можно вспомнить в этой связи военных путешественников типа Георгия Седова и Николая Пржевальского; интеллектуалов, связанных с разведкой, типа Сергея Сыромятникова или Владимира Обручева; основоположника современного российского кораблестроения Алексея Крылова и основоположника авиастроения Игоря Сикорского и так далее.
Иными словами, «викторианские» фигуры в обилии рождались российской почвой, но почему-то не приживались в российском культурном пантеоне. Основная причина тому – мировоззрение российской интеллигенции, которая в отличие от британского интеллектуального класса стремилась стать не восприемником военно-аристократических ценностей (в адаптированной к современной эпохе форме), а их могильщиком. Иными словами, русской культуре XIX века для обеспечения цивилизационного запаса прочности не хватило консервативного фермента.
Оба примера – германский и английский – примечательны исключительной ролью консервативного мировоззрения в «национализации» и социальной интеграции интеллектуального класса. В Германии это стало возможно благодаря влиянию политической философии романтизма, исторической школы и Гегеля, в Англии благодаря консервативным принципам Эдмунда Бёрка и его наследников.
В период перехода от аграрно-сословного к раннеиндустриальному обществу, когда все государства Европы столкнулись с революционным потенциалом научного и образовательного прогресса, консерватизм сформировался в качестве идеологии самоограничения интеллектуального класса. Это самоограничение было обусловлено двумя взаимосвязанными мотивами – уважением к наследию «аристократической эпохи» и разумным социальным эгоизмом, подсказывающим, что интеграция, поиск достойного места в рамках своих сословных (на тот момент) наций является более дальновидной стратегией, чем попытка взорвать их изнутри.
Великобритании сформировался негласный альянс земельной аристократии и новых городских кругов, который явился ключевым признаком британского викторианства и основывался на надсословном идеале «джентльмена», то есть аристократической модели личности, впитавшей в себя ценности новой эпохи знаний и открытой для лучших представителей других сословий.
Цымбурский в статье «О “русском викторианстве”» пишет о своего рода социальном пакте, реализованном в викторианскую эпоху в Британии, до этого пережившей сначала «дразнящий и злящий буржуа разгул аристократов при Георгах III и IV», «а затем – двадцать лет… чартистской революции». Суть этого пакта сводилась к трем основным позициям (звучащим весьма актуально для современной России):
– обуздание социального эгоизма и самодовольства знати;
– формирование нового надсословного типа человека элиты;
– безоговорочная национальная лояльность.
К этим трем позициям можно добавить приверженность местному укладу жизни, созвучному принципам консервативного «локализма» в духе Эдмунда Бёрка.
В мировоззренческом отношении ключевой чертой «викторианского» проекта стал синтез военно-аристократических и научно-интеллектуальных ценностей и моделей поведения (этосов). В России в XIX веке исторического синтеза между ними не произошло – разночинная интеллигенция столкнулась с аристократической империей в непримиримом конфликте. При этом позднеимперский период в России оказался богат яркими типажами, воплощающими живой синтез интеллектуально-научного и военно-аристократического этоса. Можно вспомнить в этой связи военных путешественников типа Георгия Седова и Николая Пржевальского; интеллектуалов, связанных с разведкой, типа Сергея Сыромятникова или Владимира Обручева; основоположника современного российского кораблестроения Алексея Крылова и основоположника авиастроения Игоря Сикорского и так далее.
Иными словами, «викторианские» фигуры в обилии рождались российской почвой, но почему-то не приживались в российском культурном пантеоне. Основная причина тому – мировоззрение российской интеллигенции, которая в отличие от британского интеллектуального класса стремилась стать не восприемником военно-аристократических ценностей (в адаптированной к современной эпохе форме), а их могильщиком. Иными словами, русской культуре XIX века для обеспечения цивилизационного запаса прочности не хватило консервативного фермента.
Оба примера – германский и английский – примечательны исключительной ролью консервативного мировоззрения в «национализации» и социальной интеграции интеллектуального класса. В Германии это стало возможно благодаря влиянию политической философии романтизма, исторической школы и Гегеля, в Англии благодаря консервативным принципам Эдмунда Бёрка и его наследников.
В период перехода от аграрно-сословного к раннеиндустриальному обществу, когда все государства Европы столкнулись с революционным потенциалом научного и образовательного прогресса, консерватизм сформировался в качестве идеологии самоограничения интеллектуального класса. Это самоограничение было обусловлено двумя взаимосвязанными мотивами – уважением к наследию «аристократической эпохи» и разумным социальным эгоизмом, подсказывающим, что интеграция, поиск достойного места в рамках своих сословных (на тот момент) наций является более дальновидной стратегией, чем попытка взорвать их изнутри.
Консервативный Модерн
В новейшей истории идеологические течения консервативного толка также выполняли схожую роль. Показателен в этом отношении опыт так называемой культурной революции 1960-х годов в США и Западной Европе, которая была бунтом значительной и влиятельной части интеллектуального класса против культурных, экономических и политических устоев своей цивилизации. Ответом на этот вызов в американской политике стал «неоконсерватизм» как новый идеологический и социальный синтез, основу которого составила связка военно-промышленного комплекса и отдельных сообществ интеллектуалов вокруг идеи победы в холодной войне.
Некий консервативный идеологический синтез необходим и сегодняшней России, для того чтобы ответить на аналогичный вызов. Он не должен слишком напоминать американский неоконсерватизм 1970–1980-х годов в идейном отношении, но мог бы выполнить схожую социально-политическую роль:
– во-первых, также обеспечив связку широких сегментов интеллектуального класса и военных / военно-промышленного кругов;
– во-вторых, знаменуя принципиальную лояльность интеллектуалов «своей стороне» в холодной войне;
– в-третьих, делая акцент на культурно-идеологических факторах геополитического статуса страны и ее суверенитета.
При этом для сегодняшней России важной частью нового консервативного синтеза должно стать утверждение таких естественных для интеллектуального класса принципов, как свобода высказываний и исследований, широкие полномочия политического представительства, реальная автономия университетов и академической корпорации.
Одна из черт сегодняшнего кризиса – пока не политического, но, как справедливо отмечают некоторые наблюдатели, этического – состоит в тупиковой и порочной для будущего страны модели ценностного размежевания: «суверенитет без свободы» vs «свобода без суверенитета». Безусловно, есть и сторонники компромисса. Но их все меньше, и это закономерно, поскольку компромисс в данном случае – действительно не решение. Свобода и суверенитет должны быть не сбалансированы как противоположности, а осознаны как взаимно обусловленные принципы. Несмотря на «общемодерный» характер обеих ценностей, для такого осознания больше, чем либеральная, подходит консервативная традиция.
Референтом либерализма является человек как частное лицо, обладающее неким пакетом исходных, досоциальных прав. С социологической точки зрения, это нонсенс – права немыслимы вне контекста сообщества, которое их признаёт. Это один из лейтмотивов консервативной критики либерализма (наиболее системно выраженный в «Философии права» Гегеля). Так или иначе, одно из следствий либерального взгляда – первичность прав по отношению к обязанностям. Обязанности вводятся лишь на следующем шаге как производная от прав других людей.
Консерватизм, касаясь вопросов прав и свобод, как правило, оказывается ближе к античной республиканской традиции. Ее адресатом является не абстрактный «человек», а гражданин как член политического сообщества. Его права мыслятся как своего рода привилегии, следствие членства в «привилегированном клубе», каковым является гражданская община. В этой логике права возникают только вместе с публично-правовым порядком и вместе с обязанностями. Поэтому в консервативном прочтении индивидуальная свобода оказывается обратной стороной коллективной свободы, а статус и достоинство гражданина становятся возможны только под залог суверенитета того сообщества, гражданином которого он является. Что, кстати, не делает гражданские свободы менее фундаментальными в консервативной оптике. Напротив, их отчуждение будет не просто нарушением прав, но оскорблением суверена.
Аналогичные расхождения касаются прочтения солидарности. Либеральная политическая философия уделяет исключительно важное значение формальной, процедурной справедливости, основанной на моральной симметрии, иногда трактуя ее в минималистском ключе, как либертарианец Роберт Нозик, иногда в расширенном, как социал-демократ Джон Ролз. Эти концепции во многом противоположны, но идентичны в плане социальной методологии. Как отмечает британский консервативный мыслитель Аласдер Макинтайр, сравнивая предлагаемые этими авторами модели справедливости, «с точки зрения обоих, ситуация такова, как будто мы потерпели кораблекрушение и попали на необитаемый остров вместе с другими индивидами, чуждыми нам и друг другу» [3, с. 339]. Иными словами, ни одна, ни другая версия справедливости не учитывает взаимной сопричастности и сопринадлежности людей черезто общее наследие, которое, собственно, если рассуждать в духе аристотелевской традиции, делает их в полном смысле людьми и создает между ними взаимные обязательства.
Справедливость, исходящая из такой сопричастности, будет в первую очередь солидарностью – предпочтением своим собратьям по «гражданской общине», с которыми ты разделяешь бремя суверенитета и привилегию гражданской свободы. Эти три категории – суверенитет, солидарность, свобода – представляются нам наиболее удачными претендентами на роль консервативной ценностной триады в современных условиях. Собственно, это классические европейские ценности эпохи Модерна, через которые определяется сама идея нации.
Взаимосвязь национальной идеи с идеологическим консерватизмом для многих остается спорным вопросом из-за явной ассоциации с эпохой Французской революции, когда она провозглашалась вопреки устоям имперско-династической и сословной Европы. Действительно, эта идея приобретает качественно новое звучание в революционную эпоху, однако отнюдь не создается ею. И в политическом, и в культурном своем измерении она во многом является завещанием «старого порядка». И главное, уже после 1789 года и в еще большей мере после революционной волны 1848 года она подхватывается частью консерваторов как способ воплощения в новых условиях кардинальных для них принципов:
– нация является формой сохранения и актуализации коллективного наследия;
– нация придает формальным институтам характер органических («домодерных» по духу) социальных связей;
– нация является механизмом социального сотрудничества и ограничения классового эгоизма, прежде всего верхних слоев (в этой связи можно вспомнить о таких фигурах, как Дизраэли, Бисмарк, Наполеон III).
Все это дает основание считать консерватизм соавтором современной эпохи, в которой ему есть чем дорожить и есть, что терять. Поэтому вполне естественно, что сегодня именно консервативные течения оказываются наиболее последовательными защитниками принципов общества Модерна перед лицом концепций «постнационального будущего» и многоликой «постсовременности», надвигающейся на мир в единстве трех тенденций:
– десуверенизации, связанной с такими процессами, как формирование международного режима прав человека, институционализация «права на вмешательство», продвижение трансграничной юрисдикции (со стороны США как претендента на роль новой империи), глобализация под эгидой транснациональных корпораций, разрушение культурных основ национальной лояльности;
– десоциализации, проявляющейся в углублении социального неравенства, тенденции к сбросу социальных обязательств со стороны ориентированных на глобализацию элит и фрагментации обществ, превращающихся в конгломерат меньшинств;
– дегуманизации, связанной с разрушением / трансформацией структуры человеческой личности эпохи Модерна под воздействием целого ряда идеологических и технологических факторов (деконструкция гендерных ролей и барьеров, новый тоталитаризм «политкорректной» цензуры, новые технологии информационного контроля, идеологии трансгуманизма, влияние технологий генной инженерии и виртуальной реальности и т.п.).
Именно в противовес этим трем сквозным тенденциям постсовременной глобализации получают свою актуальность три упомянутых выше политических принципа: суверенитет, солидарность, свобода. Остановимся подробнее на том, что слышится сегодня в каждом из них.
В новейшей истории идеологические течения консервативного толка также выполняли схожую роль. Показателен в этом отношении опыт так называемой культурной революции 1960-х годов в США и Западной Европе, которая была бунтом значительной и влиятельной части интеллектуального класса против культурных, экономических и политических устоев своей цивилизации. Ответом на этот вызов в американской политике стал «неоконсерватизм» как новый идеологический и социальный синтез, основу которого составила связка военно-промышленного комплекса и отдельных сообществ интеллектуалов вокруг идеи победы в холодной войне.
Некий консервативный идеологический синтез необходим и сегодняшней России, для того чтобы ответить на аналогичный вызов. Он не должен слишком напоминать американский неоконсерватизм 1970–1980-х годов в идейном отношении, но мог бы выполнить схожую социально-политическую роль:
– во-первых, также обеспечив связку широких сегментов интеллектуального класса и военных / военно-промышленного кругов;
– во-вторых, знаменуя принципиальную лояльность интеллектуалов «своей стороне» в холодной войне;
– в-третьих, делая акцент на культурно-идеологических факторах геополитического статуса страны и ее суверенитета.
При этом для сегодняшней России важной частью нового консервативного синтеза должно стать утверждение таких естественных для интеллектуального класса принципов, как свобода высказываний и исследований, широкие полномочия политического представительства, реальная автономия университетов и академической корпорации.
Одна из черт сегодняшнего кризиса – пока не политического, но, как справедливо отмечают некоторые наблюдатели, этического – состоит в тупиковой и порочной для будущего страны модели ценностного размежевания: «суверенитет без свободы» vs «свобода без суверенитета». Безусловно, есть и сторонники компромисса. Но их все меньше, и это закономерно, поскольку компромисс в данном случае – действительно не решение. Свобода и суверенитет должны быть не сбалансированы как противоположности, а осознаны как взаимно обусловленные принципы. Несмотря на «общемодерный» характер обеих ценностей, для такого осознания больше, чем либеральная, подходит консервативная традиция.
Референтом либерализма является человек как частное лицо, обладающее неким пакетом исходных, досоциальных прав. С социологической точки зрения, это нонсенс – права немыслимы вне контекста сообщества, которое их признаёт. Это один из лейтмотивов консервативной критики либерализма (наиболее системно выраженный в «Философии права» Гегеля). Так или иначе, одно из следствий либерального взгляда – первичность прав по отношению к обязанностям. Обязанности вводятся лишь на следующем шаге как производная от прав других людей.
Консерватизм, касаясь вопросов прав и свобод, как правило, оказывается ближе к античной республиканской традиции. Ее адресатом является не абстрактный «человек», а гражданин как член политического сообщества. Его права мыслятся как своего рода привилегии, следствие членства в «привилегированном клубе», каковым является гражданская община. В этой логике права возникают только вместе с публично-правовым порядком и вместе с обязанностями. Поэтому в консервативном прочтении индивидуальная свобода оказывается обратной стороной коллективной свободы, а статус и достоинство гражданина становятся возможны только под залог суверенитета того сообщества, гражданином которого он является. Что, кстати, не делает гражданские свободы менее фундаментальными в консервативной оптике. Напротив, их отчуждение будет не просто нарушением прав, но оскорблением суверена.
Аналогичные расхождения касаются прочтения солидарности. Либеральная политическая философия уделяет исключительно важное значение формальной, процедурной справедливости, основанной на моральной симметрии, иногда трактуя ее в минималистском ключе, как либертарианец Роберт Нозик, иногда в расширенном, как социал-демократ Джон Ролз. Эти концепции во многом противоположны, но идентичны в плане социальной методологии. Как отмечает британский консервативный мыслитель Аласдер Макинтайр, сравнивая предлагаемые этими авторами модели справедливости, «с точки зрения обоих, ситуация такова, как будто мы потерпели кораблекрушение и попали на необитаемый остров вместе с другими индивидами, чуждыми нам и друг другу» [3, с. 339]. Иными словами, ни одна, ни другая версия справедливости не учитывает взаимной сопричастности и сопринадлежности людей черезто общее наследие, которое, собственно, если рассуждать в духе аристотелевской традиции, делает их в полном смысле людьми и создает между ними взаимные обязательства.
Справедливость, исходящая из такой сопричастности, будет в первую очередь солидарностью – предпочтением своим собратьям по «гражданской общине», с которыми ты разделяешь бремя суверенитета и привилегию гражданской свободы. Эти три категории – суверенитет, солидарность, свобода – представляются нам наиболее удачными претендентами на роль консервативной ценностной триады в современных условиях. Собственно, это классические европейские ценности эпохи Модерна, через которые определяется сама идея нации.
Взаимосвязь национальной идеи с идеологическим консерватизмом для многих остается спорным вопросом из-за явной ассоциации с эпохой Французской революции, когда она провозглашалась вопреки устоям имперско-династической и сословной Европы. Действительно, эта идея приобретает качественно новое звучание в революционную эпоху, однако отнюдь не создается ею. И в политическом, и в культурном своем измерении она во многом является завещанием «старого порядка». И главное, уже после 1789 года и в еще большей мере после революционной волны 1848 года она подхватывается частью консерваторов как способ воплощения в новых условиях кардинальных для них принципов:
– нация является формой сохранения и актуализации коллективного наследия;
– нация придает формальным институтам характер органических («домодерных» по духу) социальных связей;
– нация является механизмом социального сотрудничества и ограничения классового эгоизма, прежде всего верхних слоев (в этой связи можно вспомнить о таких фигурах, как Дизраэли, Бисмарк, Наполеон III).
Все это дает основание считать консерватизм соавтором современной эпохи, в которой ему есть чем дорожить и есть, что терять. Поэтому вполне естественно, что сегодня именно консервативные течения оказываются наиболее последовательными защитниками принципов общества Модерна перед лицом концепций «постнационального будущего» и многоликой «постсовременности», надвигающейся на мир в единстве трех тенденций:
– десуверенизации, связанной с такими процессами, как формирование международного режима прав человека, институционализация «права на вмешательство», продвижение трансграничной юрисдикции (со стороны США как претендента на роль новой империи), глобализация под эгидой транснациональных корпораций, разрушение культурных основ национальной лояльности;
– десоциализации, проявляющейся в углублении социального неравенства, тенденции к сбросу социальных обязательств со стороны ориентированных на глобализацию элит и фрагментации обществ, превращающихся в конгломерат меньшинств;
– дегуманизации, связанной с разрушением / трансформацией структуры человеческой личности эпохи Модерна под воздействием целого ряда идеологических и технологических факторов (деконструкция гендерных ролей и барьеров, новый тоталитаризм «политкорректной» цензуры, новые технологии информационного контроля, идеологии трансгуманизма, влияние технологий генной инженерии и виртуальной реальности и т.п.).
Именно в противовес этим трем сквозным тенденциям постсовременной глобализации получают свою актуальность три упомянутых выше политических принципа: суверенитет, солидарность, свобода. Остановимся подробнее на том, что слышится сегодня в каждом из них.
Политика суверенитета
Вполне очевидно, что в условиях нарастания не только геоэкономических, но также ценностных и информационных конфликтов невозможно обеспечить суверенитет страны, опираясь только на два фактора – ядерное оружие и природные ресурсы. Необходима способность осуществлять комплексное развитие, включая эффективную технологическую политику и политику мягкой силы. На этот факт часто указывают сторонники прозападного разворота в российской политике, но, как правило, делают это не ради снятия проблемных зон политики суверенитета, а ради отказа от самой этой политики.
Принципиальный для нас тезис состоит в том, что как экономико-технологические, так и социокультурные задачи развития могут быть выполнены не за счет отказа от политики суверенитета или ее «смягчения», а только за счет ее более последовательной и комплексной реализации. Суверенитет должен служить не внешним обременением для экономико-технологического и социокультурного развития, а его движущей силой.
Такая модель потребует намного более эффективных механизмов интеграции «власти» и «знания» (включая взаимопроникновение политико-административной и научно-экспертной среды) чем те, что мы имеем сегодня. Соответственно, в ее рамках интеллектуальный класс сможет обеспечивать свою роль в обществе не в качестве «буржуазных спецов» при советской власти (которые враждебны, но без которых пока нельзя обойтись), а в качестве опорного носителя стратегии комплексного суверенитета, имеющей – помимо военно-политического – также экономическое, технологическое и культурное измерение.
Экономическое измерение политики суверенитета предполагает более последовательный протекционизм (в широком понимании термина) и развитие механизмов стратегического планирования.
Технологическое измерение – ставку на технологическую деколонизацию в отношении по меньшей мере критических отраслей и инфраструктурных комплексов и экспорт «технологий суверенитета» в рамках геоэкономических альянсов с развивающимися странами.
Культурное измерение политики суверенитета предполагает реализацию потенциала мягкой силы, заложенной в российском «суверенизме». Сегодня этот потенциал не реализован и даже не осмыслен в должной мере.
Нашим очевидным изъяном в ситуации новой холодной войны является отсутствие адекватной культурной политики, которая могла бы сделать правду России, настаивающей на своей самостоятельности, ясной и привлекательной для окружающего мира и собственного населения.
Перечислим лишь некоторые из возможных идеологических проекций российской политики суверенитета в сегодняшних условиях:
– Россия как флагман движения неприсоединения в мире формирующейся американо-китайской биполярности;
– Россия как субъект технологической деколонизации;
– Россия как ковчег классических европейских ценностей в условиях постмодернистского дрейфа Европы;
– Россия как пространство свободы от нового тоталитаризма западной политкорректности (помноженного в перспективе на тоталитаризм общества «больших данных»).
При всем различии возможных коннотаций – от либертарианских до традиционалистских или левых – перечисленные «миссии» (или аспекты одной миссии) образуют вполне цельное смысловое пространство. В их основе – предполагаемая способность России удерживать автономию от «мира» и ее ставшая уже традиционной историческая роль, состоящая в сопротивлении притязаниям на мировое господство, от кого бы они ни исходили.
Политика солидарности
Социальная солидарность должна пониматься не как противовес экономической эффективности, а как ее основа. Это верно на микроуровне – на уровне экономики предприятия. И это еще более верно на уровне национальной экономики. Соответствие хозяйственного уклада нравственным представлениям и ориентирам общества выступало базовой предпосылкой всех национальных историй успеха. Те модели социальной ответственности государства и бизнеса, которые сложились в развитых странах в послевоенные десятилетия, были важнейшей частью формулы экономического роста. Они позволили создать емкий внутренний рынок, внутренний спрос как основу для развития.
Примечательно, что концепции социально ориентированного развития экономики разрабатывались в первую очередь именно консервативными мыслителями, такими как Лоренц фон Штейн и Густав Шмоллер, а первые шаги в их практической реализации делались консервативными политиками. Институты социального государства в Европе стали впервые внедрять Бисмарк и Наполеон III. Это вполне закономерно, учитывая, что основным побудительным мотивом такой политики была не идеология классового конфликта, а, напротив, представления о национальной солидарности и социально-классовом сотрудничестве на ее основе.
Такая модель потребует намного более эффективных механизмов интеграции «власти» и «знания» (включая взаимопроникновение политико-административной и научно-экспертной среды) чем те, что мы имеем сегодня. Соответственно, в ее рамках интеллектуальный класс сможет обеспечивать свою роль в обществе не в качестве «буржуазных спецов» при советской власти (которые враждебны, но без которых пока нельзя обойтись), а в качестве опорного носителя стратегии комплексного суверенитета, имеющей – помимо военно-политического – также экономическое, технологическое и культурное измерение.
Экономическое измерение политики суверенитета предполагает более последовательный протекционизм (в широком понимании термина) и развитие механизмов стратегического планирования.
Технологическое измерение – ставку на технологическую деколонизацию в отношении по меньшей мере критических отраслей и инфраструктурных комплексов и экспорт «технологий суверенитета» в рамках геоэкономических альянсов с развивающимися странами.
Культурное измерение политики суверенитета предполагает реализацию потенциала мягкой силы, заложенной в российском «суверенизме». Сегодня этот потенциал не реализован и даже не осмыслен в должной мере.
Нашим очевидным изъяном в ситуации новой холодной войны является отсутствие адекватной культурной политики, которая могла бы сделать правду России, настаивающей на своей самостоятельности, ясной и привлекательной для окружающего мира и собственного населения.
Перечислим лишь некоторые из возможных идеологических проекций российской политики суверенитета в сегодняшних условиях:
– Россия как флагман движения неприсоединения в мире формирующейся американо-китайской биполярности;
– Россия как субъект технологической деколонизации;
– Россия как ковчег классических европейских ценностей в условиях постмодернистского дрейфа Европы;
– Россия как пространство свободы от нового тоталитаризма западной политкорректности (помноженного в перспективе на тоталитаризм общества «больших данных»).
При всем различии возможных коннотаций – от либертарианских до традиционалистских или левых – перечисленные «миссии» (или аспекты одной миссии) образуют вполне цельное смысловое пространство. В их основе – предполагаемая способность России удерживать автономию от «мира» и ее ставшая уже традиционной историческая роль, состоящая в сопротивлении притязаниям на мировое господство, от кого бы они ни исходили.
Политика солидарности
Социальная солидарность должна пониматься не как противовес экономической эффективности, а как ее основа. Это верно на микроуровне – на уровне экономики предприятия. И это еще более верно на уровне национальной экономики. Соответствие хозяйственного уклада нравственным представлениям и ориентирам общества выступало базовой предпосылкой всех национальных историй успеха. Те модели социальной ответственности государства и бизнеса, которые сложились в развитых странах в послевоенные десятилетия, были важнейшей частью формулы экономического роста. Они позволили создать емкий внутренний рынок, внутренний спрос как основу для развития.
Примечательно, что концепции социально ориентированного развития экономики разрабатывались в первую очередь именно консервативными мыслителями, такими как Лоренц фон Штейн и Густав Шмоллер, а первые шаги в их практической реализации делались консервативными политиками. Институты социального государства в Европе стали впервые внедрять Бисмарк и Наполеон III. Это вполне закономерно, учитывая, что основным побудительным мотивом такой политики была не идеология классового конфликта, а, напротив, представления о национальной солидарности и социально-классовом сотрудничестве на ее основе.
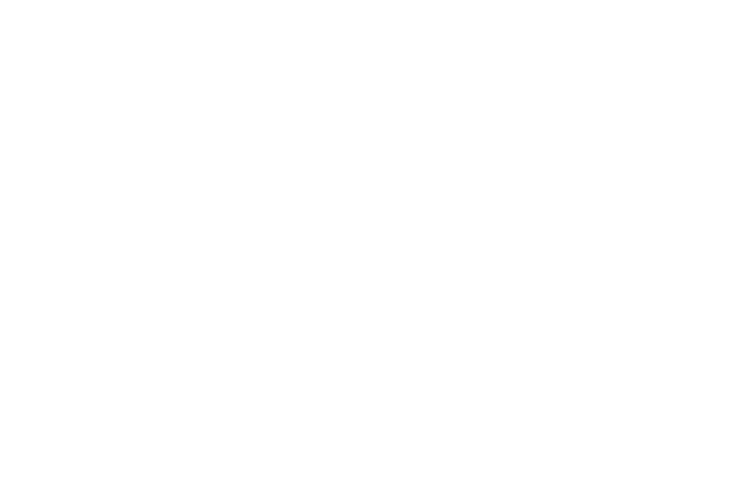
В сегодняшней России приходится говорить об особом значении солидарности не столько в силу какой-то особой предрасположенности нашего общества к солидарным моделям поведения, сколько, наоборот, в силу острого дефицита этого жизненно важного «ресурса».
Дефицита доверия, дефицита деловой этики, дефицита созидательных историй успеха, дефицита навыков общественной самоорганизации и кооперативного поведения и так далее. Социологи называют все это термином «социальный капитал». Сегодня именно этот внеэкономический фактор является важнейшим барьером для развития экономики и общества в целом.
В этом отношении показательны позиции России в рейтингах разного рода. Если по экономическим показателям мы все-таки принадлежим к верхней трети стран, то по многим показателям социального климата мы в числе аутсайдеров. Так, согласно данным ежегодного Доклада о мировом благосостоянии, выпускаемого банком “Crédit Suisse”, Россия оказывается в числе лидеров по уровню концентрации богатства (на долю «верхних» 10% приходится 82% всех личных активов в стране); по показателям коррупции и качества управления; демонстрирует крайне неблагоприятные показатели средней ожидаемой продолжительности жизни (особенно среди мужчин) и здоровья нации (рейтинг медицинского журнала “Lancet” отводит ей 119-е место); является лидером по числу разводов (в рейтинге ООН). Очевидно, что многие эти рейтинги весьма условны и сами оцениваемые параметры совершенно различны. Но в целом они отражают то самое плачевное состояние социального капитала, капитала доверия и солидарности в обществе.
Если мы сможем «подтянуть» эти характеристики, нарастить социальный капитал, то мы станем гораздо более здоровым и благополучным обществом даже при нынешнем объеме экономики. Основными факторами достижения этой цели могли бы стать:
– снижение уровня социального расслоения с помощью мер налоговой, жилищной политики, выравнивания доходов госслужащих и бюджетников по регионам, реальной деофшоризации бизнеса и т.д.;
– «сбережение народа», приоритетное внимание к здоровью нации, поддержке рождаемости и семьи, в том числе с помощью мер налоговой и пенсионной политики;
– сглаживание пространственных диспропорций, опережающее развитие российской провинции, включая акцент на равенстве доступа к социальным услугам и повышении транспортной связности;
– ограничение массовой инокультурной и низкоквалифицированной иммиграции, негативно влияющей на качество социальной инфраструктуры, сделочную позицию нижних слоев общества на рынке труда и в целом на качество жизни.
Перечисленные и подобные им приоритеты политики солидарности не имеют ничего общего с концепцией уравнительной справедливости. Да и влияние самой этой концепции в нашем обществе сильно преувеличено. На наш взгляд, запрос на справедливость и солидарность в современном российском обществе следует трактовать не как запрос «низов» на социальный реванш, а как запрос больного на здоровье.
Политика свободы
Политическая философия викторианской эпохи исходит из представления о политическом совершеннолетии современного человека. О том, что не только ты сам, но и твои сограждане достигли достаточно зрелого возраста, для того чтобы судить о личном и общественном благе. В этом смысле политическая свобода – вопрос национального самоуважения и взаимного уважения сограждан. Она имеет очевидные институциональные предпосылки в виде независимого суда, парламентского представительства, гарантированной свободы высказываний и исследований (включая автономию академического сообщества). Развитие этих институтов благоприятно сказалось бы на шансах консервативной политической повестки в современной России.
Как отмечал социолог Леонтий Бызов, «консерватизм общества», включая приверженность ценностям национальной государственности и солидарного общества, выражен в России существенно сильнее, чем «консерватизм власти». Иными словами, политика свободы может и должна увеличить шансы политики суверенитета и политики солидарности. С этой точки зрения желательным вектором трансформации политической системы страны нам представляется переход от модели либерального авторитаризма к модели консервативной демократии. В наиболее очевидном смысле – это демократия, опирающаяся на консервативное большинство.
С точки зрения своей институциональной конструкции, это система, внятно артикулирующая границы базового ценностного консенсуса, служащего непреложной рамкой и условием внутренней политической конкуренции.
Сегодня о «консервативной демократии» как об альтернативе демократии либеральной, представляемой европейскими странами, в общественной мысли заговорили с подачи израильского политолога Йорама Хазони, который в целом ряде публикаций решился противопоставить политическую модель своей страны модели нынешнего европейского либерализма, тяготеющего, по его мнению, к идее либеральной империи. Консервативная демократия, отстаиваемая Хазони, исходит из представления о том, что демократические свободы являются не производными от универсалистского представления о присущих всем людям правах, а функцией принадлежности к гражданскому сообществу, которое, в свою очередь, является способом политического оформления того или иного национального сообщества с присущей ему историей и традицией. Иными словами, такая интерпретация прав и свобод, которая разрушала бы исторические, этические и конституционные основы «производящего» их сообщества, политически недопустима. Однако если политические игроки не бросают вызов таким основам, их участие в свободной политической конкуренции не может быть оспорено.
Безусловно, западные либеральные политические сообщества тоже довольно отчетливо задают рамки ценностного консенсуса, определяющие не только политическую конкуренцию, но и общественную дискуссию. Эти рамки заданы современной «политкорректностью», которую Леонид Ионин в своей программной книге «Восстание меньшинств» характеризует как «идеологию современной массовой демократии, служащую, с одной стороны, обоснованию внешней и внутренней политики западных государств и союзов, а с другой – подавлению инакомыслия и обеспечению идейного и ценностного консенсуса».
Однако модели ценностного консенсуса в логике консервативной демократии и в логике либеральной политкорректности принципиально различны. В первом случае рамки консенсуса являются проекцией границ политического сообщества, очерчивающих пространство политической свободы, и в этом смысле носят именно политический характер. В последнем случае они являются скорее религиозно-идеологическими, допуская «в общество» лишь людей «благого образа мыслей», претендуя на монопольное понимание «блага» и требуя беспрекословного подчинения от имени неоспоримой моральной правоты своих канонов. Как следствие, эти модели совершенно по-разному сказываются на мере интеллектуальной свободы и свободы слова в соответствующих обществах. Религиозноидеологическая модель консенсуса несет гораздо большую тоталитарную тенденцию, чем политическая, – тенденцию принудительного единомыслия.
Идеология политкорректности стала серьезным вызовом таким базовым ценностям и завоеваниям интеллектуального класса в Новое время, как свобода исследования и дискуссии. Собственно, публичная философия сегодня во многом превратилась в своего рода выработку норм и критериев ограничения свободы мнения – спор идет о фиксации того, о чем недопустимо спорить (будь то разница полов или этнические противоречия). Часто вступление в профессиональное гуманитарное сообщество оказывается сопряжено с обязательным принятием соответствующих стандартов самоцензуры, нарушить которые без риска утратить статус в сообществе невозможно. Причем рамки допустимого неуклонно сужаются. «Революция политкорректности» еще только развивается и, как многие другие революции, радикализируется по ходу движения.
Примечательно, что в своем выступлении на Валдайском клубе Владимир Путин сравнил так называемую культуру отмены, в которую переродился либерализм, с большевизмом в плане радикальности и тотальности ее притязаний на переустройство общества. Перед лицом этого перерождения сама по себе приверженность интеллектуальной свободе и внутренней свободе личности становится консервативным выбором. Авторитет консервативной интеллектуальной традиции в современных условиях во многом зависит от ее способности артикулировать и обосновать этот выбор, включить его в своей контекст.
Недавно Патриарх Кирилл, фактически продолжив «валдайские» тезисы президента, назвал Россию – как страну, где сохраняется «разномыслие, не разрушающее основы человеческой жизни, государственного бытия, духовной жизни», – «лидером свободного мира». Это очень сильная формула. Но все-таки на сегодня она выражает не свершившийся факт, а уникальную цивилизационную возможность. Чтобы действительно воспользоваться ею, нам предстоит очень многое изменить в себе.
В этом отношении показательны позиции России в рейтингах разного рода. Если по экономическим показателям мы все-таки принадлежим к верхней трети стран, то по многим показателям социального климата мы в числе аутсайдеров. Так, согласно данным ежегодного Доклада о мировом благосостоянии, выпускаемого банком “Crédit Suisse”, Россия оказывается в числе лидеров по уровню концентрации богатства (на долю «верхних» 10% приходится 82% всех личных активов в стране); по показателям коррупции и качества управления; демонстрирует крайне неблагоприятные показатели средней ожидаемой продолжительности жизни (особенно среди мужчин) и здоровья нации (рейтинг медицинского журнала “Lancet” отводит ей 119-е место); является лидером по числу разводов (в рейтинге ООН). Очевидно, что многие эти рейтинги весьма условны и сами оцениваемые параметры совершенно различны. Но в целом они отражают то самое плачевное состояние социального капитала, капитала доверия и солидарности в обществе.
Если мы сможем «подтянуть» эти характеристики, нарастить социальный капитал, то мы станем гораздо более здоровым и благополучным обществом даже при нынешнем объеме экономики. Основными факторами достижения этой цели могли бы стать:
– снижение уровня социального расслоения с помощью мер налоговой, жилищной политики, выравнивания доходов госслужащих и бюджетников по регионам, реальной деофшоризации бизнеса и т.д.;
– «сбережение народа», приоритетное внимание к здоровью нации, поддержке рождаемости и семьи, в том числе с помощью мер налоговой и пенсионной политики;
– сглаживание пространственных диспропорций, опережающее развитие российской провинции, включая акцент на равенстве доступа к социальным услугам и повышении транспортной связности;
– ограничение массовой инокультурной и низкоквалифицированной иммиграции, негативно влияющей на качество социальной инфраструктуры, сделочную позицию нижних слоев общества на рынке труда и в целом на качество жизни.
Перечисленные и подобные им приоритеты политики солидарности не имеют ничего общего с концепцией уравнительной справедливости. Да и влияние самой этой концепции в нашем обществе сильно преувеличено. На наш взгляд, запрос на справедливость и солидарность в современном российском обществе следует трактовать не как запрос «низов» на социальный реванш, а как запрос больного на здоровье.
Политика свободы
Политическая философия викторианской эпохи исходит из представления о политическом совершеннолетии современного человека. О том, что не только ты сам, но и твои сограждане достигли достаточно зрелого возраста, для того чтобы судить о личном и общественном благе. В этом смысле политическая свобода – вопрос национального самоуважения и взаимного уважения сограждан. Она имеет очевидные институциональные предпосылки в виде независимого суда, парламентского представительства, гарантированной свободы высказываний и исследований (включая автономию академического сообщества). Развитие этих институтов благоприятно сказалось бы на шансах консервативной политической повестки в современной России.
Как отмечал социолог Леонтий Бызов, «консерватизм общества», включая приверженность ценностям национальной государственности и солидарного общества, выражен в России существенно сильнее, чем «консерватизм власти». Иными словами, политика свободы может и должна увеличить шансы политики суверенитета и политики солидарности. С этой точки зрения желательным вектором трансформации политической системы страны нам представляется переход от модели либерального авторитаризма к модели консервативной демократии. В наиболее очевидном смысле – это демократия, опирающаяся на консервативное большинство.
С точки зрения своей институциональной конструкции, это система, внятно артикулирующая границы базового ценностного консенсуса, служащего непреложной рамкой и условием внутренней политической конкуренции.
Сегодня о «консервативной демократии» как об альтернативе демократии либеральной, представляемой европейскими странами, в общественной мысли заговорили с подачи израильского политолога Йорама Хазони, который в целом ряде публикаций решился противопоставить политическую модель своей страны модели нынешнего европейского либерализма, тяготеющего, по его мнению, к идее либеральной империи. Консервативная демократия, отстаиваемая Хазони, исходит из представления о том, что демократические свободы являются не производными от универсалистского представления о присущих всем людям правах, а функцией принадлежности к гражданскому сообществу, которое, в свою очередь, является способом политического оформления того или иного национального сообщества с присущей ему историей и традицией. Иными словами, такая интерпретация прав и свобод, которая разрушала бы исторические, этические и конституционные основы «производящего» их сообщества, политически недопустима. Однако если политические игроки не бросают вызов таким основам, их участие в свободной политической конкуренции не может быть оспорено.
Безусловно, западные либеральные политические сообщества тоже довольно отчетливо задают рамки ценностного консенсуса, определяющие не только политическую конкуренцию, но и общественную дискуссию. Эти рамки заданы современной «политкорректностью», которую Леонид Ионин в своей программной книге «Восстание меньшинств» характеризует как «идеологию современной массовой демократии, служащую, с одной стороны, обоснованию внешней и внутренней политики западных государств и союзов, а с другой – подавлению инакомыслия и обеспечению идейного и ценностного консенсуса».
Однако модели ценностного консенсуса в логике консервативной демократии и в логике либеральной политкорректности принципиально различны. В первом случае рамки консенсуса являются проекцией границ политического сообщества, очерчивающих пространство политической свободы, и в этом смысле носят именно политический характер. В последнем случае они являются скорее религиозно-идеологическими, допуская «в общество» лишь людей «благого образа мыслей», претендуя на монопольное понимание «блага» и требуя беспрекословного подчинения от имени неоспоримой моральной правоты своих канонов. Как следствие, эти модели совершенно по-разному сказываются на мере интеллектуальной свободы и свободы слова в соответствующих обществах. Религиозноидеологическая модель консенсуса несет гораздо большую тоталитарную тенденцию, чем политическая, – тенденцию принудительного единомыслия.
Идеология политкорректности стала серьезным вызовом таким базовым ценностям и завоеваниям интеллектуального класса в Новое время, как свобода исследования и дискуссии. Собственно, публичная философия сегодня во многом превратилась в своего рода выработку норм и критериев ограничения свободы мнения – спор идет о фиксации того, о чем недопустимо спорить (будь то разница полов или этнические противоречия). Часто вступление в профессиональное гуманитарное сообщество оказывается сопряжено с обязательным принятием соответствующих стандартов самоцензуры, нарушить которые без риска утратить статус в сообществе невозможно. Причем рамки допустимого неуклонно сужаются. «Революция политкорректности» еще только развивается и, как многие другие революции, радикализируется по ходу движения.
Примечательно, что в своем выступлении на Валдайском клубе Владимир Путин сравнил так называемую культуру отмены, в которую переродился либерализм, с большевизмом в плане радикальности и тотальности ее притязаний на переустройство общества. Перед лицом этого перерождения сама по себе приверженность интеллектуальной свободе и внутренней свободе личности становится консервативным выбором. Авторитет консервативной интеллектуальной традиции в современных условиях во многом зависит от ее способности артикулировать и обосновать этот выбор, включить его в своей контекст.
Недавно Патриарх Кирилл, фактически продолжив «валдайские» тезисы президента, назвал Россию – как страну, где сохраняется «разномыслие, не разрушающее основы человеческой жизни, государственного бытия, духовной жизни», – «лидером свободного мира». Это очень сильная формула. Но все-таки на сегодня она выражает не свершившийся факт, а уникальную цивилизационную возможность. Чтобы действительно воспользоваться ею, нам предстоит очень многое изменить в себе.
Авторы: Михаил Ремизов, Борис Межуев
Опубликовано в альманахе "Тетради по консерватизму" N4, 2021 год
Опубликовано в альманахе "Тетради по консерватизму" N4, 2021 год
