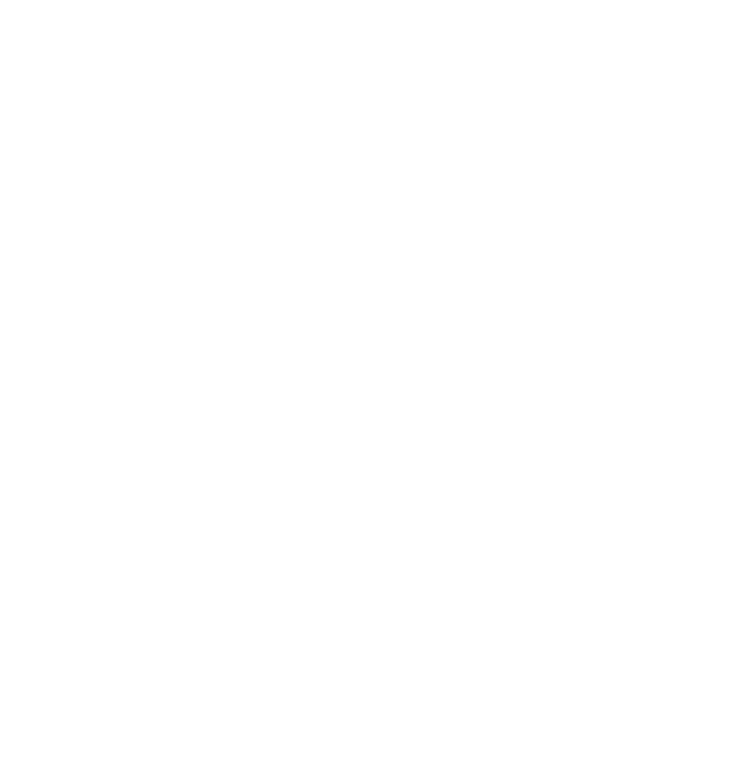Консервативная мысль в поисках «арены истории»
“Номинализм” французских “новых правых” и философия
немецкой “консервативной революции”
В истории политических идей есть любопытная закономерность: именно в тот момент, когда игра идеологических сил упорядочивается по принципу “консерваторы” versus “радикалы”, на сцене появляется тип интеллектуалов, которых с полным основанием можно квалифицировать как “радикальных консерваторов”. В интеллектуальной истории ХХ века этот сценарий был воспроизведен дважды. В первой трети века, когда вызов марксистской мысли обнаружил идеологическое бессилие как старых монархий, так и либеральных демократий, заявляет о себе немецкое неоконсервативное течение мысли, связанное с Мартином Хайдеггером, Карлом Шмиттом, Эрнстом Юнгером, Хансом Фрайером и другими. Во второй трети века, когда вызов “новых левых” и всей “контркультуры” 60-х совершенно спутал карты “старого”, буржуазно-стабилизационного консерватизма, возникает движение французских “новых правых”, собранных вокруг ассоциации GRECE (“Исследовательское и учебное объединение за европейскую цивилизацию”) и ее лидера Алена де Бенуа. В обоих случаях “новые консерваторы” оказались более радикальными, чем консерваторы “старого образца” (будь то романтические традиционалисты или апологеты буржуазного статус-кво[1]), и именно вследствие этого — способными предложить интеллектуальное противоядие от левореволюционных стратегий.
В понятии “радикального консерватизма” вряд ли следует видеть простую игру слов. Не является оно и пародией на гегелевский синтез: считать антибуржуазный “радикализм” новых консерваторов плодом диалектического компромисса с “радикалами” левацкого толка, как это часто делают, было бы не совсем верно. Скорее, напротив, он является попыткой реконструировать консервативное мышление в его собственной, идеологически чистой форме — без примеси “левой утопии”, связанной с опытом Просвещения и Французской революции.
На это можно было бы возразить, что Просвещение и революционная идеология являются производными всей западной метафизики и в том числе западноевропейского прочтения христианства.[2] Но возражение вряд ли будет уместным, поскольку сами “новые консерваторы” от философии говорят именно об этом. Отсюда во многом ясен их радикализм. Радикализм вообще есть, не в последнюю очередь, эффект превосходящей перспективы. В данном случае, эффект перспективы, превосходящей историческую полемику буржуазных “консерваторов” с левыми “радикалами” и позволяющей вычленить общую для тех и других систему метафизических презумпций. Радикальный консерватизм начинается с того, чтобы, во-первых, признать ложным радикализм “новых левых”; во-вторых, признать ложным консерватизм “старых правых”. “Ложным” не в смысле несоответствия “подлинному понятию” а в смысле “ложного сознания” — то есть сознания, предпочитающего оставаться оторванным от своих предпосылок. Носители контркультуры претендуют на тотальную критику западной современности, словно не замечая, каким образом они — материально и метафизически — укоренены в ней; в точности так же, и апологеты буржуазного статус-кво не готовы признать, что “абсолютное зло” левого экстремизма есть лишь новое воплощение тех универсалистских принципов (эмансипации личности, естественного права, универсальной природы человека и т.д.), в которых они почитают учреждающий акт собственной цивилизации.
Таким образом, “новому консерватизму” который хочет стать по ту сторону прежней право-левой философской полемики, осудив саму ее структуру, приходится искать точку опоры где-то очень глубоко, где-то вне универсализма “западной метафизики”. Этот поиск отражен и в мысли Хайдеггера, обращенной к “досократикам”, и в культурологической риторике Алена де Бенуа, отсылающей к “индоевропейским корням”. Он заводит неоконсервативных интеллектуалов в дебри мифоисторических сказаний об “истинной Европе” и одновременно — выводит на острие современной, критически оснащенной, философии. Одной из вех на этом пути стала попытка французских “новых правых” определить своеобразие консервативного стиля мышления через так называемую “номиналистическую философию”. Попытка, оказавшаяся не вполне последовательной и удачной, как мы покажем, но по-настоящему важной для понимания философской повестки и интеллектуальной динамики “нового консерватизма”.
“Номинализм” как фигура политической мысли.
Первым, кто явным образом сопоставил “номиналистическую идею” с праворадикальной политической тенденцией был, по всей видимости, Армин Молер — немецкий исследователь различных течений “консервативной революции”, расцветших в Германии с 1919-го по 1933 год. Смысл этого сопоставления достаточно точно передан Аленом де Бенуа в его объяснениях по поводу собственного политического кредо. “Правой, — постулирует он — я называю… позицию, состоящую в том, чтобы рассматривать многообразие мира и, как следствие, относительные неравенства, которые оно с необходимостью влечет, как благо, а прогрессирующую гомогенизацию мира, проповедуемую и реализуемую двухтысячелетним дискурсом эгалитарной идеологии, как зло. Я называю правыми доктрины, которые усматривают, что относительные неравенства существования влекут отношения силы, продуктом коих является историческое становление — и которые полагают, что история должна продолжаться — короче, что “жизнь это жизнь, то есть сражение, для нации так же, как и для человека” (Шарль де Голль)”.[3]
Контур мировоззрения “новых правых” задается здесь несколько пунктирно, через демонстрацию его локального языка. “Многообразие”, “неравенство”, “существование”, “силовые отношения”, “становление”, “сражение”, “история”, “жизнь” — образуют ряд позитивных смыслообразов; “гомогенизация”, “эгалитаризм” и зашифрованное в “двухтысячелетнем дискурсе” христианство — маркируют собирательный “образ врага”. Самоопределение, используемое лидером “новых правых”, носит, как видим, неявный характер, и тем не менее, в нем очевидна попытка предложить позитивный, операциональный критерий “правого мировоззрения”, дифференцирующий признак, претендующий едва ли не на роль “основного вопроса” политической философии. Этот признак фиксируется в понятии “номинализма”. “Для номиналиста многообразие есть фундаментальный факт мира; универсалисту, напротив, подобает отыскивать за игрой случайностей и особенных свойств сущность, которая среди людей делает всех равными перед Богом”.[4]
Появление в метаполитическом лексиконе “новых правых” самого термина “номинализм”, — узкого термина, заданного на материале проблем схоластической философии, — вызывает некоторое удивление. Однако, насколько нам известно, французский автор нигде с достаточной строгостью не проясняет различий между исходным, историко-философским, и реинтерпретированным, “метаполитическим” смыслом термина, так что нам остается воспринимать его как своего рода теоретическую метафору, значение которой определено ее функцией в дискурсе.
Характерно, в частности, что в обиходе “новых правых” слово “номинализм” лишается своего “законного” антонима и включается в иную систему оппозиций. Замена полемического адресата “номинализма” с “реализма” на “универсализм” означает определенное смещение смысловой оси, трансформацию понятиеобразующего признака. Достаточно ясный и этимологически проявленный предмет спора: вопрос о (всего лишь) “словесном” или “вещественном” статусе понятий, — оттеняется в пользу какого-то иного полемического ядра. Причем, утрачивая свой классический антоним, “номинализм” тем самым накладывается на классический антоним “универсализма” — “партикуляризм”, — и начинает занимать как бы чужое место в топологии политических идей — что должно, по всей видимости, освежающе действовать на мысль.
Образованная таким образом антитеза группирует вокруг себя определенное риторическое пространство и дополняется целой серией линейных, неснимаемых антитез. Ален де Бенуа не устает воссоздавать непреложную альтернативу, принимающую в истории философии самые разные обличья: “универсализм или номинализм, эссенциализм или экзистенциализм, тождество или различие”, “монотеизм или политеизм”…В проекции на историю философии эта альтернатива дает картину длительного сосуществования двух непримиримых традиций мысли, которые, по утверждению Алена де Бенуа, не до конца осознаны в качестве таковых.
На это можно было бы возразить, что Просвещение и революционная идеология являются производными всей западной метафизики и в том числе западноевропейского прочтения христианства.[2] Но возражение вряд ли будет уместным, поскольку сами “новые консерваторы” от философии говорят именно об этом. Отсюда во многом ясен их радикализм. Радикализм вообще есть, не в последнюю очередь, эффект превосходящей перспективы. В данном случае, эффект перспективы, превосходящей историческую полемику буржуазных “консерваторов” с левыми “радикалами” и позволяющей вычленить общую для тех и других систему метафизических презумпций. Радикальный консерватизм начинается с того, чтобы, во-первых, признать ложным радикализм “новых левых”; во-вторых, признать ложным консерватизм “старых правых”. “Ложным” не в смысле несоответствия “подлинному понятию” а в смысле “ложного сознания” — то есть сознания, предпочитающего оставаться оторванным от своих предпосылок. Носители контркультуры претендуют на тотальную критику западной современности, словно не замечая, каким образом они — материально и метафизически — укоренены в ней; в точности так же, и апологеты буржуазного статус-кво не готовы признать, что “абсолютное зло” левого экстремизма есть лишь новое воплощение тех универсалистских принципов (эмансипации личности, естественного права, универсальной природы человека и т.д.), в которых они почитают учреждающий акт собственной цивилизации.
Таким образом, “новому консерватизму” который хочет стать по ту сторону прежней право-левой философской полемики, осудив саму ее структуру, приходится искать точку опоры где-то очень глубоко, где-то вне универсализма “западной метафизики”. Этот поиск отражен и в мысли Хайдеггера, обращенной к “досократикам”, и в культурологической риторике Алена де Бенуа, отсылающей к “индоевропейским корням”. Он заводит неоконсервативных интеллектуалов в дебри мифоисторических сказаний об “истинной Европе” и одновременно — выводит на острие современной, критически оснащенной, философии. Одной из вех на этом пути стала попытка французских “новых правых” определить своеобразие консервативного стиля мышления через так называемую “номиналистическую философию”. Попытка, оказавшаяся не вполне последовательной и удачной, как мы покажем, но по-настоящему важной для понимания философской повестки и интеллектуальной динамики “нового консерватизма”.
“Номинализм” как фигура политической мысли.
Первым, кто явным образом сопоставил “номиналистическую идею” с праворадикальной политической тенденцией был, по всей видимости, Армин Молер — немецкий исследователь различных течений “консервативной революции”, расцветших в Германии с 1919-го по 1933 год. Смысл этого сопоставления достаточно точно передан Аленом де Бенуа в его объяснениях по поводу собственного политического кредо. “Правой, — постулирует он — я называю… позицию, состоящую в том, чтобы рассматривать многообразие мира и, как следствие, относительные неравенства, которые оно с необходимостью влечет, как благо, а прогрессирующую гомогенизацию мира, проповедуемую и реализуемую двухтысячелетним дискурсом эгалитарной идеологии, как зло. Я называю правыми доктрины, которые усматривают, что относительные неравенства существования влекут отношения силы, продуктом коих является историческое становление — и которые полагают, что история должна продолжаться — короче, что “жизнь это жизнь, то есть сражение, для нации так же, как и для человека” (Шарль де Голль)”.[3]
Контур мировоззрения “новых правых” задается здесь несколько пунктирно, через демонстрацию его локального языка. “Многообразие”, “неравенство”, “существование”, “силовые отношения”, “становление”, “сражение”, “история”, “жизнь” — образуют ряд позитивных смыслообразов; “гомогенизация”, “эгалитаризм” и зашифрованное в “двухтысячелетнем дискурсе” христианство — маркируют собирательный “образ врага”. Самоопределение, используемое лидером “новых правых”, носит, как видим, неявный характер, и тем не менее, в нем очевидна попытка предложить позитивный, операциональный критерий “правого мировоззрения”, дифференцирующий признак, претендующий едва ли не на роль “основного вопроса” политической философии. Этот признак фиксируется в понятии “номинализма”. “Для номиналиста многообразие есть фундаментальный факт мира; универсалисту, напротив, подобает отыскивать за игрой случайностей и особенных свойств сущность, которая среди людей делает всех равными перед Богом”.[4]
Появление в метаполитическом лексиконе “новых правых” самого термина “номинализм”, — узкого термина, заданного на материале проблем схоластической философии, — вызывает некоторое удивление. Однако, насколько нам известно, французский автор нигде с достаточной строгостью не проясняет различий между исходным, историко-философским, и реинтерпретированным, “метаполитическим” смыслом термина, так что нам остается воспринимать его как своего рода теоретическую метафору, значение которой определено ее функцией в дискурсе.
Характерно, в частности, что в обиходе “новых правых” слово “номинализм” лишается своего “законного” антонима и включается в иную систему оппозиций. Замена полемического адресата “номинализма” с “реализма” на “универсализм” означает определенное смещение смысловой оси, трансформацию понятиеобразующего признака. Достаточно ясный и этимологически проявленный предмет спора: вопрос о (всего лишь) “словесном” или “вещественном” статусе понятий, — оттеняется в пользу какого-то иного полемического ядра. Причем, утрачивая свой классический антоним, “номинализм” тем самым накладывается на классический антоним “универсализма” — “партикуляризм”, — и начинает занимать как бы чужое место в топологии политических идей — что должно, по всей видимости, освежающе действовать на мысль.
Образованная таким образом антитеза группирует вокруг себя определенное риторическое пространство и дополняется целой серией линейных, неснимаемых антитез. Ален де Бенуа не устает воссоздавать непреложную альтернативу, принимающую в истории философии самые разные обличья: “универсализм или номинализм, эссенциализм или экзистенциализм, тождество или различие”, “монотеизм или политеизм”…В проекции на историю философии эта альтернатива дает картину длительного сосуществования двух непримиримых традиций мысли, которые, по утверждению Алена де Бенуа, не до конца осознаны в качестве таковых.
“
В проекции на историю философии эта альтернатива дает картину длительного сосуществования двух непримиримых традиций мысли, которые, по утверждению Алена де Бенуа, не до конца осознаны в качестве таковых.
Однако попытки их воссоздания, в действительности, не столь уж редки. Авторитетный исследователь французского неоконсерватизма Пьер-Андре Тагиефф прав, утверждая, что “этот (намечаемый Аленом де Бенуа — М.Р.) процесс универсализма отчетливо напоминает тот самый процесс метафизики, который, начиная с Ницше, воссоздается на разные лады в зависимости от конъюнктуры”.[5]
Философские фигуры разного плана — “начиная с “библейской мысли”, Парменида и Платона, через Аристотеля к Фоме Аквинскому и Карлу Марксу, но также не исключая Франкфуртской школы и Б.-А. Леви” — служат для Алена де Бенуа вехами сквозного духовного процесса, которому надлежит противопоставить не менее обширно и пестро представленную в истории идей “номиналистическую” тенденцию. “Номиналисты”, явные и скрытые, убеждены, что “различия между вещами, между существами, между людьми не суммируются”, что “нет “существования в себе”: всякое существование является чьим-то”, что “нет также и “человека” вообще или человечества: есть лишь отдельные люди”, что не подобает отыскивать скрытое единство за “разнообразием, которое [представляет собой] фундаментальный факт мира”.[6]
Такого рода “номиналистическая” риторика не представляет собой чего-либо нового на фоне раннего консерватизма. Оригинальность “новых правых” состоит в данном случае в том, что некоторую философему, служившую одним из средств в арсенале “реакционных” публицистов, они начинают рассматривать как узловой пункт, исходя из которого могут быть систематически обоснованы частные политические позиции консерватизма. Ключевыми из собственно политических тем, примыкающих к “номиналистической” философской риторике, следует считать, по всей видимости, идею естественного неравенства людей и идею нередуцируемого плюрализма культур и народов.
В самом деле, если, вслед за “новыми правыми”, видеть в “критике универсалий” особый род политической критики, то нельзя не признать, что ее смысловым фокусом является, во-первых, критика универсалии “человек” и, во-вторых, критика гипостазированной абстракции “человечество”. Фактически это, конечно же, две линии одной и той же полемической диспозиции. Как таковые они сходятся в общей точке философии истории или, лучше сказать, философии исторического. И чреватые господством “неравенства существования” (“инегалитаризм”), и чреватая войной суверенность народов и культур (этнокультурный плюрализм) важны для “новых правых” как знаки полноты исторического становления, залог продолжающейся истории. В совокупности эти темы образуют достаточно целостный политический комплекс идей, который и послужит нам камертоном в тестировании философских постулатов неоконсервативного “номинализма”.
Философские фигуры разного плана — “начиная с “библейской мысли”, Парменида и Платона, через Аристотеля к Фоме Аквинскому и Карлу Марксу, но также не исключая Франкфуртской школы и Б.-А. Леви” — служат для Алена де Бенуа вехами сквозного духовного процесса, которому надлежит противопоставить не менее обширно и пестро представленную в истории идей “номиналистическую” тенденцию. “Номиналисты”, явные и скрытые, убеждены, что “различия между вещами, между существами, между людьми не суммируются”, что “нет “существования в себе”: всякое существование является чьим-то”, что “нет также и “человека” вообще или человечества: есть лишь отдельные люди”, что не подобает отыскивать скрытое единство за “разнообразием, которое [представляет собой] фундаментальный факт мира”.[6]
Такого рода “номиналистическая” риторика не представляет собой чего-либо нового на фоне раннего консерватизма. Оригинальность “новых правых” состоит в данном случае в том, что некоторую философему, служившую одним из средств в арсенале “реакционных” публицистов, они начинают рассматривать как узловой пункт, исходя из которого могут быть систематически обоснованы частные политические позиции консерватизма. Ключевыми из собственно политических тем, примыкающих к “номиналистической” философской риторике, следует считать, по всей видимости, идею естественного неравенства людей и идею нередуцируемого плюрализма культур и народов.
В самом деле, если, вслед за “новыми правыми”, видеть в “критике универсалий” особый род политической критики, то нельзя не признать, что ее смысловым фокусом является, во-первых, критика универсалии “человек” и, во-вторых, критика гипостазированной абстракции “человечество”. Фактически это, конечно же, две линии одной и той же полемической диспозиции. Как таковые они сходятся в общей точке философии истории или, лучше сказать, философии исторического. И чреватые господством “неравенства существования” (“инегалитаризм”), и чреватая войной суверенность народов и культур (этнокультурный плюрализм) важны для “новых правых” как знаки полноты исторического становления, залог продолжающейся истории. В совокупности эти темы образуют достаточно целостный политический комплекс идей, который и послужит нам камертоном в тестировании философских постулатов неоконсервативного “номинализма”.
| Противоречия консервативной “философии различий” В текстах Алена де Бенуа переход от философских посылок “номинализма” к его политическим следствиям совершается непосредственно, чтобы не сказать наивно. Он просто постулирует там, где речь должна идти о методологическом тестировании и категориальном уточнении предлагаемого им критерия “различения сущностей”. Например, он с порога категорически утверждает, что “всякая антиэгалитарная концепция мира фундаментальным образом номиналистична”[7], почему-то игнорируя те влиятельные “инегалитарные философии сущности”, которые вереницей шествуют в истории западной философии. На примере Платона, Аристотеля или Фомы Аквинского можно проследить, как категории “сущностного” мышления о человеке превращаются в инструмент жесткой дифференциации людей согласно их месту в иерархически структурированном порядке. |
Эта неточность, допускаемая Аленом де Бенуа в определении теоретического врага, вполне очевидна. И тем не менее, нельзя сказать, что его полемика остается совершенно безадресной. Тот факт, что в случае Платона “язык сущностей” имеет “иерархические” следствия, вряд ли может подвергаться какому-либо сомнению — зато может быть подвергнут самым разным интерпретациям. Воззрение “новых правых” в этом вопросе предопределено, конечно же, интерпретацией Ницше, который в платоновской иерархии степеней приближения к “истинному” миру склонен видеть не что иное, как косвенное проявление кризиса традиционных иерархий власти.[8]Учитывая этот подтекст, можно предположить, что неоконсервативная критика “эссенциализма” выражает не конфликт иерархического мышления с эгалитарным, а конфликт политического обоснования неравенства (утверждающего, что истинна та иерархия, которая “действительна”) с религиозно-метафизическим (где истинна та, которая “разумна” — в смысле соответствия трансцендентным действительности критериям).
Не случайно в своем “номиналистическом” определении “правого” видения мира, де Бенуа ссылается на “силовые отношения” — вызываемые к жизни “неравенствами существования” и чреватые “историческим становлением”. Тем самым выражается приверженность логике фактических иерархий, однако признается также, что эта логика нуждается в дополнительном утверждении; что она уже не имеет достаточных оснований в самой себе и нуждается во вмешательстве идеолога: “правого” идеолога, готового выступить “на стороне вещей”. Поскольку “жизнь это жизнь” и “история должна продолжаться”, — намекает Ален де Бенуа, — “силовые отношения” должны быть раскрепощены и политика должна быть очищена от антиисторических и нивелирующих ссылок на “естественный” или “разумный” порядок (не столь важно, будут они представать в иерархической или эгалитарной редакции). Примерно так следует уточнять праворадикальную “философию неравенства”, чтобы критика метафизики (в т.ч. иерархической) с ее позиций сохраняла смысл.
Последовательный “номинализм”, таким образом, влечет отказ от эгалитаризма как априорной гуманистической идеологии (“равенство” как результат применения к конкретным человеческим существам трансцендентальной гуманистической “мерки”), но точно так же и от априорного конструирования иерархий.
Здесь, по всей видимости, и коренится пафос, оживляющий номиналистическую риторику “новых правых”. Для них крайне важно, что источником иерархий, источником смысла иерархий — и вообще какого бы то ни было смысла! — выступает не принцип, привносимый в мир “со стороны”, не оценка, выносимая отвлеченным взглядом, а процесс конфликтного становления, в который “единичные существования” непосредственно вовлечены, “сама жизнь”, истолкованная как “сражение”. В “номиналистической” картине мира вызываемые к жизни динамические “отношения силы” и ситуационные иерархии заведомо оправданы. За отсутствием возможности иных оправданий, они оправданы своей фактичностью — тем более, что предварительно уничтожен онтологический пьедестал для какой-либо инстанции, от имени которой они могли бы быть осуждены или пересмотрены в пользу более “истинных”. Однако открытым остается вопрос: не уничтожается ли, вместе с этим “онтологическим пьедесталом”, и повод для самого “сражения”?..
Не случайно в своем “номиналистическом” определении “правого” видения мира, де Бенуа ссылается на “силовые отношения” — вызываемые к жизни “неравенствами существования” и чреватые “историческим становлением”. Тем самым выражается приверженность логике фактических иерархий, однако признается также, что эта логика нуждается в дополнительном утверждении; что она уже не имеет достаточных оснований в самой себе и нуждается во вмешательстве идеолога: “правого” идеолога, готового выступить “на стороне вещей”. Поскольку “жизнь это жизнь” и “история должна продолжаться”, — намекает Ален де Бенуа, — “силовые отношения” должны быть раскрепощены и политика должна быть очищена от антиисторических и нивелирующих ссылок на “естественный” или “разумный” порядок (не столь важно, будут они представать в иерархической или эгалитарной редакции). Примерно так следует уточнять праворадикальную “философию неравенства”, чтобы критика метафизики (в т.ч. иерархической) с ее позиций сохраняла смысл.
Последовательный “номинализм”, таким образом, влечет отказ от эгалитаризма как априорной гуманистической идеологии (“равенство” как результат применения к конкретным человеческим существам трансцендентальной гуманистической “мерки”), но точно так же и от априорного конструирования иерархий.
Здесь, по всей видимости, и коренится пафос, оживляющий номиналистическую риторику “новых правых”. Для них крайне важно, что источником иерархий, источником смысла иерархий — и вообще какого бы то ни было смысла! — выступает не принцип, привносимый в мир “со стороны”, не оценка, выносимая отвлеченным взглядом, а процесс конфликтного становления, в который “единичные существования” непосредственно вовлечены, “сама жизнь”, истолкованная как “сражение”. В “номиналистической” картине мира вызываемые к жизни динамические “отношения силы” и ситуационные иерархии заведомо оправданы. За отсутствием возможности иных оправданий, они оправданы своей фактичностью — тем более, что предварительно уничтожен онтологический пьедестал для какой-либо инстанции, от имени которой они могли бы быть осуждены или пересмотрены в пользу более “истинных”. Однако открытым остается вопрос: не уничтожается ли, вместе с этим “онтологическим пьедесталом”, и повод для самого “сражения”?..
В конечном счете, власть не сможет продиктовать элитам пакт об их национальной и социальной ответственности, если не будет иметь широкой социальной опоры вне этих элит. То есть в том самом среднем классе, понятом не как "совокупность потребляющих", а как социально-экономическое и культурное ядро общества. Как качественное национальное большинство. Эту опору нельзя получить раз и навсегда, ее необходимо вновь и вновь формировать и постоянно поддерживать.
В качестве резюме могу сказать следующее: вместо манифеста о вольности дворянству нам нужен пакт о закрепощении элит.
Значило ли бы это, что либерализация, о которой так много говорилось в последнее время, отходит на задний план? Совсем нет. Либерализация необходима и возможна. Но - для граждан. Для элит же актуальны не свободы, а обязанности. По меньшей мере, таков консервативный - и по-хорошему элитарный - способ понимания вопроса. Он состоит в том, чтобы определять свою власть и свою собственность через обязанности, а не через права.
“Номинализм” для “новых правых” есть попытка разработать на философском уровне чистую форму политического сознания — освобожденного от религиозно-метафизических референций, субординирующих политическое отношение (например, “власть”) теоретическому (“истина”) или моральному (“благо”). Однако именно в этом качестве он оказывается, судя по всему, не совсем пригодным. Политическое сознание, даже в своем дистиллированном виде, вряд ли может обойтись без постулата единства мира и единства субъекта (в смысле его самотождественности). Последовательно проводимая “философия различий” не позволяет сформулировать ни одного из них, больше того, явным образом оспаривает тот и другой.
Антиполитические следствия “философии различий” хорошо прослеживаются на примере современников и соотечественников “новых правых” — философов “постмодернистского” направления (Ж. Деррида, Ф. Лиотара или Ж. Делеза…). Почти нарочито не упоминаемые правым ницшеанцем Аленом де Бенуа, мыслители этого круга могут быть идентифицированы как “левые ницшеанцы”. Подобно многим левым критикам предыдущих эпох, они, в конечном счете, нацелены на некую обширную программу эмансипации, деполитизации, “смягчения нравов” (на устранение возможности серьезной борьбы и серьезного господства — всего того, что “новые правые” склонны назвать “историческим свершением”). Но вопреки большинству своих предшественников на этом поприще, они не используют морально-метафизической аргументации. Вместо того, чтобы призывать “деятелей”, осознав сущностно-общее (например, идею “человечности”), прекратить уничтожающую борьбу партикулярностей, они самым радикальным образом демонстрируют им, что ничего “общего” как раз нет и, следовательно… нет самого поля, на котором борьба могла была бы продолжиться. Таким образом принимаемый из рук Ницше “перспективизм” оказывается оторван от его монистической философии воли к власти и обращен против политики как формы жизни. В исполнении “французского ницшеанства”, — пишет Винсент Декомб, — “перспективизм стремился избежать диалектики раба и господина… примиряя конкурентов: ваша борьба не имеет цели! вы все хотите стать центром мира! Так знайте же, что не существует ни центра, ни мира!”.[9]
В самом деле, если борьба ведется, то она ведется на некоторой общей территории. Это верно и для зоологической, инстинктивно функционирующей циркуляции “взаимопоеданий”, и для политической борьбы. Последняя может с вопиющей точностью напоминать первую, но кардинально отличается от нее тем, что включает в себя момент легитимации — в качестве не внешнего прикрытия, а внутреннего условия силы. Общая территория, на которой ведется политическая борьба, является, таким образом, также и общей территорией смысла. Конечно, всякая практика имеет дело с единичным, конкретным, и можно признать, что политический взгляд принимает “многообразие как изначальный факт мира”, но было бы большой ошибкой считать, что он на этом останавливается, предоставляя обнаруженные в мире “различия” самим себе. “Любовь к многообразию”, заповеданная “номинализмом”, есть повод для карнавала, но не для борьбы. Политической борьбе требуется символическая арена — и “различия” образуют ее лишь в той мере в какой отсылают к “тождествам”; единичности причастны ей лишь постольку, поскольку выражают типы.
“Третий путь” философии значения
“Репрезентация” Шмитта
Значит ли это, что территория “исторического становления”, проповедуемого “новыми правыми”, есть при ближайшем рассмотрении территория гипостазированных “универсалий”, изгоняемых ими из мира? По-видимому, нет. Можно предположить, что та политическая логика, которая останавливает скольжение различий и превращает “первоначальный хаос” мира в “арену свершения”, трактует не об отношениях “общего” и “частного”, а о более сложных отношениях: отношениях “репрезентации”, в том смысле, как писал о них Карл Шмитт. В истории консервативной мысли именно он предпринял, пожалуй, наиболее весомую попытку осмыслить “репрезентацию” как специфическую, краеугольную категорию политической рациональности. Слово “репрезентация” не может быть в данном случае заменено на какой-либо более однозначный смысловой аналог — ибо необходимо, чтобы “представительство” оставалось здесь нерасторжимо сочленено с “представлением”. Все дело как раз в том, чтобы истолковать представительство, которое есть политический способ “притязания на значимость”, как особую, заложенную в языке, возможность означивания, особый род связи между индивидуальным и типическим.
В качестве резюме могу сказать следующее: вместо манифеста о вольности дворянству нам нужен пакт о закрепощении элит.
Значило ли бы это, что либерализация, о которой так много говорилось в последнее время, отходит на задний план? Совсем нет. Либерализация необходима и возможна. Но - для граждан. Для элит же актуальны не свободы, а обязанности. По меньшей мере, таков консервативный - и по-хорошему элитарный - способ понимания вопроса. Он состоит в том, чтобы определять свою власть и свою собственность через обязанности, а не через права.
“Номинализм” для “новых правых” есть попытка разработать на философском уровне чистую форму политического сознания — освобожденного от религиозно-метафизических референций, субординирующих политическое отношение (например, “власть”) теоретическому (“истина”) или моральному (“благо”). Однако именно в этом качестве он оказывается, судя по всему, не совсем пригодным. Политическое сознание, даже в своем дистиллированном виде, вряд ли может обойтись без постулата единства мира и единства субъекта (в смысле его самотождественности). Последовательно проводимая “философия различий” не позволяет сформулировать ни одного из них, больше того, явным образом оспаривает тот и другой.
Антиполитические следствия “философии различий” хорошо прослеживаются на примере современников и соотечественников “новых правых” — философов “постмодернистского” направления (Ж. Деррида, Ф. Лиотара или Ж. Делеза…). Почти нарочито не упоминаемые правым ницшеанцем Аленом де Бенуа, мыслители этого круга могут быть идентифицированы как “левые ницшеанцы”. Подобно многим левым критикам предыдущих эпох, они, в конечном счете, нацелены на некую обширную программу эмансипации, деполитизации, “смягчения нравов” (на устранение возможности серьезной борьбы и серьезного господства — всего того, что “новые правые” склонны назвать “историческим свершением”). Но вопреки большинству своих предшественников на этом поприще, они не используют морально-метафизической аргументации. Вместо того, чтобы призывать “деятелей”, осознав сущностно-общее (например, идею “человечности”), прекратить уничтожающую борьбу партикулярностей, они самым радикальным образом демонстрируют им, что ничего “общего” как раз нет и, следовательно… нет самого поля, на котором борьба могла была бы продолжиться. Таким образом принимаемый из рук Ницше “перспективизм” оказывается оторван от его монистической философии воли к власти и обращен против политики как формы жизни. В исполнении “французского ницшеанства”, — пишет Винсент Декомб, — “перспективизм стремился избежать диалектики раба и господина… примиряя конкурентов: ваша борьба не имеет цели! вы все хотите стать центром мира! Так знайте же, что не существует ни центра, ни мира!”.[9]
В самом деле, если борьба ведется, то она ведется на некоторой общей территории. Это верно и для зоологической, инстинктивно функционирующей циркуляции “взаимопоеданий”, и для политической борьбы. Последняя может с вопиющей точностью напоминать первую, но кардинально отличается от нее тем, что включает в себя момент легитимации — в качестве не внешнего прикрытия, а внутреннего условия силы. Общая территория, на которой ведется политическая борьба, является, таким образом, также и общей территорией смысла. Конечно, всякая практика имеет дело с единичным, конкретным, и можно признать, что политический взгляд принимает “многообразие как изначальный факт мира”, но было бы большой ошибкой считать, что он на этом останавливается, предоставляя обнаруженные в мире “различия” самим себе. “Любовь к многообразию”, заповеданная “номинализмом”, есть повод для карнавала, но не для борьбы. Политической борьбе требуется символическая арена — и “различия” образуют ее лишь в той мере в какой отсылают к “тождествам”; единичности причастны ей лишь постольку, поскольку выражают типы.
“Третий путь” философии значения
“Репрезентация” Шмитта
Значит ли это, что территория “исторического становления”, проповедуемого “новыми правыми”, есть при ближайшем рассмотрении территория гипостазированных “универсалий”, изгоняемых ими из мира? По-видимому, нет. Можно предположить, что та политическая логика, которая останавливает скольжение различий и превращает “первоначальный хаос” мира в “арену свершения”, трактует не об отношениях “общего” и “частного”, а о более сложных отношениях: отношениях “репрезентации”, в том смысле, как писал о них Карл Шмитт. В истории консервативной мысли именно он предпринял, пожалуй, наиболее весомую попытку осмыслить “репрезентацию” как специфическую, краеугольную категорию политической рациональности. Слово “репрезентация” не может быть в данном случае заменено на какой-либо более однозначный смысловой аналог — ибо необходимо, чтобы “представительство” оставалось здесь нерасторжимо сочленено с “представлением”. Все дело как раз в том, чтобы истолковать представительство, которое есть политический способ “притязания на значимость”, как особую, заложенную в языке, возможность означивания, особый род связи между индивидуальным и типическим.
Сам Шмитт поясняет эту возможность ссылкой на своеобразие политической риторики, которая в своих “классических” (в смысле “esprit classique”, ценимого Шмиттом) проявлениях обнаруживает не просто фразеологию, но онтологию политического. Эпистемологический анализ политической риторики мог бы открыть в ней, к примеру, своеобразную практику неразличения “означающего” и “означаемого”; и признать ее на этом основании либо бессмысленной (нарушающей “принцип предметности”), либо — выражающей рациональность особого рода: рациональность “репрезентирующей речи”, которая скорее соучаствует в своем предмете, чем описывает его, и в которой, как подчеркнет Шмитт, подчас “больше рассудка, чем у многих рационалистов, и больше интуитивной силы, чем у всех романтиков”. Ее “духовный резонанс… приходит от веры в репрезентацию, на которую претендует оратор”. [10]Именно упадок этой веры скрыт за определившим облик эпохи “забвением риторического”. В противовес типам сословной эпохи, классовые или профессиональные роли, определенные “объективно, т.е. согласно положению в процессе производства”, остаются безмолвны — в том смысле, что не возвышают единичность до “репрезентативной фигуры”, до выражения “истины субстанциального”, говоря языком гегельянства. Современные торговец, ученый, пролетарий, политик, понятый как государственный менеджер — “бессмысленно требовать, — пишет Шмитт, — чтобы они репрезентировали нечто. Они суть либо частные лица, либо экспоненты, но не репрезентанты”.[11]
Таким образом, Шмитт говорит о “репрезентации” как о возможности, не понятой и не узнанной органоном буржуазного общества, “судьбой которого стал всеобщий дуализм”.[12]
Есть все основания полагать, что одной из формул этого неплодотворного дуализма прельстились и теоретики “новых правых”. В своих поисках “философской сути” консервативной мысли они не увидели иных возможностей, кроме “номинализма”, сводящего мир к карнавалу самодовлеющих единичностей, с одной стороны, и претенциозного овеществления неподвижных “абстракций” — с другой. Из сказанного ясно, что ни одна из этих двух философий значения не пригодна для политической логики, для политического способа производства значимости. Важно понять также, что ни одна из них не состоятельна и в качестве теоретико-познавательной позиции.
“Предпонимание” Хайдеггера
Дело в том, что “номинализм”, даже в том пунктирном оформлении, которое сообщают ему “новые правые”, отсылает, в конечном счете, к иллюзии “чистого опыта”, якобы способного дать опору против рационалистических амбиций “абстрактного мышления”. Если слова Алена де Бенуа о “различии, предшествующем тождеству”, являются не просто многозначительным лозунгом и имеют смысл, то они свидетельствуют не о чем ином, как о гипотезе неких допредикативных различий, то есть: о попытке изгнать данные в языке понятийные тождества из столь ценимого мыслителями экзистенциалистского направления первичного опыта мира. Но рассчитывать обрести на этом пути многообразие мира как живую конкретность и изначальность — уже совершенно невозможно. И никто не объяснит этого лучше, чем носитель того высокого авторитета, на который обильно ссылается Ален де Бенуа в своих “номиналистических” штудиях: Мартин Хайдеггер. Исследователи правы, когда пишут, что небезызвестный “хайдеггеровский поворот” можно рассматривать как “поворот к опыту”.[13] Но вопреки позитивистам, Хайдеггер утверждает, что единицами непосредственного опыта являются отнюдь не “чувственные данные”. Так, “мы слышим шум моторов, шаги пешеходов, скрежет тормозов… Надо принять очень сложную искусственную теоретическую установку, чтобы услышать “чистый звук””. [14]Иными словами, результат предполагаемого “номинализмом” “изгнания сущностей” оборачивается, в свою очередь, не чем иным, как абстракцией, которая вполне симметрична абстракции, производимой рационализмом. В одном случае “реальность” пытаются обрести в отвлечении от индивидуальных и особенных свойств феноменов; в другом случае — в отвлечении от понятийных форм, структурирующих феномены в качестве целостностей. В обоих случаях происходит вивесекция человеческого мира.
Между тем, последний, в своей конкретности, есть мир заведомо интерпретированный. Именно в этом смысле Хайдеггер производит онтологизацию “понимания” (оно перестает для него быть методом гуманитарного познания и “становится способом бытия существ, называемых людьми”). Человек предстает как “животное интерпретирующее”, для которого вопрос о бытии эквивалентен вопросу о значении бытия. Вычитать одно из другого значит оставаться во власти критикуемой Хайдеггером “теоретической установки”: на ее основе, настаивает он, только и возможно противопоставление рационализма и иррационализма, метафизики и философии жизни[15] — словом, то самое противопоставление, которое довлеет мышлению Алена де Бенуа, выступающего в данном вопросе преемником раннеконсервативного иррационализма романтиков.
Несмотря на глубокую связь Хайдеггера с поэтическими основами немецких романтиков, именно к ним относим его лозунг: “разрушить иррациональность!”. “Разрушить” — на том основании, что иррационалистическая философия слишком некритично принимает рационалистический образ разума и познания. В данном случае (применительно к полемике “номинализм — универсализм”) она молчаливо принимает произведенное рационализмом сведение имманентных опыту языковых форм к структуре отвлеченного понятия. Редукционизм такого рода чреват настоящей “диктатурой универсалий” (ведь у нас нет возможности мыслить “действительное” вне и помимо символических форм). Иррационалистическая философия с тревогой возвестит о ней, но противопоставит ей лишь сомнительную правду сингулярных переживаний, вместо того, чтобы вернуться на шаг назад и зафиксировать, что само “понятие” есть не более, чем техника анализа, примененная к конкретным образным целостностям, которые уже присутствуют в восприятии или, вернее сказать, созидании мира. Их онтологическим прибежищем следует признать, по всей видимости, не единичное существование, не абстракцию от единичного существования и тем более не вознесенное над землей платоническое “умное место”, а коллективный опыт символического, интегрально представленный как традиция.
“Гештальт” Юнгера
Как видим, идеологи “третьего пути” (каковыми любят себя заявлять “новые правые”) словно не замечают того консервативного “третьего пути” философии значения, который уже был частично проторен их предшественниками и который традиционно связывается с учением о “гештальтах”. Ключевой фигурой, подразумеваемой в этой связи, является Эрнст Юнгер, чья “гештальт-философия” знаменательна как попытка обнаружить действительное в зазоре между универсальным и единичным. “Гештальт” следует строго отличать, как от индивидов, на которые он накладывает отпечаток, так и от понятия, которое лишено имманентной творческой энергии и остается абстракцией. “Никакое деление гештальта не ведет обратно к единичному человеку” [16]и никакое его обобщение не возводит “к человеку вообще, понятию, которое представляет собой всего лишь один из шаблонов рассудка…”.[17]
Вместе с тем, “гештальт”, при всей своей “несводимости”, образует определенный способ связи между индивидуальным и типическим. Юнгер пишет о том, что единичность (среди прочих, и единичность человеческая), способна “обладать гештальтом”, но не как денотат (обладающий “признаком”), а как своего рода иносказание. Трудно не заметить, сколь отчетливый изоморфизм связывает здесь юнгеровское понимание гештальта со шмиттовской концепцией “репрезентации”. О причастности “гештальту” Юнгер говорит точно в таком же смысле, в каком Шмитт говорит о “репрезентативных фигурах”[18], допуская также и явные переклички: следует “отыскивать гештальт рабочего, — пишет он, — на том уровне, откуда как единичный человек, так и общности представляются взору как некие аллегории, как представители” [19](курсив мой — М.Р.).
Отношение “репрезентации”, связывающее “единичность” с “гештальтом”, неподотчетно, как было сказано, категориям родо-видового анализа. Оно демонстрирует скорее признаки эстетического видения, или “поэтического типа мировоззрения”, в том смысле, в каком характеризует его Вильгельм Дильтей: “Значение произведения искусства состоит в том, что чувственно данное единичное из ограниченности преходящего и тленного возносится до идеального выражения жизни”.[20] Однако ясно также, что со стороны Юнгера и тем более со стороны Шмитта речь отнюдь не о том, чтобы разработать феноменологию эстетического восприятия и применить ее к истории, но о попытке истолковать самою “историю” феноменологически: как определенный способ перспективного видения.
“Номинализм” в контексте онтологии истории
Собственно, мы возвращаемся к тому, с чего начали: “история” требует арены, — которой нет в “номиналистической” онтологии “новых правых”, и которая, тем не менее, предполагается их исходной политической позицией. Таким образом, жизненно необходимая консерватору “арена истории” должна быть воссоздана на иных философских основаниях (обнаруживаемых, в частности, в интеллектуальном наследии немецкой “консервативной революции”). Когда Юнгер заключает: “история… имеет своим содержанием судьбу гештальтов”[21], — он указывает на возможность определенной герменевтики, соответствующей духу воспеваемого “новыми правыми” “исторического свершения”. Герменевтики истории, которая, учитывая хайдеггеровские пояснения (о специфике человеческого, заведомо интерпретированного мира), является не чем иным, как ее онтологией.
Эта онтология является плюралистической, но не “номиналистической”, поскольку предполагает плюрализм качественных целостностей (эстетических и смысловых паттернов), невозможный на почве упрощенного эмпиризма. Она претендует на выражение некоей “истины субстанциального”, но не является редукционистской, поскольку отвечает не на вопрос “что есть сущностного в становлении”, а на вопрос, “что в нем есть существенного?”. Собственно, для нас не должно составлять секрета, что “истории” только и пишутся после ответа на этот вопрос.
Наивность “номиналистической” философии “новых правых” состояла в том, что, освободив становление от довлеющих ему телеологий и вневременных сущностей, она полагала, что получает в остатке чистое историческое сознание. Между тем, последнее предполагает сложноорганизованную избирательность взгляда. “Нередуцируемая множественность” происходящего образует “историю” лишь в той мере, в какой подвергается непрестанному воздействию явных или неявных селективных процедур. История имеет дело с индивидуальным, но не всякая индивидуальная особенность достойна “войти в историю” или просто стать объектом исторического интереса. Неокантианцы, столкнувшиеся с этой проблемой и сообщившие ей классическую редакцию, склонны искать ее решение на пути “отнесения к ценности”. “Из необозримой массы индивидуальных, т.е. разнородных, объектов, — пишет Риккерт, — историк останавливает свое внимание… только на тех, которые в своем индивидуальном своеобразии или сами воплощают в себе культурные ценности или стоят к ним в некотором отношении”.[22] Крайне любопытно обнаружить, что “отнесение к ценности” как “принцип исторического (индивидуализирующего — М.Р.) образования понятий, т.е. преобразования непрерывной разнородной действительности при сохранении ее индивидуальности и особенности” [23] выполняет в неокантианской методологии исторического познания ту же функцию, какую выполняет “усмотрение гештальтов” в рамках юнгеровской (и шире, консервативно-революционной) реконструкции истории.
Эта аналогия заслуживает отдельного рассмотрения, здесь ограничимся лишь одним необходимым уточнением. Для неокантианцев “отнесение к ценности” является сугубо методологической процедурой, соответственно, и “история” остается у них сугубо методологическим предприятием. Риккерт пишет: “Мы можем… различать два рода индивидуального: простую разнородность и индивидуальность в узком смысле слова. Одна индивидуальность совпадает с самой действительностью и не входит ни в какую науку. Другая представляет собой определенное понимание действительности и потому может быть охвачена понятиями”.[24] Он не учитывает при этом, что сама “действительность” в ее человеческом измерении содержит в себе момент интерпретации и что “историческое понимание” может состояться в качестве научного метода лишь в той мере, в какой оно уже состоялось в качестве одной из форм переживания и конституирования людьми своего мира. “История”, иными словами, не только пишется, но и делается исходя из герменевтической перспективы: перспективы того, “что существенно”. Как принцип селекции, она заведомо встроена в структуры фактичности. Поэтому юнгеровское “отнесение к гештальту” имеет смысл онтологии, а не методологии истории, онтологического, а не методологического ранжирования. Затрагивая ту или иную особенную действительность, оно маркирует ее возвышение в ранге существования.
Итак, налицо некоторая программа “онтологии истории”, которая сближает ключевые фигуры немецкой “консервативной революции” (Шмитт, Хайдеггер, Юнгер) и, по всей видимости, выражает кардинальную политическую интенцию “консервативно-революционного” философствования. А именно: позволяет занять позицию вне того континуума “современного мышления”, на одном полюсе которого — десубстанциализация истории и ее деградация в карнавал раскрепощенных различий (“номинализм”, тенденция постмодерна[25]); на другом — универсальная, подчиненная рассудочной телеологии история субстанционализированного “человечества” (“реализм” универсалий, тенденция классического модерна).
Таким образом, Шмитт говорит о “репрезентации” как о возможности, не понятой и не узнанной органоном буржуазного общества, “судьбой которого стал всеобщий дуализм”.[12]
Есть все основания полагать, что одной из формул этого неплодотворного дуализма прельстились и теоретики “новых правых”. В своих поисках “философской сути” консервативной мысли они не увидели иных возможностей, кроме “номинализма”, сводящего мир к карнавалу самодовлеющих единичностей, с одной стороны, и претенциозного овеществления неподвижных “абстракций” — с другой. Из сказанного ясно, что ни одна из этих двух философий значения не пригодна для политической логики, для политического способа производства значимости. Важно понять также, что ни одна из них не состоятельна и в качестве теоретико-познавательной позиции.
“Предпонимание” Хайдеггера
Дело в том, что “номинализм”, даже в том пунктирном оформлении, которое сообщают ему “новые правые”, отсылает, в конечном счете, к иллюзии “чистого опыта”, якобы способного дать опору против рационалистических амбиций “абстрактного мышления”. Если слова Алена де Бенуа о “различии, предшествующем тождеству”, являются не просто многозначительным лозунгом и имеют смысл, то они свидетельствуют не о чем ином, как о гипотезе неких допредикативных различий, то есть: о попытке изгнать данные в языке понятийные тождества из столь ценимого мыслителями экзистенциалистского направления первичного опыта мира. Но рассчитывать обрести на этом пути многообразие мира как живую конкретность и изначальность — уже совершенно невозможно. И никто не объяснит этого лучше, чем носитель того высокого авторитета, на который обильно ссылается Ален де Бенуа в своих “номиналистических” штудиях: Мартин Хайдеггер. Исследователи правы, когда пишут, что небезызвестный “хайдеггеровский поворот” можно рассматривать как “поворот к опыту”.[13] Но вопреки позитивистам, Хайдеггер утверждает, что единицами непосредственного опыта являются отнюдь не “чувственные данные”. Так, “мы слышим шум моторов, шаги пешеходов, скрежет тормозов… Надо принять очень сложную искусственную теоретическую установку, чтобы услышать “чистый звук””. [14]Иными словами, результат предполагаемого “номинализмом” “изгнания сущностей” оборачивается, в свою очередь, не чем иным, как абстракцией, которая вполне симметрична абстракции, производимой рационализмом. В одном случае “реальность” пытаются обрести в отвлечении от индивидуальных и особенных свойств феноменов; в другом случае — в отвлечении от понятийных форм, структурирующих феномены в качестве целостностей. В обоих случаях происходит вивесекция человеческого мира.
Между тем, последний, в своей конкретности, есть мир заведомо интерпретированный. Именно в этом смысле Хайдеггер производит онтологизацию “понимания” (оно перестает для него быть методом гуманитарного познания и “становится способом бытия существ, называемых людьми”). Человек предстает как “животное интерпретирующее”, для которого вопрос о бытии эквивалентен вопросу о значении бытия. Вычитать одно из другого значит оставаться во власти критикуемой Хайдеггером “теоретической установки”: на ее основе, настаивает он, только и возможно противопоставление рационализма и иррационализма, метафизики и философии жизни[15] — словом, то самое противопоставление, которое довлеет мышлению Алена де Бенуа, выступающего в данном вопросе преемником раннеконсервативного иррационализма романтиков.
Несмотря на глубокую связь Хайдеггера с поэтическими основами немецких романтиков, именно к ним относим его лозунг: “разрушить иррациональность!”. “Разрушить” — на том основании, что иррационалистическая философия слишком некритично принимает рационалистический образ разума и познания. В данном случае (применительно к полемике “номинализм — универсализм”) она молчаливо принимает произведенное рационализмом сведение имманентных опыту языковых форм к структуре отвлеченного понятия. Редукционизм такого рода чреват настоящей “диктатурой универсалий” (ведь у нас нет возможности мыслить “действительное” вне и помимо символических форм). Иррационалистическая философия с тревогой возвестит о ней, но противопоставит ей лишь сомнительную правду сингулярных переживаний, вместо того, чтобы вернуться на шаг назад и зафиксировать, что само “понятие” есть не более, чем техника анализа, примененная к конкретным образным целостностям, которые уже присутствуют в восприятии или, вернее сказать, созидании мира. Их онтологическим прибежищем следует признать, по всей видимости, не единичное существование, не абстракцию от единичного существования и тем более не вознесенное над землей платоническое “умное место”, а коллективный опыт символического, интегрально представленный как традиция.
“Гештальт” Юнгера
Как видим, идеологи “третьего пути” (каковыми любят себя заявлять “новые правые”) словно не замечают того консервативного “третьего пути” философии значения, который уже был частично проторен их предшественниками и который традиционно связывается с учением о “гештальтах”. Ключевой фигурой, подразумеваемой в этой связи, является Эрнст Юнгер, чья “гештальт-философия” знаменательна как попытка обнаружить действительное в зазоре между универсальным и единичным. “Гештальт” следует строго отличать, как от индивидов, на которые он накладывает отпечаток, так и от понятия, которое лишено имманентной творческой энергии и остается абстракцией. “Никакое деление гештальта не ведет обратно к единичному человеку” [16]и никакое его обобщение не возводит “к человеку вообще, понятию, которое представляет собой всего лишь один из шаблонов рассудка…”.[17]
Вместе с тем, “гештальт”, при всей своей “несводимости”, образует определенный способ связи между индивидуальным и типическим. Юнгер пишет о том, что единичность (среди прочих, и единичность человеческая), способна “обладать гештальтом”, но не как денотат (обладающий “признаком”), а как своего рода иносказание. Трудно не заметить, сколь отчетливый изоморфизм связывает здесь юнгеровское понимание гештальта со шмиттовской концепцией “репрезентации”. О причастности “гештальту” Юнгер говорит точно в таком же смысле, в каком Шмитт говорит о “репрезентативных фигурах”[18], допуская также и явные переклички: следует “отыскивать гештальт рабочего, — пишет он, — на том уровне, откуда как единичный человек, так и общности представляются взору как некие аллегории, как представители” [19](курсив мой — М.Р.).
Отношение “репрезентации”, связывающее “единичность” с “гештальтом”, неподотчетно, как было сказано, категориям родо-видового анализа. Оно демонстрирует скорее признаки эстетического видения, или “поэтического типа мировоззрения”, в том смысле, в каком характеризует его Вильгельм Дильтей: “Значение произведения искусства состоит в том, что чувственно данное единичное из ограниченности преходящего и тленного возносится до идеального выражения жизни”.[20] Однако ясно также, что со стороны Юнгера и тем более со стороны Шмитта речь отнюдь не о том, чтобы разработать феноменологию эстетического восприятия и применить ее к истории, но о попытке истолковать самою “историю” феноменологически: как определенный способ перспективного видения.
“Номинализм” в контексте онтологии истории
Собственно, мы возвращаемся к тому, с чего начали: “история” требует арены, — которой нет в “номиналистической” онтологии “новых правых”, и которая, тем не менее, предполагается их исходной политической позицией. Таким образом, жизненно необходимая консерватору “арена истории” должна быть воссоздана на иных философских основаниях (обнаруживаемых, в частности, в интеллектуальном наследии немецкой “консервативной революции”). Когда Юнгер заключает: “история… имеет своим содержанием судьбу гештальтов”[21], — он указывает на возможность определенной герменевтики, соответствующей духу воспеваемого “новыми правыми” “исторического свершения”. Герменевтики истории, которая, учитывая хайдеггеровские пояснения (о специфике человеческого, заведомо интерпретированного мира), является не чем иным, как ее онтологией.
Эта онтология является плюралистической, но не “номиналистической”, поскольку предполагает плюрализм качественных целостностей (эстетических и смысловых паттернов), невозможный на почве упрощенного эмпиризма. Она претендует на выражение некоей “истины субстанциального”, но не является редукционистской, поскольку отвечает не на вопрос “что есть сущностного в становлении”, а на вопрос, “что в нем есть существенного?”. Собственно, для нас не должно составлять секрета, что “истории” только и пишутся после ответа на этот вопрос.
Наивность “номиналистической” философии “новых правых” состояла в том, что, освободив становление от довлеющих ему телеологий и вневременных сущностей, она полагала, что получает в остатке чистое историческое сознание. Между тем, последнее предполагает сложноорганизованную избирательность взгляда. “Нередуцируемая множественность” происходящего образует “историю” лишь в той мере, в какой подвергается непрестанному воздействию явных или неявных селективных процедур. История имеет дело с индивидуальным, но не всякая индивидуальная особенность достойна “войти в историю” или просто стать объектом исторического интереса. Неокантианцы, столкнувшиеся с этой проблемой и сообщившие ей классическую редакцию, склонны искать ее решение на пути “отнесения к ценности”. “Из необозримой массы индивидуальных, т.е. разнородных, объектов, — пишет Риккерт, — историк останавливает свое внимание… только на тех, которые в своем индивидуальном своеобразии или сами воплощают в себе культурные ценности или стоят к ним в некотором отношении”.[22] Крайне любопытно обнаружить, что “отнесение к ценности” как “принцип исторического (индивидуализирующего — М.Р.) образования понятий, т.е. преобразования непрерывной разнородной действительности при сохранении ее индивидуальности и особенности” [23] выполняет в неокантианской методологии исторического познания ту же функцию, какую выполняет “усмотрение гештальтов” в рамках юнгеровской (и шире, консервативно-революционной) реконструкции истории.
Эта аналогия заслуживает отдельного рассмотрения, здесь ограничимся лишь одним необходимым уточнением. Для неокантианцев “отнесение к ценности” является сугубо методологической процедурой, соответственно, и “история” остается у них сугубо методологическим предприятием. Риккерт пишет: “Мы можем… различать два рода индивидуального: простую разнородность и индивидуальность в узком смысле слова. Одна индивидуальность совпадает с самой действительностью и не входит ни в какую науку. Другая представляет собой определенное понимание действительности и потому может быть охвачена понятиями”.[24] Он не учитывает при этом, что сама “действительность” в ее человеческом измерении содержит в себе момент интерпретации и что “историческое понимание” может состояться в качестве научного метода лишь в той мере, в какой оно уже состоялось в качестве одной из форм переживания и конституирования людьми своего мира. “История”, иными словами, не только пишется, но и делается исходя из герменевтической перспективы: перспективы того, “что существенно”. Как принцип селекции, она заведомо встроена в структуры фактичности. Поэтому юнгеровское “отнесение к гештальту” имеет смысл онтологии, а не методологии истории, онтологического, а не методологического ранжирования. Затрагивая ту или иную особенную действительность, оно маркирует ее возвышение в ранге существования.
Итак, налицо некоторая программа “онтологии истории”, которая сближает ключевые фигуры немецкой “консервативной революции” (Шмитт, Хайдеггер, Юнгер) и, по всей видимости, выражает кардинальную политическую интенцию “консервативно-революционного” философствования. А именно: позволяет занять позицию вне того континуума “современного мышления”, на одном полюсе которого — десубстанциализация истории и ее деградация в карнавал раскрепощенных различий (“номинализм”, тенденция постмодерна[25]); на другом — универсальная, подчиненная рассудочной телеологии история субстанционализированного “человечества” (“реализм” универсалий, тенденция классического модерна).
“Номинализм” в контексте онтологии культуры
“Новые правые” всецело сосредоточены на оспаривании последней, универсализирующей тенденции, справедливо считая ее антиисторической, и если у истоков своего критического предприятия они впадают в антиисторизм первого рода, то это происходит скорее поневоле: не на уровне сознательной позиции, а на уровне неконтролируемых импликаций усвоенного ими языка. Сама задача “избавления” становящегося мира от трансцендентных ему “целей” и “сущностей” мыслится Аленом де Бенуа исключительно в контексте консервативной программы “онтологии истории”: он ведет речь о том, чтобы “обеспечить истории ее онтологический статус: [предложить] онтологию, которая больше не является внешней или трансцендентной по отношению к людским свершениям, но которая смешивается с ними”.[26]
“Новые правые” всецело сосредоточены на оспаривании последней, универсализирующей тенденции, справедливо считая ее антиисторической, и если у истоков своего критического предприятия они впадают в антиисторизм первого рода, то это происходит скорее поневоле: не на уровне сознательной позиции, а на уровне неконтролируемых импликаций усвоенного ими языка. Сама задача “избавления” становящегося мира от трансцендентных ему “целей” и “сущностей” мыслится Аленом де Бенуа исключительно в контексте консервативной программы “онтологии истории”: он ведет речь о том, чтобы “обеспечить истории ее онтологический статус: [предложить] онтологию, которая больше не является внешней или трансцендентной по отношению к людским свершениям, но которая смешивается с ними”.[26]
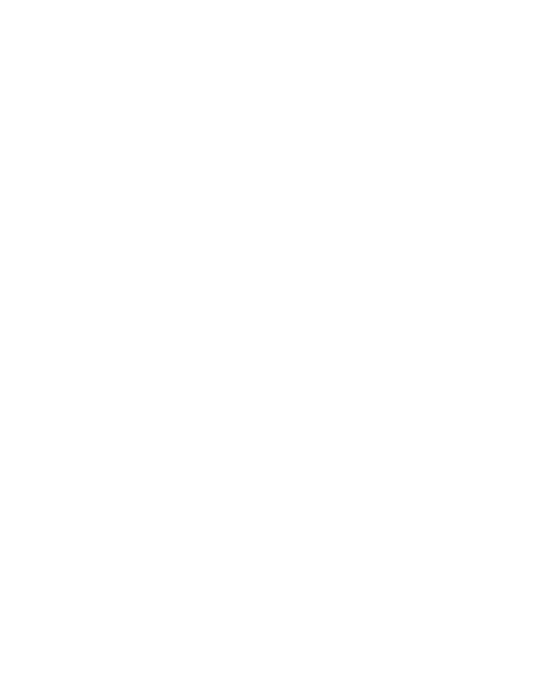
Однако, повторимся, критики вневременных сущностей как таковой недостаточно для высвобождения исторической формы бытия, вследствие чего ставка на чистый “номинализм” как онтологию исторического оказывается ошибкой. Источник этой ошибки следовало бы уяснить несколько подробнее. По всей видимости, она связана с контекстуальными предпосылками, заложенными в самом термине “номинализм”. Даже в том превращенном и нестрогом употреблении, какое дает ему Ален де Бенуа, он продолжает нести отпечаток структуры схоластической полемики.
А полемика об универсалиях в своем ядре является, конечно же, теологической. Для Оккама как основного инициатора этой полемики ее суть сводилась к проблеме божественной воли[27]. “Реализм”, будучи господствующей и до определенного момента бесспорной метафизической и эпистемологической доктриной схоластики, считал сущности вещей предсуществующими в уме Бога. Соответственно, акт творения логически опосредовался целой системой необходимых свойств и отношений, сводился к учреждению факта существования конкретных вещей, но не их “субстанциальных” характеристик. И как таковой, представал лишь частично свободным. Чтобы мыслить акт творения вещи абсолютно свободным, из общей структуры бытия и структуры бытия каждой вещи следует исключить какие-либо моменты, “вынуждающие” наделить вещь определенными характеристиками, все “неслучайные” характеристики вещей, словом — исключить универсалии. По замыслу “номинализма”, исключение универсалий из онтологии автоматически ведет к устранению из мира необходимости, помимо той, что полагалась свободным волеизъявлением Бога.
Относительно судьбы универсалий, “изгнанных” из сознания Творца и структуры сотворенного мира, следует сказать, что областью их условного существования был объявлен язык, представляющий собой (по презумпции “книги Бытия”) не исходную онтологическую диспозицию, а вторичное, человеческое установление. Усилия “номиналистов” по десубстанциализации “слов” послужили, по всей видимости, серьезным импульсом к развитию философии языка в смысле ее обособления от метафизической проблематики. “В том и заключается, — пишет Карл Юнг, великая заслуга… номинализма, что он основательно расторгнул первобытное магическое или мистическое тождество слова с объектом”.[28] Однако потребовалась, по меньшей мере, смена философских эпох, чтобы это расторгнутое тождество оказалось частично реконструировано — изнутри феноменологической перспективы — и чтобы некогда ушедшая от метафизики философия языка могла по праву вернуться в, уже посттеологическую, онтологию, трактующую о формах “конституирования” мира конкретными культурно-языковыми сообществами.
Самому “номинализму” как артефакту теологического мышления постановка вопроса о “конституировании” мира заведомо чужда: сознательно или поневоле, он трактует о его “творении”. Как ни странно, это вполне относимо и к “номинализму” Алена де Бенуа, остающемуся, несмотря на весь антитеистический пафос, отчетливо изоморфным схоластическому решению. В исходной версии “номинализма” “случайному”, лишенному субстанциальной разумности и субстанциальной необходимости миру сопоставлен произвольный творческий акт Бога, в производной версии — аналогичный творческий акт человека. С точки зрения структуры онтологического проектирования эта подстановка меняет не так уж много. Теологический волюнтаризм Оккама переиначивается у Алена де Бенуа в волюнтаризм романтический. “Романтический”, то есть центрирующий мир вокруг героического индивида. Последний, конечно же, лишен божественной способности “творить из ничего”, но утрата компенсируется постулатом “изначального хаоса”, в отношении которого производится — “наделение смыслом”. “Творение” уточняется как “оформление”. “Универсум есть хаос, — пишет Ален де Бенуа, — и задача, которую человек может на себя взять, в том, чтобы дать ему форму”.[29]
В соответствии с постулатами номиналистического использования языка автору здесь следовало бы уточнить, какой конкретно человек может взять на себя столь возвышенную задачу. Но именно это уточнение, по всей видимости, невозможно. Для всякого конкретного человеческого индивида оформляющее действие не может быть беспредпосылочным, то есть в строгом смысле мирообразующим. Каждый из людей, когда бы и как он ни жил, застает мир уже оформленным (интерпретированным, наделенным смыслом). Кем? “Номиналистический” ответ мог бы гласить: “другими людьми”, — но квантор “каждый” в равной степени отнесен и к ним. “Другие люди” не идут здесь в расчет иначе, чем в качестве фигуры отсылки: отсылки просто к чему-то “другому”, что существует между людьми, в людях, посредством людей, но не отождествляется с ними. Понятно, что это “другое” называется “обществом” или, если нас интересует аспект “мирообразования”, — “культурой”. Понятно также, что представление о культуре как организующем принципе “жизненного мира” не может быть совсем чуждо идеологу “новых правых”, трактующему о возобновлении “основ европейского наследия”. Однако вне поля его зрения остается несоответствие между исповедуемой им программой “культурного фундаментализма”, с одной стороны, и онтологическими предпосылками “номинализма” — с другой.
В исследовании неоконсервативной традиции мысли констатация этого несоответствия является почти общим местом. Оно трактуется, как правило, в том смысле, что, с одной стороны, “новые правые” в своей философии сообщества жестко отстаивают (этический и онтологический) приоритет “совместного наследия” перед индивидуалистической установкой; с другой стороны, в своей философии значения они исповедуют “номинализм”, резервирующий область действительного существования за индивидами, т.е. элементарными единицами объема общих понятий, связанными с чувственным опытом. К подобной аргументации прибегает уже упоминавшийся Пьер-Андре Тагиефф[30], однако она представляется нам неточной, чтобы не сказать некорректной. “Общее” в обществе, по всей видимости, не следует мыслить по модели “общего” в понятии — во всяком случае, по той модели, которая задана классической проблемой универсалий. Аналогия проблем социальной теории с проблемой универсалий, конечно, возможна, однако, некритически усвоенная, она ведет лишь к дублированию изжитых антиномий. А именно: мешает увидеть, что сама полемика об универсалиях, по своему внутреннему строению, социологически иррелевантна; что она возникает и разрешается в дихотомическом пространстве схоластического мышления, где есть трансцендентный “Бог”, есть сотворенный “мир”, есть возможность спорить о характере “творения” (о том, например, произвольны или необходимы его “лекалы”), но нет “общества” как фундаментально истолкованной реальности и “культуры” как онтологической, мирообразующей инстанции.
Именно этим, а не условным ассоциированием “индивидуализма” социологического с семантическим, определено принципиальное несоответствие между декларируемой “новыми правыми” программой онтологии культуры и принимаемой ими “номиналистической” философией значения. [31]Несоответствие, перерастающее в текстах Алена де Бенуа и, шире, в топике неоконсервативной мысли в подспудный “конфликт интерпретаций”. Возможно, сам идеолог “новых правых” не согласился бы с такой квалификацией, указав, например, что в тезисе о человеке как творце мирообразующих форм фигура[32] “человека” мыслится неотделимой от “среды” и от “наследия”[33], то есть является иносказанием “культуры”, которая, разумеется, есть не что иное, как человеческий способ проектировать реальность. Но, во-первых, приняв такую трактовку, следовало бы в корне отвергнуть весь сопутствующий волюнтаристический пафос в пользу своего рода органицизма и перейти от дискурса “творения” мира к дискурсу его “конституирования”. Иными словами, все то, что предстает у Алена де Бенуа как акт высшей сознательности и героического усилия должно было бы, в таком случае, быть реинтерпретировано как анонимный бессознательный процесс, имеющий даже не интерсубъективную, а сложную коллективную онтологию. Во-вторых же, в рамках указанной трактовки теряет смысл сама критическая методика “номинализма”. Из того, что общие представления суть “не более, чем” flatus vocis, явления речи, факт языка, уже не может следовать их “недействительность” или “конвенциональность” — ведь по исходной посылке коллективная культурно-языковая практика понята как исходная онтологическая диспозиция: как внутреннее условие всякой конкретной действительности и всякой заключенной конвенции.
А полемика об универсалиях в своем ядре является, конечно же, теологической. Для Оккама как основного инициатора этой полемики ее суть сводилась к проблеме божественной воли[27]. “Реализм”, будучи господствующей и до определенного момента бесспорной метафизической и эпистемологической доктриной схоластики, считал сущности вещей предсуществующими в уме Бога. Соответственно, акт творения логически опосредовался целой системой необходимых свойств и отношений, сводился к учреждению факта существования конкретных вещей, но не их “субстанциальных” характеристик. И как таковой, представал лишь частично свободным. Чтобы мыслить акт творения вещи абсолютно свободным, из общей структуры бытия и структуры бытия каждой вещи следует исключить какие-либо моменты, “вынуждающие” наделить вещь определенными характеристиками, все “неслучайные” характеристики вещей, словом — исключить универсалии. По замыслу “номинализма”, исключение универсалий из онтологии автоматически ведет к устранению из мира необходимости, помимо той, что полагалась свободным волеизъявлением Бога.
Относительно судьбы универсалий, “изгнанных” из сознания Творца и структуры сотворенного мира, следует сказать, что областью их условного существования был объявлен язык, представляющий собой (по презумпции “книги Бытия”) не исходную онтологическую диспозицию, а вторичное, человеческое установление. Усилия “номиналистов” по десубстанциализации “слов” послужили, по всей видимости, серьезным импульсом к развитию философии языка в смысле ее обособления от метафизической проблематики. “В том и заключается, — пишет Карл Юнг, великая заслуга… номинализма, что он основательно расторгнул первобытное магическое или мистическое тождество слова с объектом”.[28] Однако потребовалась, по меньшей мере, смена философских эпох, чтобы это расторгнутое тождество оказалось частично реконструировано — изнутри феноменологической перспективы — и чтобы некогда ушедшая от метафизики философия языка могла по праву вернуться в, уже посттеологическую, онтологию, трактующую о формах “конституирования” мира конкретными культурно-языковыми сообществами.
Самому “номинализму” как артефакту теологического мышления постановка вопроса о “конституировании” мира заведомо чужда: сознательно или поневоле, он трактует о его “творении”. Как ни странно, это вполне относимо и к “номинализму” Алена де Бенуа, остающемуся, несмотря на весь антитеистический пафос, отчетливо изоморфным схоластическому решению. В исходной версии “номинализма” “случайному”, лишенному субстанциальной разумности и субстанциальной необходимости миру сопоставлен произвольный творческий акт Бога, в производной версии — аналогичный творческий акт человека. С точки зрения структуры онтологического проектирования эта подстановка меняет не так уж много. Теологический волюнтаризм Оккама переиначивается у Алена де Бенуа в волюнтаризм романтический. “Романтический”, то есть центрирующий мир вокруг героического индивида. Последний, конечно же, лишен божественной способности “творить из ничего”, но утрата компенсируется постулатом “изначального хаоса”, в отношении которого производится — “наделение смыслом”. “Творение” уточняется как “оформление”. “Универсум есть хаос, — пишет Ален де Бенуа, — и задача, которую человек может на себя взять, в том, чтобы дать ему форму”.[29]
В соответствии с постулатами номиналистического использования языка автору здесь следовало бы уточнить, какой конкретно человек может взять на себя столь возвышенную задачу. Но именно это уточнение, по всей видимости, невозможно. Для всякого конкретного человеческого индивида оформляющее действие не может быть беспредпосылочным, то есть в строгом смысле мирообразующим. Каждый из людей, когда бы и как он ни жил, застает мир уже оформленным (интерпретированным, наделенным смыслом). Кем? “Номиналистический” ответ мог бы гласить: “другими людьми”, — но квантор “каждый” в равной степени отнесен и к ним. “Другие люди” не идут здесь в расчет иначе, чем в качестве фигуры отсылки: отсылки просто к чему-то “другому”, что существует между людьми, в людях, посредством людей, но не отождествляется с ними. Понятно, что это “другое” называется “обществом” или, если нас интересует аспект “мирообразования”, — “культурой”. Понятно также, что представление о культуре как организующем принципе “жизненного мира” не может быть совсем чуждо идеологу “новых правых”, трактующему о возобновлении “основ европейского наследия”. Однако вне поля его зрения остается несоответствие между исповедуемой им программой “культурного фундаментализма”, с одной стороны, и онтологическими предпосылками “номинализма” — с другой.
В исследовании неоконсервативной традиции мысли констатация этого несоответствия является почти общим местом. Оно трактуется, как правило, в том смысле, что, с одной стороны, “новые правые” в своей философии сообщества жестко отстаивают (этический и онтологический) приоритет “совместного наследия” перед индивидуалистической установкой; с другой стороны, в своей философии значения они исповедуют “номинализм”, резервирующий область действительного существования за индивидами, т.е. элементарными единицами объема общих понятий, связанными с чувственным опытом. К подобной аргументации прибегает уже упоминавшийся Пьер-Андре Тагиефф[30], однако она представляется нам неточной, чтобы не сказать некорректной. “Общее” в обществе, по всей видимости, не следует мыслить по модели “общего” в понятии — во всяком случае, по той модели, которая задана классической проблемой универсалий. Аналогия проблем социальной теории с проблемой универсалий, конечно, возможна, однако, некритически усвоенная, она ведет лишь к дублированию изжитых антиномий. А именно: мешает увидеть, что сама полемика об универсалиях, по своему внутреннему строению, социологически иррелевантна; что она возникает и разрешается в дихотомическом пространстве схоластического мышления, где есть трансцендентный “Бог”, есть сотворенный “мир”, есть возможность спорить о характере “творения” (о том, например, произвольны или необходимы его “лекалы”), но нет “общества” как фундаментально истолкованной реальности и “культуры” как онтологической, мирообразующей инстанции.
Именно этим, а не условным ассоциированием “индивидуализма” социологического с семантическим, определено принципиальное несоответствие между декларируемой “новыми правыми” программой онтологии культуры и принимаемой ими “номиналистической” философией значения. [31]Несоответствие, перерастающее в текстах Алена де Бенуа и, шире, в топике неоконсервативной мысли в подспудный “конфликт интерпретаций”. Возможно, сам идеолог “новых правых” не согласился бы с такой квалификацией, указав, например, что в тезисе о человеке как творце мирообразующих форм фигура[32] “человека” мыслится неотделимой от “среды” и от “наследия”[33], то есть является иносказанием “культуры”, которая, разумеется, есть не что иное, как человеческий способ проектировать реальность. Но, во-первых, приняв такую трактовку, следовало бы в корне отвергнуть весь сопутствующий волюнтаристический пафос в пользу своего рода органицизма и перейти от дискурса “творения” мира к дискурсу его “конституирования”. Иными словами, все то, что предстает у Алена де Бенуа как акт высшей сознательности и героического усилия должно было бы, в таком случае, быть реинтерпретировано как анонимный бессознательный процесс, имеющий даже не интерсубъективную, а сложную коллективную онтологию. Во-вторых же, в рамках указанной трактовки теряет смысл сама критическая методика “номинализма”. Из того, что общие представления суть “не более, чем” flatus vocis, явления речи, факт языка, уже не может следовать их “недействительность” или “конвенциональность” — ведь по исходной посылке коллективная культурно-языковая практика понята как исходная онтологическая диспозиция: как внутреннее условие всякой конкретной действительности и всякой заключенной конвенции.
Опубликовано в журнале Логос, номер 6, 2004
Примечания:
[1]См. Опыты типологии консерватизма — «Логос» №5'6, 2002.
[2]То есть от традиции, с которой консерваторы, проповедующие незыблемость установленно'
го Богом или природой «естественного порядка вещей», непосредственно себя связывают.
[3]Benoist Alain de. Vu de droite. P. 16.
[4]Benoist Alain de. Les idées à l’endroit. P. 31
[5]Taguieff P.-A. Alain de Benoist, philosophe. // Temps modernes. 1984. A. 40, ¹451. P. 1441.
[6]Benoist Alain de. Les idées à l’endroit. P. 31.
[7]Benoist Alain de. Les idées à l’endroit. P. 31
[8]Умопостигаемый порядок Платона как бы выдвигается на опустевшее место делегитимиро'
ванного традиционного порядка — в делегитимации которого «сократическая» философия
сыграла не последнюю роль. Ницше особо настаивает на том, что сократовские рациона'
лизм и диалектика были подрывным предприятием по отношению к логике традиционных
иерархий: иерархий авторитета, иерархий рождения, иерархий силы
[9]Декомб В. Современная французская философия. С. 179.
[10]Шмитт Карл. Политическая теология//Шмитт Карл. Политическая теология. М., 2000. С. 132.
[11]Там же. С. 127.
[12]Там же.
[13]См., напр., Сокулер З.А. Идеи М.Хайдеггера и их современное осмысление // Рефератив'
ный журнал (философия) 1998 г. Сер. 3.
[14]См. там же.
[15]См. там же.
[16]Юнгер Эрнст. Рабочий. Господство и гештальт. СПб. 2000. С. 88.
[17]Там же. С. 87.
[18]И подчас даже в идентичном контексте! Один, сравнивая пошедшие прахом расчеты руково'
дителей второго рейха с бессмертием «немецких фронтовиков», пишет, что «бюргер… не
принадлежит к гештальтам, и потому время пожирает его, даже если он украшает себя кня'
жеской короной или пурпуром полководца» (Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. С.
93). Другой, ссылаясь на Огюста Конта, расставляет столь же недвусмысленные акценты в ие'
рархии рангов: «Этот величайший социолог познал репрезентативные типы средневековья:
клирика и рыцаря, — и сравнил их с типами современного общества, ученым и промышлен'
ным торговцем. Но заблуждением [с его стороны] было считать современного ученого и
современного торговца репрезентативными типами. Ученый был репрезентативен лишь в
переходную эпоху, лишь в борьбе с церковью, а торговец был духовной величиной лишь как
пуританский индивидуалист» (Шмитт Карл. Римский католицизм и политическая форма.
С.126). За вычетом этих переходных состояний, — подытоживает Шмитт, — «буржуазное об'
щество больше уже не было способно ни на какую репрезентацию…» (Там же. С. 127).
[19]Юнгер Эрнст. Рабочий. Господство и гештальт. С. 100.
[20]Дильтей В. Введение в науки о духе. С. 229.
[21]Юнгер Эрнст. Рабочий. Господство и гештальт. С. 88.
[22]Генрих Риккерт. Науки о природе и науки о духе // Культурология ХХ век. М., 1995. С. 78.
[23]Там же.
[24]Там же.
[25]В «номиналистической» онтологии утрачивается специфический смысл того, что «сущест'
венно», то есть уничтожается различение, создающее самое историю. Так «философия раз'
личий» оборачивается безразличием
[26]Benoist Alain de. Vu de droite. P. 37.
[27]Новая философская энциклопедия в 4'х томах. Т. 3. С. 142.
[28]Юнг К.'Г. Психологические типы. М., 2001. С. 60.
[29]Benoist Alain de. Vu de droite. С.91.
[30]Taguieff P.-A. Alain de Benoist, philosophe. P. 1444-1445
[31]Из сказанного ясно, что это несоответствие было бы ничуть не меньше, предпочти Ален де
Бенуа позицию реализма универсалий
[32]Benoist Alain de. Vu de droite. P. 91.
[33]Benoist Alain de. Les idées à l’endroit. P. 40-41.
Примечания:
[1]См. Опыты типологии консерватизма — «Логос» №5'6, 2002.
[2]То есть от традиции, с которой консерваторы, проповедующие незыблемость установленно'
го Богом или природой «естественного порядка вещей», непосредственно себя связывают.
[3]Benoist Alain de. Vu de droite. P. 16.
[4]Benoist Alain de. Les idées à l’endroit. P. 31
[5]Taguieff P.-A. Alain de Benoist, philosophe. // Temps modernes. 1984. A. 40, ¹451. P. 1441.
[6]Benoist Alain de. Les idées à l’endroit. P. 31.
[7]Benoist Alain de. Les idées à l’endroit. P. 31
[8]Умопостигаемый порядок Платона как бы выдвигается на опустевшее место делегитимиро'
ванного традиционного порядка — в делегитимации которого «сократическая» философия
сыграла не последнюю роль. Ницше особо настаивает на том, что сократовские рациона'
лизм и диалектика были подрывным предприятием по отношению к логике традиционных
иерархий: иерархий авторитета, иерархий рождения, иерархий силы
[9]Декомб В. Современная французская философия. С. 179.
[10]Шмитт Карл. Политическая теология//Шмитт Карл. Политическая теология. М., 2000. С. 132.
[11]Там же. С. 127.
[12]Там же.
[13]См., напр., Сокулер З.А. Идеи М.Хайдеггера и их современное осмысление // Рефератив'
ный журнал (философия) 1998 г. Сер. 3.
[14]См. там же.
[15]См. там же.
[16]Юнгер Эрнст. Рабочий. Господство и гештальт. СПб. 2000. С. 88.
[17]Там же. С. 87.
[18]И подчас даже в идентичном контексте! Один, сравнивая пошедшие прахом расчеты руково'
дителей второго рейха с бессмертием «немецких фронтовиков», пишет, что «бюргер… не
принадлежит к гештальтам, и потому время пожирает его, даже если он украшает себя кня'
жеской короной или пурпуром полководца» (Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. С.
93). Другой, ссылаясь на Огюста Конта, расставляет столь же недвусмысленные акценты в ие'
рархии рангов: «Этот величайший социолог познал репрезентативные типы средневековья:
клирика и рыцаря, — и сравнил их с типами современного общества, ученым и промышлен'
ным торговцем. Но заблуждением [с его стороны] было считать современного ученого и
современного торговца репрезентативными типами. Ученый был репрезентативен лишь в
переходную эпоху, лишь в борьбе с церковью, а торговец был духовной величиной лишь как
пуританский индивидуалист» (Шмитт Карл. Римский католицизм и политическая форма.
С.126). За вычетом этих переходных состояний, — подытоживает Шмитт, — «буржуазное об'
щество больше уже не было способно ни на какую репрезентацию…» (Там же. С. 127).
[19]Юнгер Эрнст. Рабочий. Господство и гештальт. С. 100.
[20]Дильтей В. Введение в науки о духе. С. 229.
[21]Юнгер Эрнст. Рабочий. Господство и гештальт. С. 88.
[22]Генрих Риккерт. Науки о природе и науки о духе // Культурология ХХ век. М., 1995. С. 78.
[23]Там же.
[24]Там же.
[25]В «номиналистической» онтологии утрачивается специфический смысл того, что «сущест'
венно», то есть уничтожается различение, создающее самое историю. Так «философия раз'
личий» оборачивается безразличием
[26]Benoist Alain de. Vu de droite. P. 37.
[27]Новая философская энциклопедия в 4'х томах. Т. 3. С. 142.
[28]Юнг К.'Г. Психологические типы. М., 2001. С. 60.
[29]Benoist Alain de. Vu de droite. С.91.
[30]Taguieff P.-A. Alain de Benoist, philosophe. P. 1444-1445
[31]Из сказанного ясно, что это несоответствие было бы ничуть не меньше, предпочти Ален де
Бенуа позицию реализма универсалий
[32]Benoist Alain de. Vu de droite. P. 91.
[33]Benoist Alain de. Les idées à l’endroit. P. 40-41.