Вечный консерватизм
К морфологии политических мировоззрений
“
«Наибольшим позором покрывает себя душа человеческая, когда возмущается против
мира, становясь… как бы болезненным наростом на нем». [1, c. 90]
мира, становясь… как бы болезненным наростом на нем». [1, c. 90]
На правах неигровых персонажей
В классической триаде современных идеологических семейств – либерализм, консерватизм, социализм – консерватизм всегда оставался наиболее слабым и неочевидным звеном.
Консерваторы были, как правило, весьма скупы на артикуляцию оснований собственного мировоззрения. Что уж говорить об оппонентах. Они всегда были склонны относиться к консерваторам как к так называемым «неигровым персонажам» в компьютерных играх или карикатурным антагонистам из кино. Подчас опасным, но
лишенным проработанных личностных оснований.
Хорошей иллюстрацией этого отношения является портрет Константина Победоносцева кисти Ильи Репина, известного своими левыми убеждениями. Перед нами – безликий (с размытым лицом, как у Воландеморта) и абстрактно-неприятный человек. Абстрактно – именно в том смысле, что антипатия художника к объекту не «цепляется» за какие бы то ни было индивидуальные, личностные черты. Обычно в сильной неприязни,
тем более, ненависти заключен момент признания индивидуальности объекта: ненавидящий не просто хорошо знает, но остро чувствует и переживает индивидуальность ненавидимого. Одновременно отрицать объект и отрицать его индивидуальность, конкретность – сложно. Но взгляд автора стремится именно к этому, и ему это удается. Работа, несомненно, сильная, но представляет собой не столько портрет, сколько
автопортрет стереотипов художника.
Это стереотипы очень многих «прогрессивно мыслящих» (и, как правило, гораздо более чувствующих, чем мыслящих) людей. Им свойственно думать, что человек, отвергающий их идеалы, делает это не в силу иной личностно заостренной и проработанной мировоззренческой позиции, а скорее в силу дефицита подлинной
индивидуальности, личностной травмы или просто ограниченности.
В классической триаде современных идеологических семейств – либерализм, консерватизм, социализм – консерватизм всегда оставался наиболее слабым и неочевидным звеном.
Консерваторы были, как правило, весьма скупы на артикуляцию оснований собственного мировоззрения. Что уж говорить об оппонентах. Они всегда были склонны относиться к консерваторам как к так называемым «неигровым персонажам» в компьютерных играх или карикатурным антагонистам из кино. Подчас опасным, но
лишенным проработанных личностных оснований.
Хорошей иллюстрацией этого отношения является портрет Константина Победоносцева кисти Ильи Репина, известного своими левыми убеждениями. Перед нами – безликий (с размытым лицом, как у Воландеморта) и абстрактно-неприятный человек. Абстрактно – именно в том смысле, что антипатия художника к объекту не «цепляется» за какие бы то ни было индивидуальные, личностные черты. Обычно в сильной неприязни,
тем более, ненависти заключен момент признания индивидуальности объекта: ненавидящий не просто хорошо знает, но остро чувствует и переживает индивидуальность ненавидимого. Одновременно отрицать объект и отрицать его индивидуальность, конкретность – сложно. Но взгляд автора стремится именно к этому, и ему это удается. Работа, несомненно, сильная, но представляет собой не столько портрет, сколько
автопортрет стереотипов художника.
Это стереотипы очень многих «прогрессивно мыслящих» (и, как правило, гораздо более чувствующих, чем мыслящих) людей. Им свойственно думать, что человек, отвергающий их идеалы, делает это не в силу иной личностно заостренной и проработанной мировоззренческой позиции, а скорее в силу дефицита подлинной
индивидуальности, личностной травмы или просто ограниченности.
Как пишет автор книги «Реакционный дух» Кори Робин, «либеральные авторы всегда изображают правых политиков как эмоциональное болото, а не как движение с твердыми убеждениями: по утверждению Томаса Пейна, контрреволюция влечет за собой «уничтожение знания» (в том числе, как можно предположить, – знания о себе самой –
М.Р.); Лайонел Триллинг описывал американский консерватизм как смесь «раздраженных психических жестикуляций, пытающихся походить на идеи». [37, c. 54]
Квинтэссенцией подобных стереотипов является само слово «реакция», как наиболее распространенная характеристика консервативных убеждений.
Пренебрежительный подтекст этого определения – не в указании на их зловеще-антипрогрессивный, а на их заведомо вторичный и ситуативный характер.
Иногда такой взгляд на консерватизм принимают и сами консерваторы, в том числе весьма проницательные.
М.Р.); Лайонел Триллинг описывал американский консерватизм как смесь «раздраженных психических жестикуляций, пытающихся походить на идеи». [37, c. 54]
Квинтэссенцией подобных стереотипов является само слово «реакция», как наиболее распространенная характеристика консервативных убеждений.
Пренебрежительный подтекст этого определения – не в указании на их зловеще-антипрогрессивный, а на их заведомо вторичный и ситуативный характер.
Иногда такой взгляд на консерватизм принимают и сами консерваторы, в том числе весьма проницательные.
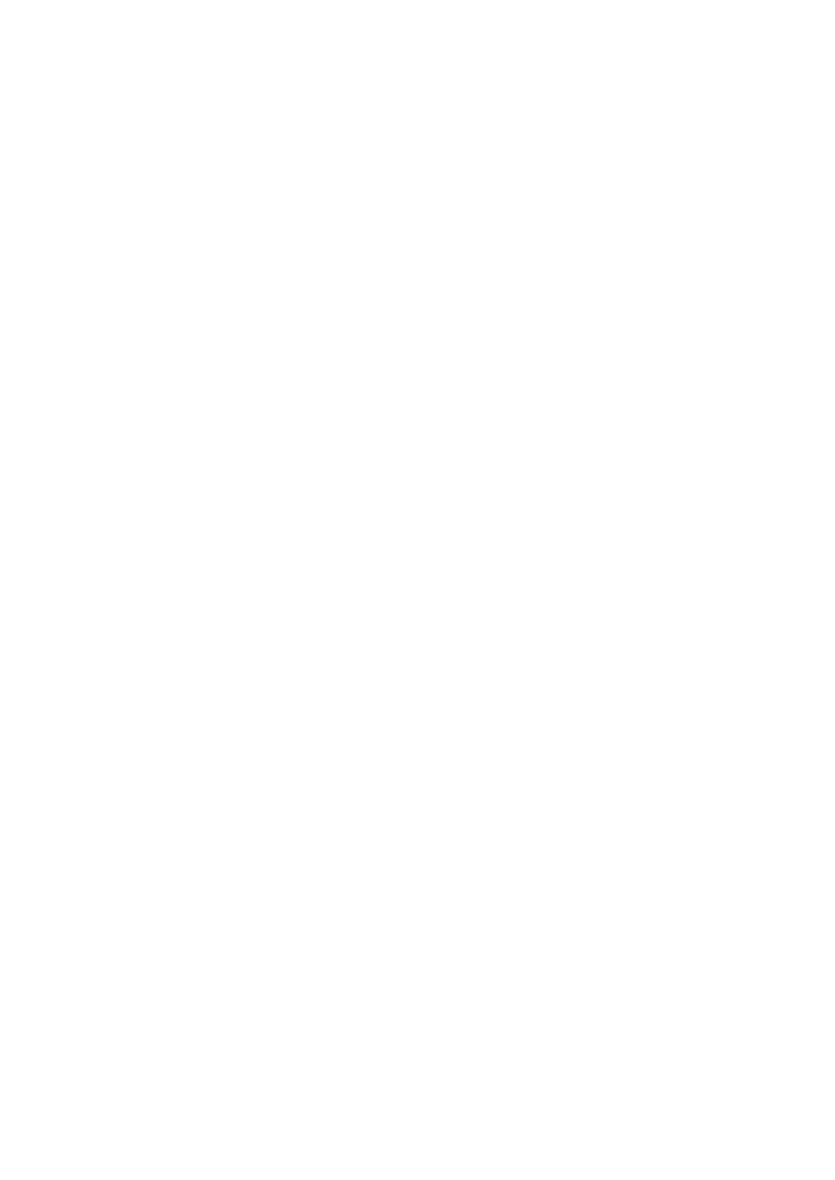
Иногда такой взгляд на консерватизм принимают и сами консерваторы, в том числе весьма проницательные.
Известна позиция Сэмюэля Хантигнтона о том, что «консерватизм, поборник традиции, сам по себе традиции не имеет». [45, с. 245] Он просто выступает в защиту существующих общественных институтов, когда они оказываются под угрозой. Такие исторические ситуации могут быть сколь угодно разнообразны.
Институциональные порядки разных эпох и стран слишком различны, чтобы линии их защиты складывались в единую традицию. Хантингтон называет такое понимание консерватизма «ситуационным».
Вместе с тем, он подчеркивает, что это не повод приуменьшать значимость консерватизма – он «служит интеллектуальным обоснованием неизменных институциональных условий человеческого существования». [45, с. 237]
Уже в этой, вполне уместной, оговорке автор наталкивается на контраргумент к собственному тезису о невозможности традиции консервативной мысли. Контраргумент не единственный, но наиболее очевидный. Он состоит в том, что в структуре «консервативных ситуаций» (тех ответов на вызовы установленному общественному порядку, которые даются в различных исторических контекстах) наверняка есть нечто общее, причем существенно общее. И это нечто вполне может стать предметным полем для развития самостоятельной традиции мысли.
Этот вывод, рассуждая вслед за Хантингтоном, делает Ганс-Клаус Кальтербруннер. Он говорит о том, что, если существует ситуативный консерватизм, отстаивающий «здесь и сейчас» поставленные под удар общественные институты, то возможен и даже необходим «трансцендентально-социологический» консерватизм, ставящий вопрос «об основополагающих предпосылках всех исторических и существующих порядков человеческого общежития» и об общих условиях развития без катастроф. [18, с. 41]
Однако помимо базовых предпосылок общественного порядка, важным предметом такого рода традиции мысли могли бы быть предпосылки самой потребности «защищать» его перед лицом вызовов и угроз.
Понятно, что охранительная установка может быть обусловлена социальными интересами. Но этого недостаточно для ее понимания. У политических идей есть еще и экзистенциальная сторона. Они должны быть не только оценены в контексте социально-групповых интересов, но и поняты в контексте первичного, базового восприятия мира и себя в мире. В контексте того, что можно назвать «первичной реакцией на бытие».
Слово «мировоззрение» удобно именно тем, что оно позволяет объединить эту первичную, дорефлексивную реакцию на бытие как своего рода зерно, из которого мировоззрение вырастает, с самыми сложными формами рефлексии и интеллектуальными концепциями, в которых оно закрепляется и, в определенном смысле, отчуждается.
Известна позиция Сэмюэля Хантигнтона о том, что «консерватизм, поборник традиции, сам по себе традиции не имеет». [45, с. 245] Он просто выступает в защиту существующих общественных институтов, когда они оказываются под угрозой. Такие исторические ситуации могут быть сколь угодно разнообразны.
Институциональные порядки разных эпох и стран слишком различны, чтобы линии их защиты складывались в единую традицию. Хантингтон называет такое понимание консерватизма «ситуационным».
Вместе с тем, он подчеркивает, что это не повод приуменьшать значимость консерватизма – он «служит интеллектуальным обоснованием неизменных институциональных условий человеческого существования». [45, с. 237]
Уже в этой, вполне уместной, оговорке автор наталкивается на контраргумент к собственному тезису о невозможности традиции консервативной мысли. Контраргумент не единственный, но наиболее очевидный. Он состоит в том, что в структуре «консервативных ситуаций» (тех ответов на вызовы установленному общественному порядку, которые даются в различных исторических контекстах) наверняка есть нечто общее, причем существенно общее. И это нечто вполне может стать предметным полем для развития самостоятельной традиции мысли.
Этот вывод, рассуждая вслед за Хантингтоном, делает Ганс-Клаус Кальтербруннер. Он говорит о том, что, если существует ситуативный консерватизм, отстаивающий «здесь и сейчас» поставленные под удар общественные институты, то возможен и даже необходим «трансцендентально-социологический» консерватизм, ставящий вопрос «об основополагающих предпосылках всех исторических и существующих порядков человеческого общежития» и об общих условиях развития без катастроф. [18, с. 41]
Однако помимо базовых предпосылок общественного порядка, важным предметом такого рода традиции мысли могли бы быть предпосылки самой потребности «защищать» его перед лицом вызовов и угроз.
Понятно, что охранительная установка может быть обусловлена социальными интересами. Но этого недостаточно для ее понимания. У политических идей есть еще и экзистенциальная сторона. Они должны быть не только оценены в контексте социально-групповых интересов, но и поняты в контексте первичного, базового восприятия мира и себя в мире. В контексте того, что можно назвать «первичной реакцией на бытие».
Слово «мировоззрение» удобно именно тем, что оно позволяет объединить эту первичную, дорефлексивную реакцию на бытие как своего рода зерно, из которого мировоззрение вырастает, с самыми сложными формами рефлексии и интеллектуальными концепциями, в которых оно закрепляется и, в определенном смысле, отчуждается.
Архетип сохранения мира
Попытки экзистенциального анализа охранительной установки в большинстве случаев будут сведены к нарративу ограниченности. Ограниченности, проявлениями которой может быть страх перед переменами, свойственный человеческим существам, или узость мышления, о которой пишет Мангейм применительно к бюрократической картине мире («чиновник отождествляет позитивный порядок, предписанный конкретным законом, с порядком как таковым и не понимает того, что любой рационализированный порядок есть не что иное, как… компромисс между метарациональными борющимися в данном пространстве силами» [23, с. 102-103]). В этом же ряду – «леность и трусость», которые, по Канту, удерживают людей от «публичного пользования собственным разумом», [19, с. 116-117] которое, в свою очередь, понимается им как залог способности ставить под вопрос конкретные порядки с позиций абстрактного взгляда из ниоткуда. [19, с. 117-118]
Все это, опять же, – вариации на тему неигровых персонажей. Мировоззренческая основа консервативной позиции воспринимается здесь не как цельный и последовательный жизненный выбор, совершаемый в самом средоточии человеческой личности, а как внутренняя неспособность к такому выбору.
По сути своей, такое истолкование оснований политического мировоззрения недостойно.
Недостойно, если консерваторы – это ваши враги. Поскольку способность к пониманию врага в его внутренних глубинных основаниях является критерием крепости – продуманности и резистентности – вашего собственного кредо.
И вдвойне недостойно, если это вы сами. Увы, слишком многие консерваторы стихийно, подспудно принимают и поддерживают этот нарратив ограниченности.
Но как мог бы выглядеть иной взгляд на основания консервативной позиции? Взгляд, который выражал бы ее в категориях экзистенциального кредо?
Пожалуй, самое красивое выражение этого кредо принадлежит Ницше: «Моя формула величия в человеке — amor fati: желать, чтобы ничто не менялось ни в прошлом, ни в будущем, ни в вечности. Не просто терпеть то, что необходимо... но любить это». [34, с. 721]
«Amor fati», действительно, находится где-то в средоточии консервативных представлений о достоинстве человека. И это словосочетание можно принять как одно из имен для архетипа «сохранения мира».
Однако формула, предложенная Ницше, слишком созерцательна для того, чтобы она могла служить формулой политического мировоззрения. В ней не хватает действия, не хватает борьбы. При этом, очевидно, что тому человеческому типу, о котором говорит Ницше, жизнь непременно предоставит для борьбы достаточно поводов: склонность любить и ценить существующее обостряется и становится доминантой поведения, когда существующее оказывается под угрозой и просит защиты.
В этом отношении отправная точка Хантингтона верна: защита существующих институтов, когда они оказываются под угрозой. Я говорю лишь о необходимости поставить в центр внимания саму экзистенциальную потребность в такой защите. Давайте примем предположение, что эта простая человеческая потребность «встать на страже своего мира» является экзистенциальным ядром консервативной позиции.
Вопрос в том, будет ли достаточно такой абстрактной точки отсчета для того, чтобы выстроить вокруг нее контуры политического мировоззрения. Последнее должно быть, во-первых, достаточно комплексным. И, во-вторых, должно быть внутренне полемичным (то есть выстраиваться в конфликтном соотнесении с другими подходами), поскольку все политические понятия в корне своем полемичны, как напомнит Карл Шмитт.
Не является ли эта установка слишком банальной и общезначимой?
Я полагаю, что нет. Во многих случаях она отнюдь не является единственно возможным или даже наиболее вероятным выбором. В ситуации кризиса институционального порядка людьми часто овладевают совсем иные чувства. Например, надежда на «новый и лучший мир» или ненависть к «насквозь прогнившему» старому порядку.
Установка на сохранение мира не только не общезначима, но и не так проста, как может показаться.
В дальнейшем изложении я постараюсь показать, что она многослойна, то есть может по-разному реализовываться и раскрываться на разных уровнях, от бытового до религиозно-метафизического. Это делает ее достаточно комплексной, чтобы служить основой политического мировоззрения.
И на каждом из этих уровней она сталкивается со своей не только теоретической, но и практической противоположностью, что придает основанному на ней мировоззрению собственно политический характер:
Попытки экзистенциального анализа охранительной установки в большинстве случаев будут сведены к нарративу ограниченности. Ограниченности, проявлениями которой может быть страх перед переменами, свойственный человеческим существам, или узость мышления, о которой пишет Мангейм применительно к бюрократической картине мире («чиновник отождествляет позитивный порядок, предписанный конкретным законом, с порядком как таковым и не понимает того, что любой рационализированный порядок есть не что иное, как… компромисс между метарациональными борющимися в данном пространстве силами» [23, с. 102-103]). В этом же ряду – «леность и трусость», которые, по Канту, удерживают людей от «публичного пользования собственным разумом», [19, с. 116-117] которое, в свою очередь, понимается им как залог способности ставить под вопрос конкретные порядки с позиций абстрактного взгляда из ниоткуда. [19, с. 117-118]
Все это, опять же, – вариации на тему неигровых персонажей. Мировоззренческая основа консервативной позиции воспринимается здесь не как цельный и последовательный жизненный выбор, совершаемый в самом средоточии человеческой личности, а как внутренняя неспособность к такому выбору.
По сути своей, такое истолкование оснований политического мировоззрения недостойно.
Недостойно, если консерваторы – это ваши враги. Поскольку способность к пониманию врага в его внутренних глубинных основаниях является критерием крепости – продуманности и резистентности – вашего собственного кредо.
И вдвойне недостойно, если это вы сами. Увы, слишком многие консерваторы стихийно, подспудно принимают и поддерживают этот нарратив ограниченности.
Но как мог бы выглядеть иной взгляд на основания консервативной позиции? Взгляд, который выражал бы ее в категориях экзистенциального кредо?
Пожалуй, самое красивое выражение этого кредо принадлежит Ницше: «Моя формула величия в человеке — amor fati: желать, чтобы ничто не менялось ни в прошлом, ни в будущем, ни в вечности. Не просто терпеть то, что необходимо... но любить это». [34, с. 721]
«Amor fati», действительно, находится где-то в средоточии консервативных представлений о достоинстве человека. И это словосочетание можно принять как одно из имен для архетипа «сохранения мира».
Однако формула, предложенная Ницше, слишком созерцательна для того, чтобы она могла служить формулой политического мировоззрения. В ней не хватает действия, не хватает борьбы. При этом, очевидно, что тому человеческому типу, о котором говорит Ницше, жизнь непременно предоставит для борьбы достаточно поводов: склонность любить и ценить существующее обостряется и становится доминантой поведения, когда существующее оказывается под угрозой и просит защиты.
В этом отношении отправная точка Хантингтона верна: защита существующих институтов, когда они оказываются под угрозой. Я говорю лишь о необходимости поставить в центр внимания саму экзистенциальную потребность в такой защите. Давайте примем предположение, что эта простая человеческая потребность «встать на страже своего мира» является экзистенциальным ядром консервативной позиции.
Вопрос в том, будет ли достаточно такой абстрактной точки отсчета для того, чтобы выстроить вокруг нее контуры политического мировоззрения. Последнее должно быть, во-первых, достаточно комплексным. И, во-вторых, должно быть внутренне полемичным (то есть выстраиваться в конфликтном соотнесении с другими подходами), поскольку все политические понятия в корне своем полемичны, как напомнит Карл Шмитт.
Не является ли эта установка слишком банальной и общезначимой?
Я полагаю, что нет. Во многих случаях она отнюдь не является единственно возможным или даже наиболее вероятным выбором. В ситуации кризиса институционального порядка людьми часто овладевают совсем иные чувства. Например, надежда на «новый и лучший мир» или ненависть к «насквозь прогнившему» старому порядку.
Установка на сохранение мира не только не общезначима, но и не так проста, как может показаться.
В дальнейшем изложении я постараюсь показать, что она многослойна, то есть может по-разному реализовываться и раскрываться на разных уровнях, от бытового до религиозно-метафизического. Это делает ее достаточно комплексной, чтобы служить основой политического мировоззрения.
И на каждом из этих уровней она сталкивается со своей не только теоретической, но и практической противоположностью, что придает основанному на ней мировоззрению собственно политический характер:
- банальная склонность ценить привычный порядок вещей раскрывается в противовес ненасытному культу новизны, владеющему современной эпохой;
- мужество «принятия мира таким, каков он есть», утверждается в противовес стремлению утопистов фундаментально «изменить мир»;
- приверженность гражданскому миру и порядку заявляет о себе в противовес хаосу революции и непримиримому духу религиозных гражданских войн;
- поддержка социальных «норм» и самой «нормальности» (бытовая проекция того, что социологи называют «номосом» общества) становится актуальной на фоне наступления (как стихийных, так и сознательных) сил аномии;
- наконец, само ощущение мира как «своего» пространства, как дома (лежащее в основе готовности «защищать» его) обостряется при контакте с проявлениями того, что можно назвать «комплексом чужака», коренящегося в мировоззрениях гностического толка (воспринимающих окружающий мир как заведомо чуждый и враждебный и культивирующих чувство избранности на этой почве).
Преимущество больших сюжетов
Я исхожу из предположения, что установка на «сохранение мира» является сквозной мировоззренческой предпосылкой конкретных исторических ситуаций «защиты порядка». Что она существует где-то «на глубине», в зоне «политического бессознательного», но само ее наличие, возможность ее анализа и самоанализа – все это делает консерватизм определенно чем-то большим, чем ситуативная позиция. Делает его чем-то «вечным». Разумеется, не в смысле претенциозных «вечных ценностей» – ценности историчны, и кому, как не консерваторам помнить об этом, – а в том смысле, в каком тот же Ницше говорил о «надисторических людях», которые в «видимом многообразии» исторических явлений усматривают «постоянное повторение непреходящих типов». [33, с. 167] Наверное, это могло бы служить наиболее вменяемым – историческим, а не метафизическим – пониманием «вечного возвращения»: способность к обнаружению устойчивых структур, которые активируются в схожих ситуациях. В их числе – мировоззренческие паттерны, которые связаны с формами и условиями человеческого существования достаточно устойчивыми для того, чтобы их можно было считать условно неизменными применительно к наблюдаемым циклам исторической конъюнктуры.
Впрочем, последние также имеют очень разную длину. Понимание этого обстоятельства – еще один контраргумент к «ситуационному» определению консерватизма как идеологии, лишенной своей традиции.
«Ситуации», внутри которых возникает консервативная реакция, могут иметь как короткую, так и длительную историческую протяженность. Иными словами, «структуры порядка», становящиеся объектом консервативной защиты, могут быть заданы в разном концептуальном и историческом масштабе.
Одни и те же исторические обстоятельства могут быть прочитаны по-разному исходя из того, в сюжет какого масштаба они будут вписаны.
Скажем, тот же Хантингтон считает политически нерелевантным классическое – наиболее полно развитое у Мангейма – понимание консерватизма как аристократической реакции на Просвещение и Французскую революцию. Просто на том, основании, что феодальной аристократии как таковой уже давно больше нет. Но идеология мертвого класса – не обязательно мертвая идеология.
Если реакция на Просвещение и Французскую революцию есть определяющая ситуация для современного консерватизма, то вполне возможно дать такое определение самой этой ситуации, при котором она будет абсолютно актуальна по сей день.
Собственно, именно такое определение дают ей склонные к исторической рефлексии революционеры. Концепцию перманентной революции вводит в середине XIX века Прудон как идею, что «нет отдельных революций, но только одна и та же беспрерывная революция». [2, с. 63] И очевидно, что объектом этой революции являются не отжившие свой век «феодальные привилегии», которые к тому моменту уже давно не воспринимались как главный враг, но лишь как преходящая форма инвариантных «структур порядка» («господства», «эксплуатации», «отчуждения» и т.п.), которые перманентная революция должна сокрушить. Французская революция была лишь эпизодом революции длиной в эпоху.
Я исхожу из предположения, что установка на «сохранение мира» является сквозной мировоззренческой предпосылкой конкретных исторических ситуаций «защиты порядка». Что она существует где-то «на глубине», в зоне «политического бессознательного», но само ее наличие, возможность ее анализа и самоанализа – все это делает консерватизм определенно чем-то большим, чем ситуативная позиция. Делает его чем-то «вечным». Разумеется, не в смысле претенциозных «вечных ценностей» – ценности историчны, и кому, как не консерваторам помнить об этом, – а в том смысле, в каком тот же Ницше говорил о «надисторических людях», которые в «видимом многообразии» исторических явлений усматривают «постоянное повторение непреходящих типов». [33, с. 167] Наверное, это могло бы служить наиболее вменяемым – историческим, а не метафизическим – пониманием «вечного возвращения»: способность к обнаружению устойчивых структур, которые активируются в схожих ситуациях. В их числе – мировоззренческие паттерны, которые связаны с формами и условиями человеческого существования достаточно устойчивыми для того, чтобы их можно было считать условно неизменными применительно к наблюдаемым циклам исторической конъюнктуры.
Впрочем, последние также имеют очень разную длину. Понимание этого обстоятельства – еще один контраргумент к «ситуационному» определению консерватизма как идеологии, лишенной своей традиции.
«Ситуации», внутри которых возникает консервативная реакция, могут иметь как короткую, так и длительную историческую протяженность. Иными словами, «структуры порядка», становящиеся объектом консервативной защиты, могут быть заданы в разном концептуальном и историческом масштабе.
Одни и те же исторические обстоятельства могут быть прочитаны по-разному исходя из того, в сюжет какого масштаба они будут вписаны.
Скажем, тот же Хантингтон считает политически нерелевантным классическое – наиболее полно развитое у Мангейма – понимание консерватизма как аристократической реакции на Просвещение и Французскую революцию. Просто на том, основании, что феодальной аристократии как таковой уже давно больше нет. Но идеология мертвого класса – не обязательно мертвая идеология.
Если реакция на Просвещение и Французскую революцию есть определяющая ситуация для современного консерватизма, то вполне возможно дать такое определение самой этой ситуации, при котором она будет абсолютно актуальна по сей день.
Собственно, именно такое определение дают ей склонные к исторической рефлексии революционеры. Концепцию перманентной революции вводит в середине XIX века Прудон как идею, что «нет отдельных революций, но только одна и та же беспрерывная революция». [2, с. 63] И очевидно, что объектом этой революции являются не отжившие свой век «феодальные привилегии», которые к тому моменту уже давно не воспринимались как главный враг, но лишь как преходящая форма инвариантных «структур порядка» («господства», «эксплуатации», «отчуждения» и т.п.), которые перманентная революция должна сокрушить. Французская революция была лишь эпизодом революции длиной в эпоху.
Так определяют ситуацию широко мыслящие революционеры. Вопрос в том, чтобы и те, кто им противостоит, могли располагать соразмерным масштабом, были способны мыслить эпохами, а не только локальными ситуациями.
В конечном счете, это вопрос эффективности в идеологическом противоборстве. У «больших сюжетов» есть такое же преимущество, как у «больших батальонов». Та сторона, которая видит конфликт слишком узко, интеллектуально проигрывает. Разумеется, конкретное противоборство «здесь и сейчас» всегда имеет исключительно важное значение, но в истории нет окончательных побед и поражений. И чтобы обрести в ней длинную волю, нужно иметь долгую память. Преимуществом обладает та сторона, которая способна определять и переопределять контекст, в котором разыгрывается конфликт. Которая способна играть с эффектом масштаба.
В конечном счете, это вопрос эффективности в идеологическом противоборстве. У «больших сюжетов» есть такое же преимущество, как у «больших батальонов». Та сторона, которая видит конфликт слишком узко, интеллектуально проигрывает. Разумеется, конкретное противоборство «здесь и сейчас» всегда имеет исключительно важное значение, но в истории нет окончательных побед и поражений. И чтобы обрести в ней длинную волю, нужно иметь долгую память. Преимуществом обладает та сторона, которая способна определять и переопределять контекст, в котором разыгрывается конфликт. Которая способна играть с эффектом масштаба.
Между прочим, это хорошо видно на примере того исторического момента, в котором сам Хантингтон формулировал свое понимание консерватизма. Его статья «Консерватизм как идеология» написана в 1957 году, и понятен контекст, в котором размышляет автор. Это советская угроза, «нависшая» над миром либеральных институтов. «Сегодня единственной угрозой достаточно масштабной и глубокой, чтобы вызвать консервативный ответ, является вызов коммунизма и Советского Союза», [45, с. 249] - пишет он в конце статьи.
Таким образом, Хантигнтон рассуждает о консерватизме во вполне определенной исторической ситуации. Ситуации достаточно острой и специфичной для того, чтобы в определенном смысле замыкать его горизонт восприятия и создавать у автора ощущение неуместности размышлений о консерватизме вне актуального исторического контекста – контекста Холодной войны двух идеологических систем.
Но именно в этом согласии на замыкание горизонта автору изменяет историческое чутье. К моменту написания статьи уже изданы программные мировоззренческие работы Франкфуртской школы, которые прорастут ядовитыми всходами к концу 1960-х гг. Война устоям западной цивилизации уже объявлена изнутри, и эти устои «внутренним врагом» понимаются гораздо более глубоко и радикально, чем внешним. Ему малоинтересны противоречия капиталистической и социалистической версий индустриального общества. Ему интересно уничтожение «патриархальной цивилизации», основанной на фигуре «отца» и «акте индивидуализации» человека, лежащего в основе «репрессивной» структуры реальности, установленной в этой цивилизации («пробуждение субъекта куплено ценой признания власти как принципа всех отношений», [46, с. 22] - пишут Адорно и Хоркхаймер).
Понятно, что на фоне, например, недавно завершившейся корейской войны все это можно было воспринять как трескотню интеллектуалов, не имеющую никакого значения для реальной истории. Но разве сегодня, спустя несколько десятилетий, война, объявленная «патриархальной цивилизации», уже не кажется чем-то вполне реальным? И если эта война ведется людьми, способными мыслить тысячелетиями (или, как они сами любят говорить, умеющими мыслить глобально, а действовать локально), то почему их оппоненты должны быть «консерваторами одного часа», неспособными видеть себя, своих друзей и врагов за пределами текущей ситуации?
Это именно та черта, из-за которой консерваторы становятся «неигровыми персонажами» исторических игр. Чтобы способствовать преодолению этого амплуа, стоит присмотреться к той «генеративной модели», которая стоит за поведением консервативных персонажей в истории. Мы приняли гипотезу, что она связана с неким мировоззренческим паттерном, «архетипом сохранения», который обнаруживается за конкретными ситуациями «защиты порядка». Попробуем рассмотреть его подробнее.
Сила привычки
Консервативная установка на «сохранение мира», как уже было сказано, многослойна. Ее воссоздание логично начать с того, что лежит на поверхности. А «на поверхности», как правило, лежит «повседневность», значение которой для социальных миров никогда нельзя недооценивать.
В повседневной плоскости интересующая нас установка проявляется как стремление к сохранению привычного мира, склонность ценить сложившийся порядок вещей. Мангейм называет эту установку «традиционалистской». В этом наименовании нет претензии на сколько-нибудь глубокое и систематическое истолкование понятия традиции. Нет особенной глубины и в самой этой установке. Она представляет собой скорее психологическую склонность, чем жизненные убеждения. Мангейм говорит в этой связи о «тенденции к сохранению старых образцов», представляющей собой «начальную стадию реакции на сознательные реформаторские тенденции», [24, с. 593] но остающуюся на уровне «практически чистой серии реакции на раздражители». [24, с. 596]
На этом уровне существует банальный консерватизм, манифестом которого является известное эссе Майкла Оукшота «Что значит быть консерватором?»: «быть консерватором – значит предпочитать знакомое неизведанному, опробованное неопробованному, факт загадке, действительное возможному, ограниченное безграничному, близкое далекому, достаток изобилию, просто удобное совершенному, радость сегодняшнего дня блаженству, обещанному где-то в утопическом будущем». [36, с. 66]
Это кредо выглядит не слишком ярко, как признает сам Оукшот, но в нем есть зерно целостного мировоззрения.
«Консерватизм привычки» не так прост, как может показаться, поскольку в самой привычке есть нечто «мирообразующее». Привычка – это молекула социальной ткани. Питер Бергер и Томас Лукман в «Социальном конструировании реальности» описывают «хабитуализацию» как первый этап «институционализации». Прежде, чем стать институтами (оплотами социальной реальности), поведенческие схемы типизируются и превращаются в привычку («институционализация имеет место везде, где осуществляется взаимная типизация опривыченных действий»). [6, с. 91-92]
«Человек привычки», таким образом, является стихийным стражем социального порядка на молекулярном уровне. Именно поэтому Мангейм отмечает, что «источник движения в самом сердце консервативной мысли, несомненно, связан с чем-то, что мы назвали традиционализмом». [24, с. 601]
Этот внутренний источник движения запускается через рефлексию условий порядка в ситуации, когда привычный порядок разрушается. Разрушается революционными катастрофами, как это было в эпоху, когда консерватизм заявил о себе в истории политических идей. Или просто фетишем бесконечного обновления.
Консерватизм жизненного уклада противостоит тому, что Марк Аврелий называл «безвкусной погоней за новизной». [1, с. 52]
Речь не о том, чтобы всегда отвергать все новое. Но о склонности скептически относиться к претензии на новизну («все новое – хорошо забытое старое»). Враждебно – к попыткам подкрепить эту претензию через разрыв со всем «старым». И презрительно – к предпосылке о том, что новое значит лучшее.
Сам Марк Аврелий вполне определенно выражает эти склонности, они идут лейтмотивом в его дневнике. И у него есть еще один лейтмотив, который переводит нас на второй уровень консервативной мировоззренческой установки: мужество принять мир таким, каков он есть.
Таким образом, Хантигнтон рассуждает о консерватизме во вполне определенной исторической ситуации. Ситуации достаточно острой и специфичной для того, чтобы в определенном смысле замыкать его горизонт восприятия и создавать у автора ощущение неуместности размышлений о консерватизме вне актуального исторического контекста – контекста Холодной войны двух идеологических систем.
Но именно в этом согласии на замыкание горизонта автору изменяет историческое чутье. К моменту написания статьи уже изданы программные мировоззренческие работы Франкфуртской школы, которые прорастут ядовитыми всходами к концу 1960-х гг. Война устоям западной цивилизации уже объявлена изнутри, и эти устои «внутренним врагом» понимаются гораздо более глубоко и радикально, чем внешним. Ему малоинтересны противоречия капиталистической и социалистической версий индустриального общества. Ему интересно уничтожение «патриархальной цивилизации», основанной на фигуре «отца» и «акте индивидуализации» человека, лежащего в основе «репрессивной» структуры реальности, установленной в этой цивилизации («пробуждение субъекта куплено ценой признания власти как принципа всех отношений», [46, с. 22] - пишут Адорно и Хоркхаймер).
Понятно, что на фоне, например, недавно завершившейся корейской войны все это можно было воспринять как трескотню интеллектуалов, не имеющую никакого значения для реальной истории. Но разве сегодня, спустя несколько десятилетий, война, объявленная «патриархальной цивилизации», уже не кажется чем-то вполне реальным? И если эта война ведется людьми, способными мыслить тысячелетиями (или, как они сами любят говорить, умеющими мыслить глобально, а действовать локально), то почему их оппоненты должны быть «консерваторами одного часа», неспособными видеть себя, своих друзей и врагов за пределами текущей ситуации?
Это именно та черта, из-за которой консерваторы становятся «неигровыми персонажами» исторических игр. Чтобы способствовать преодолению этого амплуа, стоит присмотреться к той «генеративной модели», которая стоит за поведением консервативных персонажей в истории. Мы приняли гипотезу, что она связана с неким мировоззренческим паттерном, «архетипом сохранения», который обнаруживается за конкретными ситуациями «защиты порядка». Попробуем рассмотреть его подробнее.
Сила привычки
Консервативная установка на «сохранение мира», как уже было сказано, многослойна. Ее воссоздание логично начать с того, что лежит на поверхности. А «на поверхности», как правило, лежит «повседневность», значение которой для социальных миров никогда нельзя недооценивать.
В повседневной плоскости интересующая нас установка проявляется как стремление к сохранению привычного мира, склонность ценить сложившийся порядок вещей. Мангейм называет эту установку «традиционалистской». В этом наименовании нет претензии на сколько-нибудь глубокое и систематическое истолкование понятия традиции. Нет особенной глубины и в самой этой установке. Она представляет собой скорее психологическую склонность, чем жизненные убеждения. Мангейм говорит в этой связи о «тенденции к сохранению старых образцов», представляющей собой «начальную стадию реакции на сознательные реформаторские тенденции», [24, с. 593] но остающуюся на уровне «практически чистой серии реакции на раздражители». [24, с. 596]
На этом уровне существует банальный консерватизм, манифестом которого является известное эссе Майкла Оукшота «Что значит быть консерватором?»: «быть консерватором – значит предпочитать знакомое неизведанному, опробованное неопробованному, факт загадке, действительное возможному, ограниченное безграничному, близкое далекому, достаток изобилию, просто удобное совершенному, радость сегодняшнего дня блаженству, обещанному где-то в утопическом будущем». [36, с. 66]
Это кредо выглядит не слишком ярко, как признает сам Оукшот, но в нем есть зерно целостного мировоззрения.
«Консерватизм привычки» не так прост, как может показаться, поскольку в самой привычке есть нечто «мирообразующее». Привычка – это молекула социальной ткани. Питер Бергер и Томас Лукман в «Социальном конструировании реальности» описывают «хабитуализацию» как первый этап «институционализации». Прежде, чем стать институтами (оплотами социальной реальности), поведенческие схемы типизируются и превращаются в привычку («институционализация имеет место везде, где осуществляется взаимная типизация опривыченных действий»). [6, с. 91-92]
«Человек привычки», таким образом, является стихийным стражем социального порядка на молекулярном уровне. Именно поэтому Мангейм отмечает, что «источник движения в самом сердце консервативной мысли, несомненно, связан с чем-то, что мы назвали традиционализмом». [24, с. 601]
Этот внутренний источник движения запускается через рефлексию условий порядка в ситуации, когда привычный порядок разрушается. Разрушается революционными катастрофами, как это было в эпоху, когда консерватизм заявил о себе в истории политических идей. Или просто фетишем бесконечного обновления.
Консерватизм жизненного уклада противостоит тому, что Марк Аврелий называл «безвкусной погоней за новизной». [1, с. 52]
Речь не о том, чтобы всегда отвергать все новое. Но о склонности скептически относиться к претензии на новизну («все новое – хорошо забытое старое»). Враждебно – к попыткам подкрепить эту претензию через разрыв со всем «старым». И презрительно – к предпосылке о том, что новое значит лучшее.
Сам Марк Аврелий вполне определенно выражает эти склонности, они идут лейтмотивом в его дневнике. И у него есть еще один лейтмотив, который переводит нас на второй уровень консервативной мировоззренческой установки: мужество принять мир таким, каков он есть.
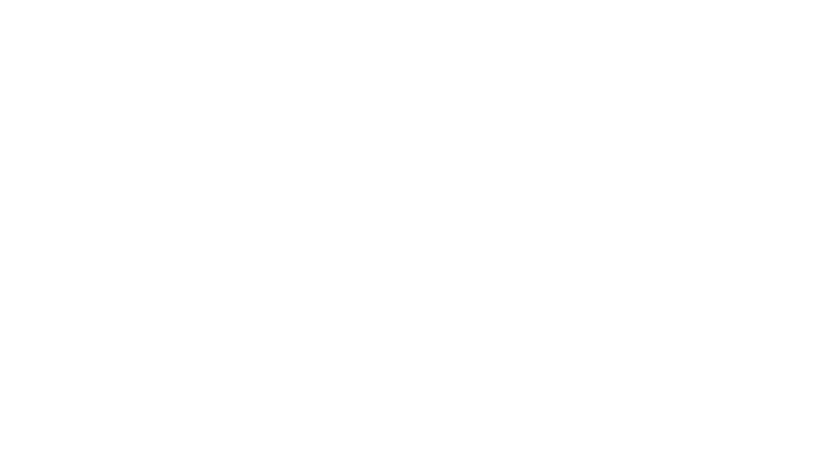
Обаяние «жестоких фактов»
Как гласит 11-й тезис Маркса о Фейербахе: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». [26, с. 4] Это точный мировоззренческий антоним к той установке на принятие мира, о которой мы говорим.
Изменить мир в том смысле, который подразумевается в афоризме Маркса, – значит изменить мир в его основах: создать мир «обобществившегося человечества» (термин из 10-го тезиса). Мир без эксплуатации, мир без господства, мир без политического насилия.
Принять мир, в противовес этому стремлению, – значит принять мир в его фундаментальной конфликтной разделенности. В его извечном гераклитовском облике: «Война – отец всех, царь всех», «все возникает через вражду и взаимообразно» [44, с. 201-202].
Идея мирпорождающей вражды отчетливо выражена в античной теогонии и космогонии: мир как космос буквально отвоеван у хаоса; олимпийские боги, олицетворяющие мирообразующий, формообразующий принцип, утверждаются перед лицом хтонических, титанических сил, которые могут быть лишь на время «локализованы» (в Тартаре), но не уничтожены.
Эта идея идет рука об руку с ощущением хрупкости порядка. Война с хаосом, стоящая у истоков мира, может в любой момент возобновиться. Можно сказать, что она – с разной интенсивностью – ведется все время (например, как сдерживание сил хаоса и сил упадка). Поддержание мира как оформленного универсума требует постоянной боеготовности.
Это касается как «мира в целом», так и социальных миров в их конфликтном сосуществовании. «Необходимость «мысленно учитывать возможность войны», – пишет Петер Слотердайк, – составляла в прошедшие тысячелетия твердое… ядро трагического позитивизма», который исходит из того, что «мир надо в первую очередь не интерпретировать и не изменять, а выносить как тяжкое испытание». [39, с. 362]
Слотердайк в этой связи проницательно отмечает, что в сердцевине консервативного сознания лежит особого рода поэтика «суровых фактов», убеждение в первородной жестокости мира. Последняя должна быть достойно принята человеком, поскольку она идет «в комплекте» с гармонией мира и его красотой. И больше того, в чем-то является их условием – поскольку требует от человека и общества быть на высоте и поддерживать себя «в форме».
Сам Слотердайк, как левый философ, с негодованием отворачивается от этого алармистского паттерна, призывая «цивилизацию» к поиску нового, способного продуцировать мир «нежестоких фактов», «трансмилитаристского и постиндустриального принципа реальности». [39, с. 364] Он выражает нечто важное и сокровенное для левого способа переживания мира, когда говорит, что «глубочайшее предназначение прогрессивности» состоит в том, чтобы «стронуть сам принцип реальности с места». [39, с. 360]
В этой развилке – принятие «жестоких фактов» мира или стремление (в той или иной форме, в той или иной перспективе) их «отменить» – есть что-то глубоко безотчетное, связанное именно с первичной реакцией на бытие. Тут бессильны аргументы, это просто разные типы людей.
Армин Молер, говоря о своем обращении к консерватизму, отмечал, что решающую роль для него сыграло обаяние человеческого типа, черты которого он выделял в своем круге общения. Это «скептическая жизнеуверенность, которая, как правило, шла рука об руку с решительным умением жить. Это абсолютное принятие мира «как он есть», без восторга и лишних иллюзий. Страдания, несчастья и человеческие слабости были для них само собой разумеющимися». [30, с. 88-89]
Человек такого склада «осознает всем своим нутром… что не он создал этот мир и что он не в силах изменить его основы. Но он также чувствует, что это не повод для смирения – скорее наоборот». [30, с. 84] Действительно, в консервативной позиции есть как смирение, связанное с пониманием невозможности в корне «изменить мир» и даже, в определенном смысле «нечестивости» такой амбиции, так и гордость, заключенная в способности принять его таким, каков он есть. Способности «выдержать бытие», как говорил Гегель.
Что касается противоположного человеческого типа, то интересную пищу для размышлений дает фантастика. В ней есть сквозной сюжет о пришествии инопланетной расы, качественно превосходящей человечество в сфере науки, техники, «разума». В этой сюжетной схеме люди делятся на «энтузиастов», верящих в сценарий разумной коммуникации, и «реалистов», считающих более вероятным насильственный сценарий.
Например, в фильме «День независимости» зависшую над городом гигантскую летающую тарелку группа энтузиастов встречает на крыше небоскреба с плакатами «добро пожаловать, пришельцы!». К их восторгу, люки космоплана медленно открываются… И – уже к восторгу реалистов по другую сторону экрана – пришельцы начинают уничтожение города именно с этого небоскреба.
Более глубокую проработку тема получает в романе «Задача трех тел» и двух одноименных сериалах. Поскольку событие инопланетного пришествия оказывается известным заранее, но отложенным в далекое будущее, оно запускает сложную социальную динамику. Особенно интересна комбинация мотивов в разных фракциях лагеря «энтузиастов»: это и ненависть к несовершенному человеческому миру; и вера в то, что развитый разум не мог не оставить позади атавистические насильственные формы конфликта; и надежда на возможность начать новую, лучшую эру под руководством более развитых существ. Под воздействием этих мотивов часть землян образует тайное общество, готовящее пришествие «высших существ», с которого начнется «новый мир».
На вкус «реалиста», лагерь «энтузиастов» выглядит отвратительно. Но за ним, несомненно, есть своя логика и своя традиция. В конце концов, представление о том, что «разум» в его высшем развитии не может нести ничего кроме «добра», укоренено в одной из самых сильных человеческих философий – платоновской концепции триединства «Истины», «Блага» и «Красоты».
Будет справедливо сказать, что архетип прогрессисткого преображения мира не менее стар, чем архетип его гераклитовского принятия. Эрнст Юнгер считает, что в определенном смысле он даже «старше», поскольку отсылает к более глубоким пластам «праистории»: «Ее важнейший компонент, ее отличительный признак – вечный мир, вечное счастье. Вот почему она по сей день продолжает существовать под историческим миром, на еще большей глубине, чем миф, чья главная тема – борьба». [54, с. 111]
Но и в мире, где правит борьба, этот архетип не теряется. Он проявляется снова и снова. Например – в виде хилиастических мечтаний. Характерно, что Эрнст Блох, автор одного из самых ярких манифестов утопического мышления «Принцип надежды», включает в генеалогию своих идей проповедника тысячелетнего царства праведников Иоахима Флорского.
Якоб Таубес в «Западной эсхатологии» пишет о важном для средневекового христианства расколе между апокалиптическими движениями с их буквальным пониманием «прихода царства Божия», и официальной Церковью, которая «остается консервативной, если она в той или иной мере принимает земной мир как он есть…». [41, с. 209] Он сетует на «пресное мировое соглашение с окружающим миром», которое заключило оказавшееся под сенью Империи христианство. [41, с. 240] Но, изгнанный из официальной Церкви, хилиастический дух передал эстафету утопизму Нового времени, взорвавшегося бумом левых идеалов.
Уважение к реальности
При всем разнообразии этих идеалов, в их общем знаменателе – представление о привходящем, «снимаемом» характере политического господства, экономической эксплуатации, войны.
У консервативного реализма, противостоящего этому утопическому комплексу, есть парадоксальное свойство. Он не просто констатирует «жестокие факты» мира, он считает важным отдавать им должное. Как если бы реальность нуждалась в человеческом признании и уважении, в надлежащем обращении для того, чтобы «правильно работать». В определенном смысле, так и есть. Эти жестокие факты нуждаются в правильном обращении для того, чтобы общество могло совладать с ними: встроить их в свой институциональный порядок, и тем самым – регламентировать и облагородить.
Это хорошо заметно на примере внешнеполитического реализма. Для которого «баланс сил» является не только описательной моделью, но и регулятивным принципом. Пренебрежение им может приводить не только к ошибкам из-за превратного понимания реальности, но и к весьма отталкивающей деформации самой реальности.
«Реалисты» втайне разделяют взгляд тех утопистов, которые, как тот же Блох, считают утопию действенной силой, способной проникать в ткань действительности и «перекодировать» ее. Но с их точки зрения попытка дезавуировать «жестокие факты» мира приводит не к мировой гармонии, а к онтологической порче.
Попытка отменить национальный эгоизм порождает международную систему, патологически неспособную к урегулированию конфликтов – поскольку они оформляются не в категориях интересов, а в категориях универсальных моральных принципов.
Попытка отменить войну оборачивается не вечным миром, а лишенными благородства силовыми операциями против «изгоев человечества», о которых Шмитт еще в 50-е гг. прошлого века прозорливо напишет, что «повышение эффективности технических средств уничтожения разверзает пропасть столь же уничтожающей по отношению к противнику правовой и моральной дискриминации». [48, с. 474]
Попытка отменить геополитическую конфронтацию, предложив «новое политическое мышление», приводит к растянувшимся на десятилетия конвульсиям насилия на постсоветском пространстве и новой неустойчивости мировой системы, открывшей эпоху более жестоких и опасных войн.
Попытка отменить политическое лидерство, «чреватое диктатурой», придает господству все более анонимные формы, внутри которых даже восстания – логически и технически – невозможны. Как пишет Ханна Арендт, «господство анонимных канцелярий не становится менее деспотичным из-за того, что осуществляется «никем»; напротив, оно скорее еще более ужасно». [4, с. 19]
Попытка отменить эксплуатацию становится знаменем для формирования режима сверхэксплуатации, как это было в первые десятилетия советской экономики.
Попытка разрушить «весь мир насилия», как поется в Интернационале, приводит к разрушению всех барьеров, которые общество выстроило на пути насилия.
Главным из таких барьеров является собственно государственная власть.
Парадокс безопасности
Проблема власти оказывается в фокусе внимания антагонистических мировоззрений. Для одних она является проклятием социального мира, чем-то, что должно быть преодолено или в корне преобразовано. Для других – оплотом порядка против хаоса, проявляющегося в раскрепощенном насилии.
Власть как таковая, несомненно, предполагает потенциал насилия. Но именно потенциал. Раскрепощенное насилие уничтожает власть. Александр Кожев формулирует этот тезис в более жесткой форме: «Употребление власти не только не тождественно использованию силы (насилия), эти два феномена взаимно исключают друг друга». [20, с. 19]
В самом деле, если тот, кто отдает приказ, вынужден применить силу для его исполнения, то это прямое свидетельство того, что он не имеет власти (по отношению к тому, кто был принужден изменить свое поведение лишь через силу). Разумеется, проявлением власти может быть приказ на применение силы. Но этот приказ будет исполнен лишь в том случае, если тот, кто его исполняет, сам принужден не прямым насилием, а признанием полномочий лица, отдавшего этот приказ. Власть – это не сила, а признанное полномочие. Фактор насилия может быть важным контекстом для установления отношений власти. Но власть как таковая – это зона отношений, свободная от насилия, и при этом способная с ним справляться. Это позволяет говорить о власти как о форме систематического ограничения и обуздания насилия, существующего в отношениях между людьми.
В принципе, именно из этого исходит аргументация Гоббса применительно к такой специфической и высшей форме власти, как суверенная власть. Она переводит повсеместное насилие в концентрированное, сокращая его совокупный объем в обществе. Поэтому сделка «защита в обмен на повиновение» выглядит удачной для добропорядочного индивида.
В эту модель не укладывается феномен войны как специфической формы насилия, вызываемой самим существованием государств, на что указывает Гегель: «Существует совершенно превратный расчет, когда при требовании подобных жертв (жертв, связанных с войной – М.Р.) государство рассматривается просто как гражданское общество и его конечной целью считается лишь обеспечение жизни и собственности индивидов, ибо это обеспечение не достигается посредством жертвования тем, что должно быть обеспечено (курсив наш – М.Р.)». [11, с. 359]
Это весомый аргумент против договорной логики Гоббса (сделка «повиновение в обмен на защиту» – недостаточное основание для суверенной власти), но не против тезиса о том, что концентрация насилия в руках суверена сокращает общий объем насилия в обществе.
Даже с учетом того, что государства как таковые склонны вести войны, общества, обладающие полноценной государственностью, в целом более способны к обузданию насилия, чем до- без- и постгосударственные общества (отдельной оговорки заслуживает феномен тотальной войны, о котором пойдет речь ниже).
Характерен в этом отношении так называемый «парадокс безопасности» в Латинской Америке. Будучи регионом с минимальным количеством межгосударственных военных конфликтов и минимальным уровнем военных расходов, этот регион удерживает абсолютное лидерство по количеству насильственных смертей (около 1/3 всех убийств, ежегодно совершаемых в мире, при 2-3% мировых военных расходов). Тем не менее, искренний аффект отторжения у левых утопистов вызывают не уличные банды и наркокартели, а именно суверенная власть.
Это тоже своего рода парадокс, в данном случае моральный. Он связан, конечно, с тем, что, ограничивая и обуздывая насилие, суверенная власть вместе с тем делает его открытым и ответственным: публично-правовым (в лице судебно-полицейских и военных институтов). Тем самым она его нормализует, постулирует как особого рода право. И вдобавок – «увековечивает».
Является ли это приемлемой ценой за обуздание насилия и сокращение его общего объема? Ответ на этот вопрос зависит как раз от фундаментальных мировоззренческих предпосылок. Для того, чтобы принять эту цену, нужно согласиться с тем, что, во-первых, насилие – неотъемлемая часть человеческого мира. И, во-вторых, власть и война – необходимые и законные способы управления им.
Иными словами, нужно осознать, что такие явления, как власть и война – это не источники насилия, а способы его институционализации. И соответственно – регламентации и ограничения. Насилие как «материя», как «стихия» мира существует вне и помимо них. Они оформляют эту материю и обуздывают эту стихию. Претензии к этим институтам могут касаться того, хороши они или плохи в выполнении своей работы, но не самой их субстанции и не самого факта их существования.
Но разве создание таких агрегатов насилия, как полицейская система, армия, и, прежде всего, само «беллицистское» (то есть не обязательно воинственное, но основанное на реальной возможности войны) государство не обладает своего рода эффектом снежного кома? Разве эти институты, созданные для управления насилием, не будут стремиться умножать его – так же, как бюрократия, созданная, неважно для каких целей, будет тяготеть к тому, чтобы обслуживать сама себя?
Такая возможность определенно есть. Но дело как раз в том, что мы не сможем управлять этим риском перепроизводства насилия, если мы не сможем артикулировать внутреннюю логику и внутреннюю правду институтов, призванных управлять им. Ставя суверенным институтам в вину сам факт их существования, мы лишаемся возможности задать главный вопрос: оказываются ли они на высоте своей миссии и что необходимо для ее выполнения?
Это одна из причин, по которым отрицание власти и войны на уровне мировоззрения логически связано с их злокачественной мутацией на практическом уровне. Объем насилия, практикуемого режимами, считающими войну и политическое господство чем-то временным или незаконным, никак не меньше (а как правило – больше), чем в случае «реалистически мыслящих» государств. Но это насилие, идущее с дополнительной нагрузкой в виде удушливого лицемерия и тоталитаризма.
Одним словом, мы должны быть в контакте с «жестокими фактами» мира для того, чтобы они ежеминутно не заставали нас врасплох или не отравляли наш мир исподволь.
Дуновение трагического
Такого рода взгляд на мир мы называем реалистическим. Но установка на принятие мира таким, каков он есть, содержит в себе и нечто большее. В ней есть уровень, на котором гераклитовская «вражда» предстает не только неизбежным злом, но и созидательной силой («отец вещей»). Этот уровень связан с феноменом трагического.
Как пишет Макс Шелер, трагическое – «это исходящее от самих вещей холодное тяжелое дуновение… и в нем… зарождается определенное свойство мира». [47, с. 8]
Трагический конфликт – это не конфликт между добром и злом, а конфликт между разными «правдами», между разными видами благ.
Аласдер Макинтайр противопоставляет Платону, который считал, что «добродетель не может входить в конфликт с добродетелью», «не могут быть в состоянии войны друг с другом конкурирующие блага», – Софокла, который «систематически исследовал приверженность конкурирующим несовместимым благам». Ровно то, что Платон считал невозможным, «делает возможной трагическую драму». [22, с. 194]
В этом смысле именно трагическое мышление является наиболее сильным противоядием от утопического.
На горизонте утопии – фундаментально бесконфликтный мир. Даже зацикленный на классовом конфликте марксизм выстраивает изощренную аналитику этого структурного конфликта для того, чтобы провозгласить возможность его конечного преодоления. «Бесклассовое общество» – одна из моделей мира, в котором конфликты не носят фундаментального, структурного характера.
В сердцевине трагического мышления, напротив, – представление о фундаментальном статусе конфликта в структуре мира. Как отмечает Шелер, «предмет трагического всегда двойственен: с одной стороны, это стоящее перед нашими глазами событие, с другой – экземплефицированная в нем сущностная конституция мира». [47, с. 17]
Трагедия повествует не о том, что «плохие вещи случаются», а о том, что существует неотвратимость в столкновении «хороших вещей», которые в современной философии принято называть ценностями. «Все, что можно назвать трагическим, находится в сфере движения ценностей», [47, с. 11] – констатирует Шелер. «Трагичен конфликт внутри самих позитивных ценностей и их носителей». [47, с. 14]
Кстати, здесь мы обнаруживаем еще одного оппонента консервативного мировоззрения, куда более «непробиваемого», чем осознанный политический утопизм. Это политический инфантилизм: «святая простота» благонамеренных, склонных выступать «за все хорошее, против всего плохого». Этот аргумент обращен ровно к ним: между разными видами хорошего надо выбирать, между разными видами «хорошего» существует конфликт, и политика является одной из форм его организации.
Вебер говорит в этой связи о «политеизме ценностей», или о «войне богов». В первом приближении эта метафора выражает понимание того, что из нередуцируемого плюрализма ценностей следует неустранимая возможность их конфликта. Однако более фундаментальная посылка гласит, что конфликт – это не следствие плюрализма ценностей, но сам способ их существования. Ценности приводятся к значимости посредством борьбы за признание. Антагонистическая диспозиция – не побочный эффект, а порождающий принцип ценностных содержаний.
Выше мы говорили, что ценности историчны. Это значит не столько то, что они преходящи, сколько то, что они производятся историей как особого рода драматургией: драматургией значащего, интерпретированного и через это наполненного смыслом конфликта.
Мир, лишенный фундаментально-конфликтного измерения, – это обесцененный, выхолощенный и неисторичный мир. Консервативная приверженность «жестоким истинам» прежде всего противостоит этому обесцениванию. Поэтому она лишь на первый взгляд покажется пессимизмом. По сути своей это оптимизм. Как сказал бы Ницше – трагический оптимизм.
Ускользающий гражданский мир
Поль Клодель писал в противовес лозунгу Маркса об изменении мира: «прежде чем изменить мир, важнее было бы не дать ему погибнуть». [18, с. 62] О какой гибели здесь может идти речь? Ядерная зима, экологическая катастрофа? Возможно.
Но мир, который подвержен гибели, – это не только физическое пространство вокруг нас. Это и социальное пространство, некое пространство совместности. Об этом пишет Ханна Арендт как о предпосылке политической формы жизни: мир «как что-то общее для многих людей, что-то, лежащее между ними, разделяющее и связывающее их». [4, с. 75] Такое понимание гражданского мира более фундаментально, чем понятие мира как отсутствия войны.
Мир как соединяющее-и-разделяющее пространство уничтожается не войной, а войной на уничтожение.
Как гласит 11-й тезис Маркса о Фейербахе: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». [26, с. 4] Это точный мировоззренческий антоним к той установке на принятие мира, о которой мы говорим.
Изменить мир в том смысле, который подразумевается в афоризме Маркса, – значит изменить мир в его основах: создать мир «обобществившегося человечества» (термин из 10-го тезиса). Мир без эксплуатации, мир без господства, мир без политического насилия.
Принять мир, в противовес этому стремлению, – значит принять мир в его фундаментальной конфликтной разделенности. В его извечном гераклитовском облике: «Война – отец всех, царь всех», «все возникает через вражду и взаимообразно» [44, с. 201-202].
Идея мирпорождающей вражды отчетливо выражена в античной теогонии и космогонии: мир как космос буквально отвоеван у хаоса; олимпийские боги, олицетворяющие мирообразующий, формообразующий принцип, утверждаются перед лицом хтонических, титанических сил, которые могут быть лишь на время «локализованы» (в Тартаре), но не уничтожены.
Эта идея идет рука об руку с ощущением хрупкости порядка. Война с хаосом, стоящая у истоков мира, может в любой момент возобновиться. Можно сказать, что она – с разной интенсивностью – ведется все время (например, как сдерживание сил хаоса и сил упадка). Поддержание мира как оформленного универсума требует постоянной боеготовности.
Это касается как «мира в целом», так и социальных миров в их конфликтном сосуществовании. «Необходимость «мысленно учитывать возможность войны», – пишет Петер Слотердайк, – составляла в прошедшие тысячелетия твердое… ядро трагического позитивизма», который исходит из того, что «мир надо в первую очередь не интерпретировать и не изменять, а выносить как тяжкое испытание». [39, с. 362]
Слотердайк в этой связи проницательно отмечает, что в сердцевине консервативного сознания лежит особого рода поэтика «суровых фактов», убеждение в первородной жестокости мира. Последняя должна быть достойно принята человеком, поскольку она идет «в комплекте» с гармонией мира и его красотой. И больше того, в чем-то является их условием – поскольку требует от человека и общества быть на высоте и поддерживать себя «в форме».
Сам Слотердайк, как левый философ, с негодованием отворачивается от этого алармистского паттерна, призывая «цивилизацию» к поиску нового, способного продуцировать мир «нежестоких фактов», «трансмилитаристского и постиндустриального принципа реальности». [39, с. 364] Он выражает нечто важное и сокровенное для левого способа переживания мира, когда говорит, что «глубочайшее предназначение прогрессивности» состоит в том, чтобы «стронуть сам принцип реальности с места». [39, с. 360]
В этой развилке – принятие «жестоких фактов» мира или стремление (в той или иной форме, в той или иной перспективе) их «отменить» – есть что-то глубоко безотчетное, связанное именно с первичной реакцией на бытие. Тут бессильны аргументы, это просто разные типы людей.
Армин Молер, говоря о своем обращении к консерватизму, отмечал, что решающую роль для него сыграло обаяние человеческого типа, черты которого он выделял в своем круге общения. Это «скептическая жизнеуверенность, которая, как правило, шла рука об руку с решительным умением жить. Это абсолютное принятие мира «как он есть», без восторга и лишних иллюзий. Страдания, несчастья и человеческие слабости были для них само собой разумеющимися». [30, с. 88-89]
Человек такого склада «осознает всем своим нутром… что не он создал этот мир и что он не в силах изменить его основы. Но он также чувствует, что это не повод для смирения – скорее наоборот». [30, с. 84] Действительно, в консервативной позиции есть как смирение, связанное с пониманием невозможности в корне «изменить мир» и даже, в определенном смысле «нечестивости» такой амбиции, так и гордость, заключенная в способности принять его таким, каков он есть. Способности «выдержать бытие», как говорил Гегель.
Что касается противоположного человеческого типа, то интересную пищу для размышлений дает фантастика. В ней есть сквозной сюжет о пришествии инопланетной расы, качественно превосходящей человечество в сфере науки, техники, «разума». В этой сюжетной схеме люди делятся на «энтузиастов», верящих в сценарий разумной коммуникации, и «реалистов», считающих более вероятным насильственный сценарий.
Например, в фильме «День независимости» зависшую над городом гигантскую летающую тарелку группа энтузиастов встречает на крыше небоскреба с плакатами «добро пожаловать, пришельцы!». К их восторгу, люки космоплана медленно открываются… И – уже к восторгу реалистов по другую сторону экрана – пришельцы начинают уничтожение города именно с этого небоскреба.
Более глубокую проработку тема получает в романе «Задача трех тел» и двух одноименных сериалах. Поскольку событие инопланетного пришествия оказывается известным заранее, но отложенным в далекое будущее, оно запускает сложную социальную динамику. Особенно интересна комбинация мотивов в разных фракциях лагеря «энтузиастов»: это и ненависть к несовершенному человеческому миру; и вера в то, что развитый разум не мог не оставить позади атавистические насильственные формы конфликта; и надежда на возможность начать новую, лучшую эру под руководством более развитых существ. Под воздействием этих мотивов часть землян образует тайное общество, готовящее пришествие «высших существ», с которого начнется «новый мир».
На вкус «реалиста», лагерь «энтузиастов» выглядит отвратительно. Но за ним, несомненно, есть своя логика и своя традиция. В конце концов, представление о том, что «разум» в его высшем развитии не может нести ничего кроме «добра», укоренено в одной из самых сильных человеческих философий – платоновской концепции триединства «Истины», «Блага» и «Красоты».
Будет справедливо сказать, что архетип прогрессисткого преображения мира не менее стар, чем архетип его гераклитовского принятия. Эрнст Юнгер считает, что в определенном смысле он даже «старше», поскольку отсылает к более глубоким пластам «праистории»: «Ее важнейший компонент, ее отличительный признак – вечный мир, вечное счастье. Вот почему она по сей день продолжает существовать под историческим миром, на еще большей глубине, чем миф, чья главная тема – борьба». [54, с. 111]
Но и в мире, где правит борьба, этот архетип не теряется. Он проявляется снова и снова. Например – в виде хилиастических мечтаний. Характерно, что Эрнст Блох, автор одного из самых ярких манифестов утопического мышления «Принцип надежды», включает в генеалогию своих идей проповедника тысячелетнего царства праведников Иоахима Флорского.
Якоб Таубес в «Западной эсхатологии» пишет о важном для средневекового христианства расколе между апокалиптическими движениями с их буквальным пониманием «прихода царства Божия», и официальной Церковью, которая «остается консервативной, если она в той или иной мере принимает земной мир как он есть…». [41, с. 209] Он сетует на «пресное мировое соглашение с окружающим миром», которое заключило оказавшееся под сенью Империи христианство. [41, с. 240] Но, изгнанный из официальной Церкви, хилиастический дух передал эстафету утопизму Нового времени, взорвавшегося бумом левых идеалов.
Уважение к реальности
При всем разнообразии этих идеалов, в их общем знаменателе – представление о привходящем, «снимаемом» характере политического господства, экономической эксплуатации, войны.
У консервативного реализма, противостоящего этому утопическому комплексу, есть парадоксальное свойство. Он не просто констатирует «жестокие факты» мира, он считает важным отдавать им должное. Как если бы реальность нуждалась в человеческом признании и уважении, в надлежащем обращении для того, чтобы «правильно работать». В определенном смысле, так и есть. Эти жестокие факты нуждаются в правильном обращении для того, чтобы общество могло совладать с ними: встроить их в свой институциональный порядок, и тем самым – регламентировать и облагородить.
Это хорошо заметно на примере внешнеполитического реализма. Для которого «баланс сил» является не только описательной моделью, но и регулятивным принципом. Пренебрежение им может приводить не только к ошибкам из-за превратного понимания реальности, но и к весьма отталкивающей деформации самой реальности.
«Реалисты» втайне разделяют взгляд тех утопистов, которые, как тот же Блох, считают утопию действенной силой, способной проникать в ткань действительности и «перекодировать» ее. Но с их точки зрения попытка дезавуировать «жестокие факты» мира приводит не к мировой гармонии, а к онтологической порче.
Попытка отменить национальный эгоизм порождает международную систему, патологически неспособную к урегулированию конфликтов – поскольку они оформляются не в категориях интересов, а в категориях универсальных моральных принципов.
Попытка отменить войну оборачивается не вечным миром, а лишенными благородства силовыми операциями против «изгоев человечества», о которых Шмитт еще в 50-е гг. прошлого века прозорливо напишет, что «повышение эффективности технических средств уничтожения разверзает пропасть столь же уничтожающей по отношению к противнику правовой и моральной дискриминации». [48, с. 474]
Попытка отменить геополитическую конфронтацию, предложив «новое политическое мышление», приводит к растянувшимся на десятилетия конвульсиям насилия на постсоветском пространстве и новой неустойчивости мировой системы, открывшей эпоху более жестоких и опасных войн.
Попытка отменить политическое лидерство, «чреватое диктатурой», придает господству все более анонимные формы, внутри которых даже восстания – логически и технически – невозможны. Как пишет Ханна Арендт, «господство анонимных канцелярий не становится менее деспотичным из-за того, что осуществляется «никем»; напротив, оно скорее еще более ужасно». [4, с. 19]
Попытка отменить эксплуатацию становится знаменем для формирования режима сверхэксплуатации, как это было в первые десятилетия советской экономики.
Попытка разрушить «весь мир насилия», как поется в Интернационале, приводит к разрушению всех барьеров, которые общество выстроило на пути насилия.
Главным из таких барьеров является собственно государственная власть.
Парадокс безопасности
Проблема власти оказывается в фокусе внимания антагонистических мировоззрений. Для одних она является проклятием социального мира, чем-то, что должно быть преодолено или в корне преобразовано. Для других – оплотом порядка против хаоса, проявляющегося в раскрепощенном насилии.
Власть как таковая, несомненно, предполагает потенциал насилия. Но именно потенциал. Раскрепощенное насилие уничтожает власть. Александр Кожев формулирует этот тезис в более жесткой форме: «Употребление власти не только не тождественно использованию силы (насилия), эти два феномена взаимно исключают друг друга». [20, с. 19]
В самом деле, если тот, кто отдает приказ, вынужден применить силу для его исполнения, то это прямое свидетельство того, что он не имеет власти (по отношению к тому, кто был принужден изменить свое поведение лишь через силу). Разумеется, проявлением власти может быть приказ на применение силы. Но этот приказ будет исполнен лишь в том случае, если тот, кто его исполняет, сам принужден не прямым насилием, а признанием полномочий лица, отдавшего этот приказ. Власть – это не сила, а признанное полномочие. Фактор насилия может быть важным контекстом для установления отношений власти. Но власть как таковая – это зона отношений, свободная от насилия, и при этом способная с ним справляться. Это позволяет говорить о власти как о форме систематического ограничения и обуздания насилия, существующего в отношениях между людьми.
В принципе, именно из этого исходит аргументация Гоббса применительно к такой специфической и высшей форме власти, как суверенная власть. Она переводит повсеместное насилие в концентрированное, сокращая его совокупный объем в обществе. Поэтому сделка «защита в обмен на повиновение» выглядит удачной для добропорядочного индивида.
В эту модель не укладывается феномен войны как специфической формы насилия, вызываемой самим существованием государств, на что указывает Гегель: «Существует совершенно превратный расчет, когда при требовании подобных жертв (жертв, связанных с войной – М.Р.) государство рассматривается просто как гражданское общество и его конечной целью считается лишь обеспечение жизни и собственности индивидов, ибо это обеспечение не достигается посредством жертвования тем, что должно быть обеспечено (курсив наш – М.Р.)». [11, с. 359]
Это весомый аргумент против договорной логики Гоббса (сделка «повиновение в обмен на защиту» – недостаточное основание для суверенной власти), но не против тезиса о том, что концентрация насилия в руках суверена сокращает общий объем насилия в обществе.
Даже с учетом того, что государства как таковые склонны вести войны, общества, обладающие полноценной государственностью, в целом более способны к обузданию насилия, чем до- без- и постгосударственные общества (отдельной оговорки заслуживает феномен тотальной войны, о котором пойдет речь ниже).
Характерен в этом отношении так называемый «парадокс безопасности» в Латинской Америке. Будучи регионом с минимальным количеством межгосударственных военных конфликтов и минимальным уровнем военных расходов, этот регион удерживает абсолютное лидерство по количеству насильственных смертей (около 1/3 всех убийств, ежегодно совершаемых в мире, при 2-3% мировых военных расходов). Тем не менее, искренний аффект отторжения у левых утопистов вызывают не уличные банды и наркокартели, а именно суверенная власть.
Это тоже своего рода парадокс, в данном случае моральный. Он связан, конечно, с тем, что, ограничивая и обуздывая насилие, суверенная власть вместе с тем делает его открытым и ответственным: публично-правовым (в лице судебно-полицейских и военных институтов). Тем самым она его нормализует, постулирует как особого рода право. И вдобавок – «увековечивает».
Является ли это приемлемой ценой за обуздание насилия и сокращение его общего объема? Ответ на этот вопрос зависит как раз от фундаментальных мировоззренческих предпосылок. Для того, чтобы принять эту цену, нужно согласиться с тем, что, во-первых, насилие – неотъемлемая часть человеческого мира. И, во-вторых, власть и война – необходимые и законные способы управления им.
Иными словами, нужно осознать, что такие явления, как власть и война – это не источники насилия, а способы его институционализации. И соответственно – регламентации и ограничения. Насилие как «материя», как «стихия» мира существует вне и помимо них. Они оформляют эту материю и обуздывают эту стихию. Претензии к этим институтам могут касаться того, хороши они или плохи в выполнении своей работы, но не самой их субстанции и не самого факта их существования.
Но разве создание таких агрегатов насилия, как полицейская система, армия, и, прежде всего, само «беллицистское» (то есть не обязательно воинственное, но основанное на реальной возможности войны) государство не обладает своего рода эффектом снежного кома? Разве эти институты, созданные для управления насилием, не будут стремиться умножать его – так же, как бюрократия, созданная, неважно для каких целей, будет тяготеть к тому, чтобы обслуживать сама себя?
Такая возможность определенно есть. Но дело как раз в том, что мы не сможем управлять этим риском перепроизводства насилия, если мы не сможем артикулировать внутреннюю логику и внутреннюю правду институтов, призванных управлять им. Ставя суверенным институтам в вину сам факт их существования, мы лишаемся возможности задать главный вопрос: оказываются ли они на высоте своей миссии и что необходимо для ее выполнения?
Это одна из причин, по которым отрицание власти и войны на уровне мировоззрения логически связано с их злокачественной мутацией на практическом уровне. Объем насилия, практикуемого режимами, считающими войну и политическое господство чем-то временным или незаконным, никак не меньше (а как правило – больше), чем в случае «реалистически мыслящих» государств. Но это насилие, идущее с дополнительной нагрузкой в виде удушливого лицемерия и тоталитаризма.
Одним словом, мы должны быть в контакте с «жестокими фактами» мира для того, чтобы они ежеминутно не заставали нас врасплох или не отравляли наш мир исподволь.
Дуновение трагического
Такого рода взгляд на мир мы называем реалистическим. Но установка на принятие мира таким, каков он есть, содержит в себе и нечто большее. В ней есть уровень, на котором гераклитовская «вражда» предстает не только неизбежным злом, но и созидательной силой («отец вещей»). Этот уровень связан с феноменом трагического.
Как пишет Макс Шелер, трагическое – «это исходящее от самих вещей холодное тяжелое дуновение… и в нем… зарождается определенное свойство мира». [47, с. 8]
Трагический конфликт – это не конфликт между добром и злом, а конфликт между разными «правдами», между разными видами благ.
Аласдер Макинтайр противопоставляет Платону, который считал, что «добродетель не может входить в конфликт с добродетелью», «не могут быть в состоянии войны друг с другом конкурирующие блага», – Софокла, который «систематически исследовал приверженность конкурирующим несовместимым благам». Ровно то, что Платон считал невозможным, «делает возможной трагическую драму». [22, с. 194]
В этом смысле именно трагическое мышление является наиболее сильным противоядием от утопического.
На горизонте утопии – фундаментально бесконфликтный мир. Даже зацикленный на классовом конфликте марксизм выстраивает изощренную аналитику этого структурного конфликта для того, чтобы провозгласить возможность его конечного преодоления. «Бесклассовое общество» – одна из моделей мира, в котором конфликты не носят фундаментального, структурного характера.
В сердцевине трагического мышления, напротив, – представление о фундаментальном статусе конфликта в структуре мира. Как отмечает Шелер, «предмет трагического всегда двойственен: с одной стороны, это стоящее перед нашими глазами событие, с другой – экземплефицированная в нем сущностная конституция мира». [47, с. 17]
Трагедия повествует не о том, что «плохие вещи случаются», а о том, что существует неотвратимость в столкновении «хороших вещей», которые в современной философии принято называть ценностями. «Все, что можно назвать трагическим, находится в сфере движения ценностей», [47, с. 11] – констатирует Шелер. «Трагичен конфликт внутри самих позитивных ценностей и их носителей». [47, с. 14]
Кстати, здесь мы обнаруживаем еще одного оппонента консервативного мировоззрения, куда более «непробиваемого», чем осознанный политический утопизм. Это политический инфантилизм: «святая простота» благонамеренных, склонных выступать «за все хорошее, против всего плохого». Этот аргумент обращен ровно к ним: между разными видами хорошего надо выбирать, между разными видами «хорошего» существует конфликт, и политика является одной из форм его организации.
Вебер говорит в этой связи о «политеизме ценностей», или о «войне богов». В первом приближении эта метафора выражает понимание того, что из нередуцируемого плюрализма ценностей следует неустранимая возможность их конфликта. Однако более фундаментальная посылка гласит, что конфликт – это не следствие плюрализма ценностей, но сам способ их существования. Ценности приводятся к значимости посредством борьбы за признание. Антагонистическая диспозиция – не побочный эффект, а порождающий принцип ценностных содержаний.
Выше мы говорили, что ценности историчны. Это значит не столько то, что они преходящи, сколько то, что они производятся историей как особого рода драматургией: драматургией значащего, интерпретированного и через это наполненного смыслом конфликта.
Мир, лишенный фундаментально-конфликтного измерения, – это обесцененный, выхолощенный и неисторичный мир. Консервативная приверженность «жестоким истинам» прежде всего противостоит этому обесцениванию. Поэтому она лишь на первый взгляд покажется пессимизмом. По сути своей это оптимизм. Как сказал бы Ницше – трагический оптимизм.
Ускользающий гражданский мир
Поль Клодель писал в противовес лозунгу Маркса об изменении мира: «прежде чем изменить мир, важнее было бы не дать ему погибнуть». [18, с. 62] О какой гибели здесь может идти речь? Ядерная зима, экологическая катастрофа? Возможно.
Но мир, который подвержен гибели, – это не только физическое пространство вокруг нас. Это и социальное пространство, некое пространство совместности. Об этом пишет Ханна Арендт как о предпосылке политической формы жизни: мир «как что-то общее для многих людей, что-то, лежащее между ними, разделяющее и связывающее их». [4, с. 75] Такое понимание гражданского мира более фундаментально, чем понятие мира как отсутствия войны.
Мир как соединяющее-и-разделяющее пространство уничтожается не войной, а войной на уничтожение.
Гражданские войны часто именно таковы – они не ведутся против законного противника, с которым возможно пространство совместности (даже конфликтное). Иногда эту черту перенимают и межгосударственные войны. «В войне на уничтожение, уничтожается не только мир побежденного противника, а нечто гораздо большее: это прежде всего пространство между воюющими сторонами». По мере развертывания тотальной вражды «этот мир отношений превращается в пустыню», отныне не мир, а «пустыня простирается между людьми». [4, с. 182]
В этих словах Ханны Арендт звучит невольная отсылка к афоризму одного из главных действующих лиц Тридцатилетней войны Фердинанда II: «Лучше пустыня, чем страна, населенная еретиками».
В этих словах Ханны Арендт звучит невольная отсылка к афоризму одного из главных действующих лиц Тридцатилетней войны Фердинанда II: «Лучше пустыня, чем страна, населенная еретиками».
Обаяние «жестоких фактов»
Как гласит 11-й тезис Маркса о Фейербахе: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». [26, с. 4] Это точный мировоззренческий антоним к той установке на принятие мира, о которой мы говорим.
Изменить мир в том смысле, который подразумевается в афоризме Маркса, – значит изменить мир в его основах: создать мир «обобществившегося человечества» (термин из 10-го тезиса). Мир без эксплуатации, мир без господства, мир без политического насилия.
Принять мир, в противовес этому стремлению, – значит принять мир в его фундаментальной конфликтной разделенности. В его извечном гераклитовском облике: «Война – отец всех, царь всех», «все возникает через вражду и взаимообразно» [44, с. 201-202].
Идея мирпорождающей вражды отчетливо выражена в античной теогонии и космогонии: мир как космос буквально отвоеван у хаоса; олимпийские боги, олицетворяющие мирообразующий, формообразующий принцип, утверждаются перед лицом хтонических, титанических сил, которые могут быть лишь на время «локализованы» (в Тартаре), но не уничтожены.
Эта идея идет рука об руку с ощущением хрупкости порядка. Война с хаосом, стоящая у истоков мира, может в любой момент возобновиться. Можно сказать, что она – с разной интенсивностью – ведется все время (например, как сдерживание сил хаоса и сил упадка). Поддержание мира как оформленного универсума требует постоянной боеготовности.
Это касается как «мира в целом», так и социальных миров в их конфликтном сосуществовании. «Необходимость «мысленно учитывать возможность войны», – пишет Петер Слотердайк, – составляла в прошедшие тысячелетия твердое… ядро трагического позитивизма», который исходит из того, что «мир надо в первую очередь не интерпретировать и не изменять, а выносить как тяжкое испытание». [39, с. 362]
Слотердайк в этой связи проницательно отмечает, что в сердцевине консервативного сознания лежит особого рода поэтика «суровых фактов», убеждение в первородной жестокости мира. Последняя должна быть достойно принята человеком, поскольку она идет «в комплекте» с гармонией мира и его красотой. И больше того, в чем-то является их условием – поскольку требует от человека и общества быть на высоте и поддерживать себя «в форме».
Сам Слотердайк, как левый философ, с негодованием отворачивается от этого алармистского паттерна, призывая «цивилизацию» к поиску нового, способного продуцировать мир «нежестоких фактов», «трансмилитаристского и постиндустриального принципа реальности». [39, с. 364] Он выражает нечто важное и сокровенное для левого способа переживания мира, когда говорит, что «глубочайшее предназначение прогрессивности» состоит в том, чтобы «стронуть сам принцип реальности с места». [39, с. 360]
В этой развилке – принятие «жестоких фактов» мира или стремление (в той или иной форме, в той или иной перспективе) их «отменить» – есть что-то глубоко безотчетное, связанное именно с первичной реакцией на бытие. Тут бессильны аргументы, это просто разные типы людей.
Армин Молер, говоря о своем обращении к консерватизму, отмечал, что решающую роль для него сыграло обаяние человеческого типа, черты которого он выделял в своем круге общения. Это «скептическая жизнеуверенность, которая, как правило, шла рука об руку с решительным умением жить. Это абсолютное принятие мира «как он есть», без восторга и лишних иллюзий. Страдания, несчастья и человеческие слабости были для них само собой разумеющимися». [30, с. 88-89]
Человек такого склада «осознает всем своим нутром… что не он создал этот мир и что он не в силах изменить его основы. Но он также чувствует, что это не повод для смирения – скорее наоборот». [30, с. 84] Действительно, в консервативной позиции есть как смирение, связанное с пониманием невозможности в корне «изменить мир» и даже, в определенном смысле «нечестивости» такой амбиции, так и гордость, заключенная в способности принять его таким, каков он есть. Способности «выдержать бытие», как говорил Гегель.
Что касается противоположного человеческого типа, то интересную пищу для размышлений дает фантастика. В ней есть сквозной сюжет о пришествии инопланетной расы, качественно превосходящей человечество в сфере науки, техники, «разума». В этой сюжетной схеме люди делятся на «энтузиастов», верящих в сценарий разумной коммуникации, и «реалистов», считающих более вероятным насильственный сценарий.
Например, в фильме «День независимости» зависшую над городом гигантскую летающую тарелку группа энтузиастов встречает на крыше небоскреба с плакатами «добро пожаловать, пришельцы!». К их восторгу, люки космоплана медленно открываются… И – уже к восторгу реалистов по другую сторону экрана – пришельцы начинают уничтожение города именно с этого небоскреба.
Более глубокую проработку тема получает в романе «Задача трех тел» и двух одноименных сериалах. Поскольку событие инопланетного пришествия оказывается известным заранее, но отложенным в далекое будущее, оно запускает сложную социальную динамику. Особенно интересна комбинация мотивов в разных фракциях лагеря «энтузиастов»: это и ненависть к несовершенному человеческому миру; и вера в то, что развитый разум не мог не оставить позади атавистические насильственные формы конфликта; и надежда на возможность начать новую, лучшую эру под руководством более развитых существ. Под воздействием этих мотивов часть землян образует тайное общество, готовящее пришествие «высших существ», с которого начнется «новый мир».
На вкус «реалиста», лагерь «энтузиастов» выглядит отвратительно. Но за ним, несомненно, есть своя логика и своя традиция. В конце концов, представление о том, что «разум» в его высшем развитии не может нести ничего кроме «добра», укоренено в одной из самых сильных человеческих философий – платоновской концепции триединства «Истины», «Блага» и «Красоты».
Будет справедливо сказать, что архетип прогрессисткого преображения мира не менее стар, чем архетип его гераклитовского принятия. Эрнст Юнгер считает, что в определенном смысле он даже «старше», поскольку отсылает к более глубоким пластам «праистории»: «Ее важнейший компонент, ее отличительный признак – вечный мир, вечное счастье. Вот почему она по сей день продолжает существовать под историческим миром, на еще большей глубине, чем миф, чья главная тема – борьба». [54, с. 111]
Но и в мире, где правит борьба, этот архетип не теряется. Он проявляется снова и снова. Например – в виде хилиастических мечтаний. Характерно, что Эрнст Блох, автор одного из самых ярких манифестов утопического мышления «Принцип надежды», включает в генеалогию своих идей проповедника тысячелетнего царства праведников Иоахима Флорского.
Якоб Таубес в «Западной эсхатологии» пишет о важном для средневекового христианства расколе между апокалиптическими движениями с их буквальным пониманием «прихода царства Божия», и официальной Церковью, которая «остается консервативной, если она в той или иной мере принимает земной мир как он есть…». [41, с. 209] Он сетует на «пресное мировое соглашение с окружающим миром», которое заключило оказавшееся под сенью Империи христианство. [41, с. 240] Но, изгнанный из официальной Церкви, хилиастический дух передал эстафету утопизму Нового времени, взорвавшегося бумом левых идеалов.
Уважение к реальности
При всем разнообразии этих идеалов, в их общем знаменателе – представление о привходящем, «снимаемом» характере политического господства, экономической эксплуатации, войны.
У консервативного реализма, противостоящего этому утопическому комплексу, есть парадоксальное свойство. Он не просто констатирует «жестокие факты» мира, он считает важным отдавать им должное. Как если бы реальность нуждалась в человеческом признании и уважении, в надлежащем обращении для того, чтобы «правильно работать». В определенном смысле, так и есть. Эти жестокие факты нуждаются в правильном обращении для того, чтобы общество могло совладать с ними: встроить их в свой институциональный порядок, и тем самым – регламентировать и облагородить.
Это хорошо заметно на примере внешнеполитического реализма. Для которого «баланс сил» является не только описательной моделью, но и регулятивным принципом. Пренебрежение им может приводить не только к ошибкам из-за превратного понимания реальности, но и к весьма отталкивающей деформации самой реальности.
«Реалисты» втайне разделяют взгляд тех утопистов, которые, как тот же Блох, считают утопию действенной силой, способной проникать в ткань действительности и «перекодировать» ее. Но с их точки зрения попытка дезавуировать «жестокие факты» мира приводит не к мировой гармонии, а к онтологической порче.
Попытка отменить национальный эгоизм порождает международную систему, патологически неспособную к урегулированию конфликтов – поскольку они оформляются не в категориях интересов, а в категориях универсальных моральных принципов.
Попытка отменить войну оборачивается не вечным миром, а лишенными благородства силовыми операциями против «изгоев человечества», о которых Шмитт еще в 50-е гг. прошлого века прозорливо напишет, что «повышение эффективности технических средств уничтожения разверзает пропасть столь же уничтожающей по отношению к противнику правовой и моральной дискриминации». [48, с. 474]
Попытка отменить геополитическую конфронтацию, предложив «новое политическое мышление», приводит к растянувшимся на десятилетия конвульсиям насилия на постсоветском пространстве и новой неустойчивости мировой системы, открывшей эпоху более жестоких и опасных войн.
Попытка отменить политическое лидерство, «чреватое диктатурой», придает господству все более анонимные формы, внутри которых даже восстания – логически и технически – невозможны. Как пишет Ханна Арендт, «господство анонимных канцелярий не становится менее деспотичным из-за того, что осуществляется «никем»; напротив, оно скорее еще более ужасно». [4, с. 19]
Попытка отменить эксплуатацию становится знаменем для формирования режима сверхэксплуатации, как это было в первые десятилетия советской экономики.
Попытка разрушить «весь мир насилия», как поется в Интернационале, приводит к разрушению всех барьеров, которые общество выстроило на пути насилия.
Главным из таких барьеров является собственно государственная власть.
Парадокс безопасности
Проблема власти оказывается в фокусе внимания антагонистических мировоззрений. Для одних она является проклятием социального мира, чем-то, что должно быть преодолено или в корне преобразовано. Для других – оплотом порядка против хаоса, проявляющегося в раскрепощенном насилии.
Власть как таковая, несомненно, предполагает потенциал насилия. Но именно потенциал. Раскрепощенное насилие уничтожает власть. Александр Кожев формулирует этот тезис в более жесткой форме: «Употребление власти не только не тождественно использованию силы (насилия), эти два феномена взаимно исключают друг друга». [20, с. 19]
В самом деле, если тот, кто отдает приказ, вынужден применить силу для его исполнения, то это прямое свидетельство того, что он не имеет власти (по отношению к тому, кто был принужден изменить свое поведение лишь через силу). Разумеется, проявлением власти может быть приказ на применение силы. Но этот приказ будет исполнен лишь в том случае, если тот, кто его исполняет, сам принужден не прямым насилием, а признанием полномочий лица, отдавшего этот приказ. Власть – это не сила, а признанное полномочие. Фактор насилия может быть важным контекстом для установления отношений власти. Но власть как таковая – это зона отношений, свободная от насилия, и при этом способная с ним справляться. Это позволяет говорить о власти как о форме систематического ограничения и обуздания насилия, существующего в отношениях между людьми.
В принципе, именно из этого исходит аргументация Гоббса применительно к такой специфической и высшей форме власти, как суверенная власть. Она переводит повсеместное насилие в концентрированное, сокращая его совокупный объем в обществе. Поэтому сделка «защита в обмен на повиновение» выглядит удачной для добропорядочного индивида.
В эту модель не укладывается феномен войны как специфической формы насилия, вызываемой самим существованием государств, на что указывает Гегель: «Существует совершенно превратный расчет, когда при требовании подобных жертв (жертв, связанных с войной – М.Р.) государство рассматривается просто как гражданское общество и его конечной целью считается лишь обеспечение жизни и собственности индивидов, ибо это обеспечение не достигается посредством жертвования тем, что должно быть обеспечено (курсив наш – М.Р.)». [11, с. 359]
Это весомый аргумент против договорной логики Гоббса (сделка «повиновение в обмен на защиту» – недостаточное основание для суверенной власти), но не против тезиса о том, что концентрация насилия в руках суверена сокращает общий объем насилия в обществе.
Даже с учетом того, что государства как таковые склонны вести войны, общества, обладающие полноценной государственностью, в целом более способны к обузданию насилия, чем до- без- и постгосударственные общества (отдельной оговорки заслуживает феномен тотальной войны, о котором пойдет речь ниже).
Характерен в этом отношении так называемый «парадокс безопасности» в Латинской Америке. Будучи регионом с минимальным количеством межгосударственных военных конфликтов и минимальным уровнем военных расходов, этот регион удерживает абсолютное лидерство по количеству насильственных смертей (около 1/3 всех убийств, ежегодно совершаемых в мире, при 2-3% мировых военных расходов). Тем не менее, искренний аффект отторжения у левых утопистов вызывают не уличные банды и наркокартели, а именно суверенная власть.
Это тоже своего рода парадокс, в данном случае моральный. Он связан, конечно, с тем, что, ограничивая и обуздывая насилие, суверенная власть вместе с тем делает его открытым и ответственным: публично-правовым (в лице судебно-полицейских и военных институтов). Тем самым она его нормализует, постулирует как особого рода право. И вдобавок – «увековечивает».
Является ли это приемлемой ценой за обуздание насилия и сокращение его общего объема? Ответ на этот вопрос зависит как раз от фундаментальных мировоззренческих предпосылок. Для того, чтобы принять эту цену, нужно согласиться с тем, что, во-первых, насилие – неотъемлемая часть человеческого мира. И, во-вторых, власть и война – необходимые и законные способы управления им.
Иными словами, нужно осознать, что такие явления, как власть и война – это не источники насилия, а способы его институционализации. И соответственно – регламентации и ограничения. Насилие как «материя», как «стихия» мира существует вне и помимо них. Они оформляют эту материю и обуздывают эту стихию. Претензии к этим институтам могут касаться того, хороши они или плохи в выполнении своей работы, но не самой их субстанции и не самого факта их существования.
Но разве создание таких агрегатов насилия, как полицейская система, армия, и, прежде всего, само «беллицистское» (то есть не обязательно воинственное, но основанное на реальной возможности войны) государство не обладает своего рода эффектом снежного кома? Разве эти институты, созданные для управления насилием, не будут стремиться умножать его – так же, как бюрократия, созданная, неважно для каких целей, будет тяготеть к тому, чтобы обслуживать сама себя?
Такая возможность определенно есть. Но дело как раз в том, что мы не сможем управлять этим риском перепроизводства насилия, если мы не сможем артикулировать внутреннюю логику и внутреннюю правду институтов, призванных управлять им. Ставя суверенным институтам в вину сам факт их существования, мы лишаемся возможности задать главный вопрос: оказываются ли они на высоте своей миссии и что необходимо для ее выполнения?
Это одна из причин, по которым отрицание власти и войны на уровне мировоззрения логически связано с их злокачественной мутацией на практическом уровне. Объем насилия, практикуемого режимами, считающими войну и политическое господство чем-то временным или незаконным, никак не меньше (а как правило – больше), чем в случае «реалистически мыслящих» государств. Но это насилие, идущее с дополнительной нагрузкой в виде удушливого лицемерия и тоталитаризма.
Одним словом, мы должны быть в контакте с «жестокими фактами» мира для того, чтобы они ежеминутно не заставали нас врасплох или не отравляли наш мир исподволь.
Дуновение трагического
Такого рода взгляд на мир мы называем реалистическим. Но установка на принятие мира таким, каков он есть, содержит в себе и нечто большее. В ней есть уровень, на котором гераклитовская «вражда» предстает не только неизбежным злом, но и созидательной силой («отец вещей»). Этот уровень связан с феноменом трагического.
Как пишет Макс Шелер, трагическое – «это исходящее от самих вещей холодное тяжелое дуновение… и в нем… зарождается определенное свойство мира». [47, с. 8]
Трагический конфликт – это не конфликт между добром и злом, а конфликт между разными «правдами», между разными видами благ.
Аласдер Макинтайр противопоставляет Платону, который считал, что «добродетель не может входить в конфликт с добродетелью», «не могут быть в состоянии войны друг с другом конкурирующие блага», – Софокла, который «систематически исследовал приверженность конкурирующим несовместимым благам». Ровно то, что Платон считал невозможным, «делает возможной трагическую драму». [22, с. 194]
В этом смысле именно трагическое мышление является наиболее сильным противоядием от утопического.
На горизонте утопии – фундаментально бесконфликтный мир. Даже зацикленный на классовом конфликте марксизм выстраивает изощренную аналитику этого структурного конфликта для того, чтобы провозгласить возможность его конечного преодоления. «Бесклассовое общество» – одна из моделей мира, в котором конфликты не носят фундаментального, структурного характера.
В сердцевине трагического мышления, напротив, – представление о фундаментальном статусе конфликта в структуре мира. Как отмечает Шелер, «предмет трагического всегда двойственен: с одной стороны, это стоящее перед нашими глазами событие, с другой – экземплефицированная в нем сущностная конституция мира». [47, с. 17]
Трагедия повествует не о том, что «плохие вещи случаются», а о том, что существует неотвратимость в столкновении «хороших вещей», которые в современной философии принято называть ценностями. «Все, что можно назвать трагическим, находится в сфере движения ценностей», [47, с. 11] – констатирует Шелер. «Трагичен конфликт внутри самих позитивных ценностей и их носителей». [47, с. 14]
Кстати, здесь мы обнаруживаем еще одного оппонента консервативного мировоззрения, куда более «непробиваемого», чем осознанный политический утопизм. Это политический инфантилизм: «святая простота» благонамеренных, склонных выступать «за все хорошее, против всего плохого». Этот аргумент обращен ровно к ним: между разными видами хорошего надо выбирать, между разными видами «хорошего» существует конфликт, и политика является одной из форм его организации.
Вебер говорит в этой связи о «политеизме ценностей», или о «войне богов». В первом приближении эта метафора выражает понимание того, что из нередуцируемого плюрализма ценностей следует неустранимая возможность их конфликта. Однако более фундаментальная посылка гласит, что конфликт – это не следствие плюрализма ценностей, но сам способ их существования. Ценности приводятся к значимости посредством борьбы за признание. Антагонистическая диспозиция – не побочный эффект, а порождающий принцип ценностных содержаний.
Выше мы говорили, что ценности историчны. Это значит не столько то, что они преходящи, сколько то, что они производятся историей как особого рода драматургией: драматургией значащего, интерпретированного и через это наполненного смыслом конфликта.
Мир, лишенный фундаментально-конфликтного измерения, – это обесцененный, выхолощенный и неисторичный мир. Консервативная приверженность «жестоким истинам» прежде всего противостоит этому обесцениванию. Поэтому она лишь на первый взгляд покажется пессимизмом. По сути своей это оптимизм. Как сказал бы Ницше – трагический оптимизм.
Ускользающий гражданский мир
Поль Клодель писал в противовес лозунгу Маркса об изменении мира: «прежде чем изменить мир, важнее было бы не дать ему погибнуть». [18, с. 62] О какой гибели здесь может идти речь? Ядерная зима, экологическая катастрофа? Возможно.
Но мир, который подвержен гибели, – это не только физическое пространство вокруг нас. Это и социальное пространство, некое пространство совместности. Об этом пишет Ханна Арендт как о предпосылке политической формы жизни: мир «как что-то общее для многих людей, что-то, лежащее между ними, разделяющее и связывающее их». [4, с. 75] Такое понимание гражданского мира более фундаментально, чем понятие мира как отсутствия войны.
Мир как соединяющее-и-разделяющее пространство уничтожается не войной, а войной на уничтожение.
Как гласит 11-й тезис Маркса о Фейербахе: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». [26, с. 4] Это точный мировоззренческий антоним к той установке на принятие мира, о которой мы говорим.
Изменить мир в том смысле, который подразумевается в афоризме Маркса, – значит изменить мир в его основах: создать мир «обобществившегося человечества» (термин из 10-го тезиса). Мир без эксплуатации, мир без господства, мир без политического насилия.
Принять мир, в противовес этому стремлению, – значит принять мир в его фундаментальной конфликтной разделенности. В его извечном гераклитовском облике: «Война – отец всех, царь всех», «все возникает через вражду и взаимообразно» [44, с. 201-202].
Идея мирпорождающей вражды отчетливо выражена в античной теогонии и космогонии: мир как космос буквально отвоеван у хаоса; олимпийские боги, олицетворяющие мирообразующий, формообразующий принцип, утверждаются перед лицом хтонических, титанических сил, которые могут быть лишь на время «локализованы» (в Тартаре), но не уничтожены.
Эта идея идет рука об руку с ощущением хрупкости порядка. Война с хаосом, стоящая у истоков мира, может в любой момент возобновиться. Можно сказать, что она – с разной интенсивностью – ведется все время (например, как сдерживание сил хаоса и сил упадка). Поддержание мира как оформленного универсума требует постоянной боеготовности.
Это касается как «мира в целом», так и социальных миров в их конфликтном сосуществовании. «Необходимость «мысленно учитывать возможность войны», – пишет Петер Слотердайк, – составляла в прошедшие тысячелетия твердое… ядро трагического позитивизма», который исходит из того, что «мир надо в первую очередь не интерпретировать и не изменять, а выносить как тяжкое испытание». [39, с. 362]
Слотердайк в этой связи проницательно отмечает, что в сердцевине консервативного сознания лежит особого рода поэтика «суровых фактов», убеждение в первородной жестокости мира. Последняя должна быть достойно принята человеком, поскольку она идет «в комплекте» с гармонией мира и его красотой. И больше того, в чем-то является их условием – поскольку требует от человека и общества быть на высоте и поддерживать себя «в форме».
Сам Слотердайк, как левый философ, с негодованием отворачивается от этого алармистского паттерна, призывая «цивилизацию» к поиску нового, способного продуцировать мир «нежестоких фактов», «трансмилитаристского и постиндустриального принципа реальности». [39, с. 364] Он выражает нечто важное и сокровенное для левого способа переживания мира, когда говорит, что «глубочайшее предназначение прогрессивности» состоит в том, чтобы «стронуть сам принцип реальности с места». [39, с. 360]
В этой развилке – принятие «жестоких фактов» мира или стремление (в той или иной форме, в той или иной перспективе) их «отменить» – есть что-то глубоко безотчетное, связанное именно с первичной реакцией на бытие. Тут бессильны аргументы, это просто разные типы людей.
Армин Молер, говоря о своем обращении к консерватизму, отмечал, что решающую роль для него сыграло обаяние человеческого типа, черты которого он выделял в своем круге общения. Это «скептическая жизнеуверенность, которая, как правило, шла рука об руку с решительным умением жить. Это абсолютное принятие мира «как он есть», без восторга и лишних иллюзий. Страдания, несчастья и человеческие слабости были для них само собой разумеющимися». [30, с. 88-89]
Человек такого склада «осознает всем своим нутром… что не он создал этот мир и что он не в силах изменить его основы. Но он также чувствует, что это не повод для смирения – скорее наоборот». [30, с. 84] Действительно, в консервативной позиции есть как смирение, связанное с пониманием невозможности в корне «изменить мир» и даже, в определенном смысле «нечестивости» такой амбиции, так и гордость, заключенная в способности принять его таким, каков он есть. Способности «выдержать бытие», как говорил Гегель.
Что касается противоположного человеческого типа, то интересную пищу для размышлений дает фантастика. В ней есть сквозной сюжет о пришествии инопланетной расы, качественно превосходящей человечество в сфере науки, техники, «разума». В этой сюжетной схеме люди делятся на «энтузиастов», верящих в сценарий разумной коммуникации, и «реалистов», считающих более вероятным насильственный сценарий.
Например, в фильме «День независимости» зависшую над городом гигантскую летающую тарелку группа энтузиастов встречает на крыше небоскреба с плакатами «добро пожаловать, пришельцы!». К их восторгу, люки космоплана медленно открываются… И – уже к восторгу реалистов по другую сторону экрана – пришельцы начинают уничтожение города именно с этого небоскреба.
Более глубокую проработку тема получает в романе «Задача трех тел» и двух одноименных сериалах. Поскольку событие инопланетного пришествия оказывается известным заранее, но отложенным в далекое будущее, оно запускает сложную социальную динамику. Особенно интересна комбинация мотивов в разных фракциях лагеря «энтузиастов»: это и ненависть к несовершенному человеческому миру; и вера в то, что развитый разум не мог не оставить позади атавистические насильственные формы конфликта; и надежда на возможность начать новую, лучшую эру под руководством более развитых существ. Под воздействием этих мотивов часть землян образует тайное общество, готовящее пришествие «высших существ», с которого начнется «новый мир».
На вкус «реалиста», лагерь «энтузиастов» выглядит отвратительно. Но за ним, несомненно, есть своя логика и своя традиция. В конце концов, представление о том, что «разум» в его высшем развитии не может нести ничего кроме «добра», укоренено в одной из самых сильных человеческих философий – платоновской концепции триединства «Истины», «Блага» и «Красоты».
Будет справедливо сказать, что архетип прогрессисткого преображения мира не менее стар, чем архетип его гераклитовского принятия. Эрнст Юнгер считает, что в определенном смысле он даже «старше», поскольку отсылает к более глубоким пластам «праистории»: «Ее важнейший компонент, ее отличительный признак – вечный мир, вечное счастье. Вот почему она по сей день продолжает существовать под историческим миром, на еще большей глубине, чем миф, чья главная тема – борьба». [54, с. 111]
Но и в мире, где правит борьба, этот архетип не теряется. Он проявляется снова и снова. Например – в виде хилиастических мечтаний. Характерно, что Эрнст Блох, автор одного из самых ярких манифестов утопического мышления «Принцип надежды», включает в генеалогию своих идей проповедника тысячелетнего царства праведников Иоахима Флорского.
Якоб Таубес в «Западной эсхатологии» пишет о важном для средневекового христианства расколе между апокалиптическими движениями с их буквальным пониманием «прихода царства Божия», и официальной Церковью, которая «остается консервативной, если она в той или иной мере принимает земной мир как он есть…». [41, с. 209] Он сетует на «пресное мировое соглашение с окружающим миром», которое заключило оказавшееся под сенью Империи христианство. [41, с. 240] Но, изгнанный из официальной Церкви, хилиастический дух передал эстафету утопизму Нового времени, взорвавшегося бумом левых идеалов.
Уважение к реальности
При всем разнообразии этих идеалов, в их общем знаменателе – представление о привходящем, «снимаемом» характере политического господства, экономической эксплуатации, войны.
У консервативного реализма, противостоящего этому утопическому комплексу, есть парадоксальное свойство. Он не просто констатирует «жестокие факты» мира, он считает важным отдавать им должное. Как если бы реальность нуждалась в человеческом признании и уважении, в надлежащем обращении для того, чтобы «правильно работать». В определенном смысле, так и есть. Эти жестокие факты нуждаются в правильном обращении для того, чтобы общество могло совладать с ними: встроить их в свой институциональный порядок, и тем самым – регламентировать и облагородить.
Это хорошо заметно на примере внешнеполитического реализма. Для которого «баланс сил» является не только описательной моделью, но и регулятивным принципом. Пренебрежение им может приводить не только к ошибкам из-за превратного понимания реальности, но и к весьма отталкивающей деформации самой реальности.
«Реалисты» втайне разделяют взгляд тех утопистов, которые, как тот же Блох, считают утопию действенной силой, способной проникать в ткань действительности и «перекодировать» ее. Но с их точки зрения попытка дезавуировать «жестокие факты» мира приводит не к мировой гармонии, а к онтологической порче.
Попытка отменить национальный эгоизм порождает международную систему, патологически неспособную к урегулированию конфликтов – поскольку они оформляются не в категориях интересов, а в категориях универсальных моральных принципов.
Попытка отменить войну оборачивается не вечным миром, а лишенными благородства силовыми операциями против «изгоев человечества», о которых Шмитт еще в 50-е гг. прошлого века прозорливо напишет, что «повышение эффективности технических средств уничтожения разверзает пропасть столь же уничтожающей по отношению к противнику правовой и моральной дискриминации». [48, с. 474]
Попытка отменить геополитическую конфронтацию, предложив «новое политическое мышление», приводит к растянувшимся на десятилетия конвульсиям насилия на постсоветском пространстве и новой неустойчивости мировой системы, открывшей эпоху более жестоких и опасных войн.
Попытка отменить политическое лидерство, «чреватое диктатурой», придает господству все более анонимные формы, внутри которых даже восстания – логически и технически – невозможны. Как пишет Ханна Арендт, «господство анонимных канцелярий не становится менее деспотичным из-за того, что осуществляется «никем»; напротив, оно скорее еще более ужасно». [4, с. 19]
Попытка отменить эксплуатацию становится знаменем для формирования режима сверхэксплуатации, как это было в первые десятилетия советской экономики.
Попытка разрушить «весь мир насилия», как поется в Интернационале, приводит к разрушению всех барьеров, которые общество выстроило на пути насилия.
Главным из таких барьеров является собственно государственная власть.
Парадокс безопасности
Проблема власти оказывается в фокусе внимания антагонистических мировоззрений. Для одних она является проклятием социального мира, чем-то, что должно быть преодолено или в корне преобразовано. Для других – оплотом порядка против хаоса, проявляющегося в раскрепощенном насилии.
Власть как таковая, несомненно, предполагает потенциал насилия. Но именно потенциал. Раскрепощенное насилие уничтожает власть. Александр Кожев формулирует этот тезис в более жесткой форме: «Употребление власти не только не тождественно использованию силы (насилия), эти два феномена взаимно исключают друг друга». [20, с. 19]
В самом деле, если тот, кто отдает приказ, вынужден применить силу для его исполнения, то это прямое свидетельство того, что он не имеет власти (по отношению к тому, кто был принужден изменить свое поведение лишь через силу). Разумеется, проявлением власти может быть приказ на применение силы. Но этот приказ будет исполнен лишь в том случае, если тот, кто его исполняет, сам принужден не прямым насилием, а признанием полномочий лица, отдавшего этот приказ. Власть – это не сила, а признанное полномочие. Фактор насилия может быть важным контекстом для установления отношений власти. Но власть как таковая – это зона отношений, свободная от насилия, и при этом способная с ним справляться. Это позволяет говорить о власти как о форме систематического ограничения и обуздания насилия, существующего в отношениях между людьми.
В принципе, именно из этого исходит аргументация Гоббса применительно к такой специфической и высшей форме власти, как суверенная власть. Она переводит повсеместное насилие в концентрированное, сокращая его совокупный объем в обществе. Поэтому сделка «защита в обмен на повиновение» выглядит удачной для добропорядочного индивида.
В эту модель не укладывается феномен войны как специфической формы насилия, вызываемой самим существованием государств, на что указывает Гегель: «Существует совершенно превратный расчет, когда при требовании подобных жертв (жертв, связанных с войной – М.Р.) государство рассматривается просто как гражданское общество и его конечной целью считается лишь обеспечение жизни и собственности индивидов, ибо это обеспечение не достигается посредством жертвования тем, что должно быть обеспечено (курсив наш – М.Р.)». [11, с. 359]
Это весомый аргумент против договорной логики Гоббса (сделка «повиновение в обмен на защиту» – недостаточное основание для суверенной власти), но не против тезиса о том, что концентрация насилия в руках суверена сокращает общий объем насилия в обществе.
Даже с учетом того, что государства как таковые склонны вести войны, общества, обладающие полноценной государственностью, в целом более способны к обузданию насилия, чем до- без- и постгосударственные общества (отдельной оговорки заслуживает феномен тотальной войны, о котором пойдет речь ниже).
Характерен в этом отношении так называемый «парадокс безопасности» в Латинской Америке. Будучи регионом с минимальным количеством межгосударственных военных конфликтов и минимальным уровнем военных расходов, этот регион удерживает абсолютное лидерство по количеству насильственных смертей (около 1/3 всех убийств, ежегодно совершаемых в мире, при 2-3% мировых военных расходов). Тем не менее, искренний аффект отторжения у левых утопистов вызывают не уличные банды и наркокартели, а именно суверенная власть.
Это тоже своего рода парадокс, в данном случае моральный. Он связан, конечно, с тем, что, ограничивая и обуздывая насилие, суверенная власть вместе с тем делает его открытым и ответственным: публично-правовым (в лице судебно-полицейских и военных институтов). Тем самым она его нормализует, постулирует как особого рода право. И вдобавок – «увековечивает».
Является ли это приемлемой ценой за обуздание насилия и сокращение его общего объема? Ответ на этот вопрос зависит как раз от фундаментальных мировоззренческих предпосылок. Для того, чтобы принять эту цену, нужно согласиться с тем, что, во-первых, насилие – неотъемлемая часть человеческого мира. И, во-вторых, власть и война – необходимые и законные способы управления им.
Иными словами, нужно осознать, что такие явления, как власть и война – это не источники насилия, а способы его институционализации. И соответственно – регламентации и ограничения. Насилие как «материя», как «стихия» мира существует вне и помимо них. Они оформляют эту материю и обуздывают эту стихию. Претензии к этим институтам могут касаться того, хороши они или плохи в выполнении своей работы, но не самой их субстанции и не самого факта их существования.
Но разве создание таких агрегатов насилия, как полицейская система, армия, и, прежде всего, само «беллицистское» (то есть не обязательно воинственное, но основанное на реальной возможности войны) государство не обладает своего рода эффектом снежного кома? Разве эти институты, созданные для управления насилием, не будут стремиться умножать его – так же, как бюрократия, созданная, неважно для каких целей, будет тяготеть к тому, чтобы обслуживать сама себя?
Такая возможность определенно есть. Но дело как раз в том, что мы не сможем управлять этим риском перепроизводства насилия, если мы не сможем артикулировать внутреннюю логику и внутреннюю правду институтов, призванных управлять им. Ставя суверенным институтам в вину сам факт их существования, мы лишаемся возможности задать главный вопрос: оказываются ли они на высоте своей миссии и что необходимо для ее выполнения?
Это одна из причин, по которым отрицание власти и войны на уровне мировоззрения логически связано с их злокачественной мутацией на практическом уровне. Объем насилия, практикуемого режимами, считающими войну и политическое господство чем-то временным или незаконным, никак не меньше (а как правило – больше), чем в случае «реалистически мыслящих» государств. Но это насилие, идущее с дополнительной нагрузкой в виде удушливого лицемерия и тоталитаризма.
Одним словом, мы должны быть в контакте с «жестокими фактами» мира для того, чтобы они ежеминутно не заставали нас врасплох или не отравляли наш мир исподволь.
Дуновение трагического
Такого рода взгляд на мир мы называем реалистическим. Но установка на принятие мира таким, каков он есть, содержит в себе и нечто большее. В ней есть уровень, на котором гераклитовская «вражда» предстает не только неизбежным злом, но и созидательной силой («отец вещей»). Этот уровень связан с феноменом трагического.
Как пишет Макс Шелер, трагическое – «это исходящее от самих вещей холодное тяжелое дуновение… и в нем… зарождается определенное свойство мира». [47, с. 8]
Трагический конфликт – это не конфликт между добром и злом, а конфликт между разными «правдами», между разными видами благ.
Аласдер Макинтайр противопоставляет Платону, который считал, что «добродетель не может входить в конфликт с добродетелью», «не могут быть в состоянии войны друг с другом конкурирующие блага», – Софокла, который «систематически исследовал приверженность конкурирующим несовместимым благам». Ровно то, что Платон считал невозможным, «делает возможной трагическую драму». [22, с. 194]
В этом смысле именно трагическое мышление является наиболее сильным противоядием от утопического.
На горизонте утопии – фундаментально бесконфликтный мир. Даже зацикленный на классовом конфликте марксизм выстраивает изощренную аналитику этого структурного конфликта для того, чтобы провозгласить возможность его конечного преодоления. «Бесклассовое общество» – одна из моделей мира, в котором конфликты не носят фундаментального, структурного характера.
В сердцевине трагического мышления, напротив, – представление о фундаментальном статусе конфликта в структуре мира. Как отмечает Шелер, «предмет трагического всегда двойственен: с одной стороны, это стоящее перед нашими глазами событие, с другой – экземплефицированная в нем сущностная конституция мира». [47, с. 17]
Трагедия повествует не о том, что «плохие вещи случаются», а о том, что существует неотвратимость в столкновении «хороших вещей», которые в современной философии принято называть ценностями. «Все, что можно назвать трагическим, находится в сфере движения ценностей», [47, с. 11] – констатирует Шелер. «Трагичен конфликт внутри самих позитивных ценностей и их носителей». [47, с. 14]
Кстати, здесь мы обнаруживаем еще одного оппонента консервативного мировоззрения, куда более «непробиваемого», чем осознанный политический утопизм. Это политический инфантилизм: «святая простота» благонамеренных, склонных выступать «за все хорошее, против всего плохого». Этот аргумент обращен ровно к ним: между разными видами хорошего надо выбирать, между разными видами «хорошего» существует конфликт, и политика является одной из форм его организации.
Вебер говорит в этой связи о «политеизме ценностей», или о «войне богов». В первом приближении эта метафора выражает понимание того, что из нередуцируемого плюрализма ценностей следует неустранимая возможность их конфликта. Однако более фундаментальная посылка гласит, что конфликт – это не следствие плюрализма ценностей, но сам способ их существования. Ценности приводятся к значимости посредством борьбы за признание. Антагонистическая диспозиция – не побочный эффект, а порождающий принцип ценностных содержаний.
Выше мы говорили, что ценности историчны. Это значит не столько то, что они преходящи, сколько то, что они производятся историей как особого рода драматургией: драматургией значащего, интерпретированного и через это наполненного смыслом конфликта.
Мир, лишенный фундаментально-конфликтного измерения, – это обесцененный, выхолощенный и неисторичный мир. Консервативная приверженность «жестоким истинам» прежде всего противостоит этому обесцениванию. Поэтому она лишь на первый взгляд покажется пессимизмом. По сути своей это оптимизм. Как сказал бы Ницше – трагический оптимизм.
Ускользающий гражданский мир
Поль Клодель писал в противовес лозунгу Маркса об изменении мира: «прежде чем изменить мир, важнее было бы не дать ему погибнуть». [18, с. 62] О какой гибели здесь может идти речь? Ядерная зима, экологическая катастрофа? Возможно.
Но мир, который подвержен гибели, – это не только физическое пространство вокруг нас. Это и социальное пространство, некое пространство совместности. Об этом пишет Ханна Арендт как о предпосылке политической формы жизни: мир «как что-то общее для многих людей, что-то, лежащее между ними, разделяющее и связывающее их». [4, с. 75] Такое понимание гражданского мира более фундаментально, чем понятие мира как отсутствия войны.
Мир как соединяющее-и-разделяющее пространство уничтожается не войной, а войной на уничтожение.
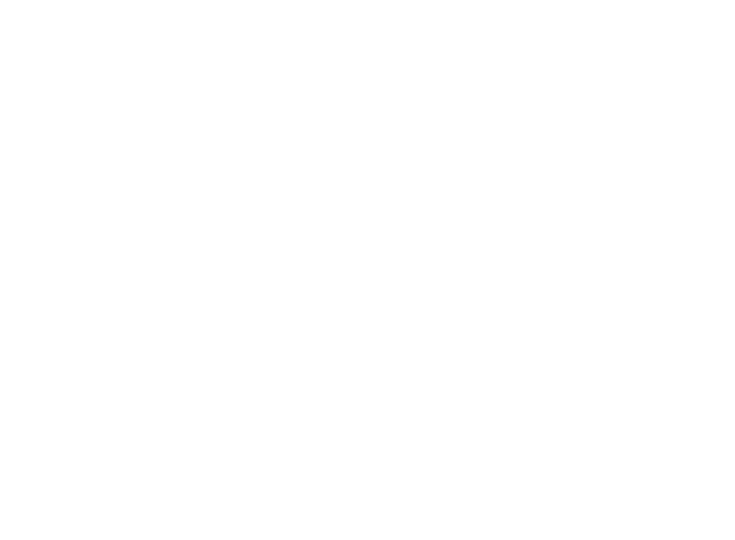
Гражданские войны часто именно таковы – они не ведутся против законного противника, с которым возможно пространство совместности (даже конфликтное). Иногда эту черту перенимают и межгосударственные войны. «В войне на уничтожение, уничтожается не только мир побежденного противника, а нечто гораздо большее: это прежде всего пространство между воюющими сторонами». По мере развертывания тотальной вражды «этот мир отношений превращается в пустыню», отныне не мир, а «пустыня простирается между людьми». [4, с. 182]
В этих словах Ханны Арендт звучит невольная отсылка к афоризму одного из главных действующих лиц Тридцатилетней войны Фердинанда II: «Лучше пустыня, чем страна, населенная еретиками». Под этим лозунгом действовали непримиримые с обеих сторон, и в значительной мере он был воплощен в жизнь. Эпоха религиозных войн произвела в Европе двойное опустошение: не только материальное, но и моральное, выражавшееся в кризисе авторитета духовных и светских властей и остром ощущении невозможности находиться в едином политическом пространстве с конфессиональными оппонентами.
Вестфальская система и абсолютизм были осмысленной и небезуспешной попыткой совладать с этим кризисом. Но дух религиозных войн с тех пор навсегда обосновался в европейской истории. Их ближайшей реинкарнацией стали революционные войны, которые дали повод Берку сказать, что «революционная общность была не государством, а вооруженной доктриной, нерелигиозной, но ведущей себя как организованная религия». [55, с. 104] По мнению Джона Покока, Берк был первым, кто осмыслил приход идеологических войн на смену религиозным.
В этом было консервативное предчувствие фатума современной эпохи. Идеологические войны ХХ века окончательно утвердили современников в мысли, что «современная политика есть гражданская война, проводимая другими средствами». [22, с. 343]
Позиция консерватизма в отношении идеологических гражданский войн ярко выражена в афоризме де Местра: «Люди, сражающиеся за абстрактные принципы, подобны «детям, убивающим друг друга ради того, чтобы выстроить огромный карточный дом». [27, с. 287] Де Местр – страстный и радикальный мыслитель, умеющий ненавидеть и отнюдь не «шокированный насилием», которым изобилует история. Но именно идеологическое насилие ему отвратительно.
Как пишет Марсель Гоше, в политике современного типа «инициатива исходит от левых». [12, с. 71] В вопросах идеологического насилия это утверждение вдвойне справедливо. Силой, которая придает религиозным и идеологическим войнам Нового времени динамику и непримиримость, является тот самый энтузиазм преображения мира, который берет исток в хилиастических движениях и кристаллизуется в утопических идеологиях.
Позиция консерватизма в этом мире перманентной гражданской войны парадоксальна. Он враг религиозных и идеологических войн как таковых. Именно потому, что они не просто «нарушают мир» (хранителей «жестоких истин» это не должно застигать врасплох), а разрушают его социальную онтологию. Но вместе с тем он их неизбежный участник.
Эта двойственность может присутствовать как внутри конкретных консервативных движений, так и воплощаться в консервативных движениях разного типа.
В первом случае она неизбежно ослабляет консерваторов. Можно вспомнить притчу о женщинах, деливших ребенка на суде у Соломона. Консерватизм – та сторона, которой «жалко ребенка» (прежний гражданский мир, целостность страны и общества). Но в истории, к сожалению, нет праведного судьи. Поэтому ее вершителями чаще становятся те, кто «готовы разрезать» объект притязаний.
Характерна в этом отношении гражданская война в России. Между ее участниками – глубокая асимметрия. Для «белых» сам факт гражданской войны – состоявшаяся катастрофа, тяжелая патология, свидетельство конца исторической России. Они ведут ее стоически, и даже если не без надежды на успех, то точно без образа победы (подтверждением чему – пресловутое «непредрешенчество»). Для «красных» все происходящее окрашено в совершенно иные тона: это сбывающееся наяву обетование, первое зарево мирового пожара, первый шаг к новому миру, который возникнет на пепелище. Они наполнены энтузиазмом преображения мира. В такой войне даже проиграть не страшно, поскольку обязательно будет следующая.
Возможна и иная ситуация: приоритет гражданского мира, с одной стороны, и приоритет войны до победного конца (против энтузиастов преображения), с другой, могут воплотиться в разных исторических силах, каждая из которых будет по-своему консервативна. Таков случай религиозных войн. Один консервативный полюс в ней воплощает католическая реакция и Контрреформация, не уступающая противникам в бескомпромиссности и мессианском пафосе. Другой – те, кого во Франции называли партией «политиков».
Она не представляла бы особого интереса, если бы ограничилась призывами к сдержанности в условиях непримиримого конфликта. Но ей удалось найти более действенную стратегию. Это концентрация насилия в руках суверена во имя восстановления гражданского порядка и обеспечение приоритета политической лояльности над религиозной. Это линия Бодена, Гоббса, Ришелье.
Длительные периоды гражданского мира в Европе (Вестфальская система и Венская система, в рамках которых велись ограниченные войны между государствами и были сведены к минимуму религиозно-идеологические войны внутри государств) были явным успехом этой линии. Но ее проведение всегда было делом весьма непростым.
Метафизическая сдержанность
Установка «суверенистов» на сохранение гражданского мира требует сложного баланса.
С одной стороны, суверенитет, который является для нее опорным звеном, без которого она будет лишь бессильной проповедью, не может не предполагать достаточно интенсивной формы интеграции общества. Подданные или граждане должны не только уважать государственную монополию на насилие, но, особенно в случае войны, так или иначе соучаствовать в ней. Это требует определенной степени единодушия.
С другой стороны, требование подлинного единодушия является кратчайшим путем к религиозной или идеологической гражданской войне. Чтобы сохранять мир как пространство сосуществования и равновесия, нужно так или иначе принимать определенную степень фрагментации общества, мириться с незавершенной интеграцией. И в целом, с несовершенствами – сложившихся институтов и особенно других людей (властей, идейных оппонентов, публики).
Это баланс реально-политический, но также и мировоззренческий.
Мировоззренческой предпосылкой этого баланса является характерный для консерватизма приоритет действительности над идеалом (не важно, религиозным или светским). Это общий знаменатель для тех двух принципов, которые лишь на первый взгляд кажутся разнонаправленными: приверженности «жестоким фактам» и приверженности гражданскому миру. В основе каждого из них – спокойное принятие фундаментальных расхождений между людьми и фундаментальных ограничений для практик по преобразованию мира. Отказ от попыток создания «универсального и гармоничного» порядка. Отказ от стремления к совершенному порядку в пользу – просто работающего порядка.
Иными словами, как спокойное принятие реальности войны, так и последовательные усилия по поддержанию мира становятся возможны благодаря тому, что, как говорил Армин Молер, «правые не верят в совершенство» и не пытаются воплотить его в жизнь.
Назовем это – метафизической сдержанностью. Кстати, в ней заключен сильный антитоталитарный ген консерватизма.
Характерно, что в международных отношениях «суверенисты» исповедовали такой же отказ от войны на уничтожение «во имя принципов», как и во внутренних делах.
Они были сторонниками международного мира – не как отсутствия войны, а как «связывающего и разделяющего» народы пространства, которое может быть разрушено тотальной или, как скажет Шмитт, дискриминационной войной (низводящей врага до уровня преступника). Это качественно иное пространство, чем внутренняя публичная сфера государства. Но это тоже – мир, заслуживающий сохранения.
Дадим на этот счет слово «беллицисту» Гегелю: «Вследствие того, что государства взаимно признают друг друга в качестве таковых, так же и в войне, в состоянии бесправия, насилия и случайности, сохраняется связь, в которой они значимы друг для друга… так что в войне сама война определена как нечто долженствующее быть преходящим. Поэтому война содержит в себе определение международного права, устанавливающее, что в войне содержится возможность мира, что, следовательно, послы должны быть неприкосновенны и что война вообще ведется не против внутренних институтов и мирной семейной и частной жизни, не против частных лиц». [11, с. 368]
В этих формулировках – емкий манифест ограниченной войны внутри международной системы, построенной на «реалистических» предпосылках.
А вот мысль «пацифиста» Канта, которую приводит Шмитт в «Номосе земли», как раз в качестве иллюстрации к дискриминационному понятию войны: Кант называет «незаконным врагом» того, чья «публично (все равно, словом или поступком) выраженная воля выскажет максиму, согласно которой, если я сделаю ее всеобщим правилом, состояние мира между народами станет невозможным и навеки установится естественное состояние». [48, с. 212] По отношению к этому hostis injustus «право тех, кому он угрожает или тех, кто ощущает исходящую от него угрозу», по словам Канта «не знает границ».
Шмитт предлагает оценить радикальность этого воинствующего морализма: чтобы попасть в категорию парии человечества, в отношении которого нет запрещенных мер, «достаточно словесно выраженной воли, достаточно того, чтобы это выражение высказывало некую максиму, чтобы оправдать совместную акцию тех, кто ощущает угрозу своей свободе!». [48, с. 213]
Это очень показательный контраст между гегелевской «войной, сохраняющей возможность мира», ограниченной и не разрывающей политико-правовую связь между противниками, и кантовским принципом всеобщего мира, открывающим дорогу, в лучшем случае, уничтожению мира как пространства взаимного признания («незаконный враг»), а в худшем – той самой войне на уничтожение («право не знает границ»).
Нельзя не отметить актуальности этого принципа для сегодняшней «кантианской» Европы. И это еще один пример того, что идеалистическое отторжение «жестоких истин» чревато эскалацией жестокости, истеричной и лицемерной.
Традиция как заслон против хаоса
Пора перейти от порядка политического и полицейского на более глубокий уровень. К порядку самой реальности, формируемой в рамках коллективного опыта. Это фундаментальное социологическое понимание мира, дающее более сложное представление о том, что именно в нем может быть объектом разрушения и объектом сохранения.
«Все животные, кроме людей… живут в закрытых мирах, структуры которых предопределены биологическим оснащением отдельных видов животных». [6, с. 81] Человек, напротив, сам творит свой мир. Разумеется, не как индивид, а как человеческое сообщество. Точнее – сообщества: «любое человеческое сообщество занимается строительством собственного мира», а «способы становления и существования человека столь же многочисленны, как и человеческие культуры». [6, с. 13]
С этих тезисов, почерпнутых из антропологии Арнольда Гелена, начинается изложение концепции социального конструирования реальности Питера Бергера и Томаса Лукмана. Ее значение для нашего рассуждения в том, что она дает модель описания того, как мир, или освоенная человеком реальность, конструируется – а значит, и деконструируется – в рамках широко понятой человеческой деятельности. В наиболее общем определении – в рамках процессов институционализации. И соответственно – деинституционализации.
Иными словами, мир «собирается» и «распадается» в ходе общественной жизни человека. Это значит, в свою очередь, что по отношению к обеим фазам этого процесса может быть занята позиция, что они могут быть объектом мировоззренческой установки.
Установка на сохранение мира – это установка на поддержание той когнитивной, символической и нормативной структуры, которую мы находим в своей культуре и посредством которой, собственно, и создается наш мир.
Гадамер называет такую структуру – просто традицией. «Традиция, к которой мы принадлежим и в которой живем, – это… не так называемое предание, которое тогда состояло бы из одних памятников и текстов… Нет, нам непосредственно передается… сам познаваемый в коммуникативном опыте мир». [9, с. 14]
Учитывая, что понятие традиции многогранно и многозначно, Бергер в работе по социологии религии предлагает более специализированный термин. Он называет такую структуру «номосом». Это то, что формирует как пространство общественных институтов, так и индивидуальное сознание. То, что позволяет справляться с «пограничными ситуациями человеческого опыта» («легитимация реальности социального мира перед лицом смерти является существенным требованием в любом обществе» [5, с. 58]). То, что формирует институциональные программы, позволяющие человеку определять себя («…от индивида не только ожидается, что он будет выполнять роль мужа, отца или дяди, но требуется, чтобы он… был мужчиной, каким бы смыслом ни обладал этот термин в том или ином обществе» [5, с. 26]).
В совокупности, все это позволяет вносить в человеческую действительность «порядок» и «смысл».
Вместе с тем, эта структура всегда испытывает давление со стороны тех сил, которые она призвана держать под контролем. «Каждый номос – это система, воздвигнутая против мощных и чуждых сил хаоса». [5, с. 37]
Бергер отдельно подчеркивает это: «Все социально сконструированные миры в своей основе неустойчивы». [5, с. 42] Отсюда чувство тревоги, неотъемлемое от установки на сохранение мира как социального номоса. Как мы уже говорили, для консервативного сознания хаос всегда на пороге.
Характерны в этом отношении слова Победоносцева, который остро чувствовал и выражал эту тревогу: «…человек нового мира составлен из тех же стихий, стоит, как и прежде, на самом рубеже хаоса, и не выходит из кризиса, в котором находилось человечество постоянно, с первой минуты бытия своего. Одна черта, одно мгновение — и может открыться перед нами и около нас тот хаос, от которого отделяет нас тонкая, щегольская и обольстительная перегородка цивилизации». [42, с. 86]
Понятно, что Победоносцев мыслил и жил перед лицом революционного фатума своей эпохи. Но в его словах звучит нечто больше, чем пафос контрреволюции. Это рефлексия фундаментальной структуры человеческого мира.
Под хаосом, заслоном от которого служит «тонкая перегородка цивилизации», следует понимать не только моменты безвластия и беззакония, которые периодически возникают в человеческой истории, но и деструктивные импульсы человеческой природы, которые с нами ежеминутно.
Здесь можно вспомнить о концепции первородного греха. Де Местр выражался на этот счет очень категорично: «человек, если его предоставить самому себе, слишком зол, чтобы быть свободным». [29, с. 27] В этой логике институциональные ограничения должны поставить предел живущему в человеке злу. Но эта логика кажется упрощенной.
Смысл консервативной антропологии не в том, что «человек слишком зол» и потому нуждается во внутренней дисциплине социальных институтов. А в том, что внутренняя дисциплина социальных институтов – это и есть способ быть человеком. Человек как таковой нуждается в ограничениях. Он в своем генезисе создан запретами. Например, табу на инцест и другими многочисленными табу, которые некогда структурировали человеческий мир и выделили его из природного.
Под спудом этих ограничений всегда живет нечто, что Дюркгейм называл «внутренним ядом беспредельных стремлений». [14, с. 136] С точки зрения фрейдомарксизма, стихия «беспредельных стремлений» – это то, что общество подавляет. С точки зрения консервативной антропологии и социологии, это то, с чем общество позволяет справляться.
Наиболее проработана в этом отношении концепция все того же Гелена, который видит в человеке «нестабильное, перегруженное аффектами существо», которое, «чтобы быть в состоянии вынести самого себя и обеспечить взаимное выживание людей», должно опираться на социальные институты как «исторически обусловленные способы решения жизненно важных проблем». [31, с. 336] Они «разгружают» человека от избытка аффективных импульсов, возбуждений со стороны окружающего мира; восполняют дефицит инстинктивной регуляции. И выполняют эту роль тем успешнее, чем в большей степени способны действовать «автоматически», не оставляя места для рефлексии, сомнения и дистанцирования от них.
Но все перечисленное как раз нередко имеет место и ослабляет внутреннюю гравитацию институтов. «Институционализация не является необратимым процессом». [6, с. 135] Это одна из причин, по которой «институциональному миру требуется легитимация, то есть способы его «объяснения» и оправдания». [6, с. 103]
Вызов аномии
Важнейшим из таких способов является религия. Если «каждое общество, - пишет Бергер, - работает над проектом… по строительству осмысленного с точки зрения человека мира», то именно религия играет в этом проекте центральную, «стратегическую роль». Через нее «человеческий порядок проецируется на целостность бытия», т.е. возникает мир как «космос». [5, с. 41]
Консерватизм часто неразборчиво отождествляют с религией. Тем важнее увидеть, в чем именно та установка, о которой мы говорим как о мировоззренческом ядре консерватизма, сопрягается с религиозностью. Точкой такого сопряжения является мирообразующая роль религии, ее способность поддерживать социальный номос. Это не просто легитимация морали, о которой так много говорили на фоне кризиса христианства в эпоху Просвещения. Это легитимация базовых институциональных программ, из которых «собран» человек и его общество.
Как скажет Кортес, «благодаря католицизму в человеке утвердился порядок». [21, с. 102] Разумеется, эта формула касается не только католицизма, а любой проработанной религиозной традиции, включающей человека в контекст мироздания. Для выполнения этой функции подкрепляемая религией картина мира должна не столько требовать веры, сколько обладать достоверностью.
На этой почве разыгрывается драма христианского мира в эпоху модерна. Он сталкивается не с кризисом веры (напротив, историки говорят о «приливе веры» в начале Нового времени [49, с. 401]), а с глубоким кризисом достоверности религии и той структуры мира, которая была через нее опосредована.
Причины и симптомы этой утраты достоверности требуют отдельного разговора (Ханна Арендт называет это «загадкой внезапного неоспоримого обмирщения» [3, с. 105]). Но зафиксируем важное следствие. Шаткость религиозно очерченного «космоса» не могла не перейти на публичные социальные институты и личностные «институциональные программы», которые были легитимированы в качестве его элементов. «Если Бога нет, то какой же я штабс-капитан», - говорит герой Достоевского.
Дюркгейм в «Самоубийстве» рассуждает о влиянии, которое ослабление религиозной традиции оказывает на характер социальной интеграции (повышая, в тенденции, склонность к самоубийству). Кризис религиозной традиции – один из факторов той социальной дезинтеграции, которую он называет аномией.
Состояние аномии закономерно возникает на переходе от «традиционного общества» к «современному», если, с некоторой долей условности, использовать это социологическое клише, в логике которого «современное» общество отличается от традиционного тем, что не может или не хочет следовать заранее установленным образцам.
Можно пойти дальше: то, что перестало быть частью установленного свыше «порядка вещей», становится проблемой и предметом борьбы. Ареной борьбы становится не только устройство власти и публичной сферы, а состав и содержание тех самых «институциональных программ» (в том числе гендерных и семейных), определяющих человека.
Марсель Гоше пишет в этой связи о том, что современная эпоха обречена на вечную борьбу между «социализацией» (то есть производством и поддержанием институциональных программ) и «эмансипацией» (то есть их «преодолением» и дистанцированием от них). [12, с. 111]
В этих словах Ханны Арендт звучит невольная отсылка к афоризму одного из главных действующих лиц Тридцатилетней войны Фердинанда II: «Лучше пустыня, чем страна, населенная еретиками». Под этим лозунгом действовали непримиримые с обеих сторон, и в значительной мере он был воплощен в жизнь. Эпоха религиозных войн произвела в Европе двойное опустошение: не только материальное, но и моральное, выражавшееся в кризисе авторитета духовных и светских властей и остром ощущении невозможности находиться в едином политическом пространстве с конфессиональными оппонентами.
Вестфальская система и абсолютизм были осмысленной и небезуспешной попыткой совладать с этим кризисом. Но дух религиозных войн с тех пор навсегда обосновался в европейской истории. Их ближайшей реинкарнацией стали революционные войны, которые дали повод Берку сказать, что «революционная общность была не государством, а вооруженной доктриной, нерелигиозной, но ведущей себя как организованная религия». [55, с. 104] По мнению Джона Покока, Берк был первым, кто осмыслил приход идеологических войн на смену религиозным.
В этом было консервативное предчувствие фатума современной эпохи. Идеологические войны ХХ века окончательно утвердили современников в мысли, что «современная политика есть гражданская война, проводимая другими средствами». [22, с. 343]
Позиция консерватизма в отношении идеологических гражданский войн ярко выражена в афоризме де Местра: «Люди, сражающиеся за абстрактные принципы, подобны «детям, убивающим друг друга ради того, чтобы выстроить огромный карточный дом». [27, с. 287] Де Местр – страстный и радикальный мыслитель, умеющий ненавидеть и отнюдь не «шокированный насилием», которым изобилует история. Но именно идеологическое насилие ему отвратительно.
Как пишет Марсель Гоше, в политике современного типа «инициатива исходит от левых». [12, с. 71] В вопросах идеологического насилия это утверждение вдвойне справедливо. Силой, которая придает религиозным и идеологическим войнам Нового времени динамику и непримиримость, является тот самый энтузиазм преображения мира, который берет исток в хилиастических движениях и кристаллизуется в утопических идеологиях.
Позиция консерватизма в этом мире перманентной гражданской войны парадоксальна. Он враг религиозных и идеологических войн как таковых. Именно потому, что они не просто «нарушают мир» (хранителей «жестоких истин» это не должно застигать врасплох), а разрушают его социальную онтологию. Но вместе с тем он их неизбежный участник.
Эта двойственность может присутствовать как внутри конкретных консервативных движений, так и воплощаться в консервативных движениях разного типа.
В первом случае она неизбежно ослабляет консерваторов. Можно вспомнить притчу о женщинах, деливших ребенка на суде у Соломона. Консерватизм – та сторона, которой «жалко ребенка» (прежний гражданский мир, целостность страны и общества). Но в истории, к сожалению, нет праведного судьи. Поэтому ее вершителями чаще становятся те, кто «готовы разрезать» объект притязаний.
Характерна в этом отношении гражданская война в России. Между ее участниками – глубокая асимметрия. Для «белых» сам факт гражданской войны – состоявшаяся катастрофа, тяжелая патология, свидетельство конца исторической России. Они ведут ее стоически, и даже если не без надежды на успех, то точно без образа победы (подтверждением чему – пресловутое «непредрешенчество»). Для «красных» все происходящее окрашено в совершенно иные тона: это сбывающееся наяву обетование, первое зарево мирового пожара, первый шаг к новому миру, который возникнет на пепелище. Они наполнены энтузиазмом преображения мира. В такой войне даже проиграть не страшно, поскольку обязательно будет следующая.
Возможна и иная ситуация: приоритет гражданского мира, с одной стороны, и приоритет войны до победного конца (против энтузиастов преображения), с другой, могут воплотиться в разных исторических силах, каждая из которых будет по-своему консервативна. Таков случай религиозных войн. Один консервативный полюс в ней воплощает католическая реакция и Контрреформация, не уступающая противникам в бескомпромиссности и мессианском пафосе. Другой – те, кого во Франции называли партией «политиков».
Она не представляла бы особого интереса, если бы ограничилась призывами к сдержанности в условиях непримиримого конфликта. Но ей удалось найти более действенную стратегию. Это концентрация насилия в руках суверена во имя восстановления гражданского порядка и обеспечение приоритета политической лояльности над религиозной. Это линия Бодена, Гоббса, Ришелье.
Длительные периоды гражданского мира в Европе (Вестфальская система и Венская система, в рамках которых велись ограниченные войны между государствами и были сведены к минимуму религиозно-идеологические войны внутри государств) были явным успехом этой линии. Но ее проведение всегда было делом весьма непростым.
Метафизическая сдержанность
Установка «суверенистов» на сохранение гражданского мира требует сложного баланса.
С одной стороны, суверенитет, который является для нее опорным звеном, без которого она будет лишь бессильной проповедью, не может не предполагать достаточно интенсивной формы интеграции общества. Подданные или граждане должны не только уважать государственную монополию на насилие, но, особенно в случае войны, так или иначе соучаствовать в ней. Это требует определенной степени единодушия.
С другой стороны, требование подлинного единодушия является кратчайшим путем к религиозной или идеологической гражданской войне. Чтобы сохранять мир как пространство сосуществования и равновесия, нужно так или иначе принимать определенную степень фрагментации общества, мириться с незавершенной интеграцией. И в целом, с несовершенствами – сложившихся институтов и особенно других людей (властей, идейных оппонентов, публики).
Это баланс реально-политический, но также и мировоззренческий.
Мировоззренческой предпосылкой этого баланса является характерный для консерватизма приоритет действительности над идеалом (не важно, религиозным или светским). Это общий знаменатель для тех двух принципов, которые лишь на первый взгляд кажутся разнонаправленными: приверженности «жестоким фактам» и приверженности гражданскому миру. В основе каждого из них – спокойное принятие фундаментальных расхождений между людьми и фундаментальных ограничений для практик по преобразованию мира. Отказ от попыток создания «универсального и гармоничного» порядка. Отказ от стремления к совершенному порядку в пользу – просто работающего порядка.
Иными словами, как спокойное принятие реальности войны, так и последовательные усилия по поддержанию мира становятся возможны благодаря тому, что, как говорил Армин Молер, «правые не верят в совершенство» и не пытаются воплотить его в жизнь.
Назовем это – метафизической сдержанностью. Кстати, в ней заключен сильный антитоталитарный ген консерватизма.
Характерно, что в международных отношениях «суверенисты» исповедовали такой же отказ от войны на уничтожение «во имя принципов», как и во внутренних делах.
Они были сторонниками международного мира – не как отсутствия войны, а как «связывающего и разделяющего» народы пространства, которое может быть разрушено тотальной или, как скажет Шмитт, дискриминационной войной (низводящей врага до уровня преступника). Это качественно иное пространство, чем внутренняя публичная сфера государства. Но это тоже – мир, заслуживающий сохранения.
Дадим на этот счет слово «беллицисту» Гегелю: «Вследствие того, что государства взаимно признают друг друга в качестве таковых, так же и в войне, в состоянии бесправия, насилия и случайности, сохраняется связь, в которой они значимы друг для друга… так что в войне сама война определена как нечто долженствующее быть преходящим. Поэтому война содержит в себе определение международного права, устанавливающее, что в войне содержится возможность мира, что, следовательно, послы должны быть неприкосновенны и что война вообще ведется не против внутренних институтов и мирной семейной и частной жизни, не против частных лиц». [11, с. 368]
В этих формулировках – емкий манифест ограниченной войны внутри международной системы, построенной на «реалистических» предпосылках.
А вот мысль «пацифиста» Канта, которую приводит Шмитт в «Номосе земли», как раз в качестве иллюстрации к дискриминационному понятию войны: Кант называет «незаконным врагом» того, чья «публично (все равно, словом или поступком) выраженная воля выскажет максиму, согласно которой, если я сделаю ее всеобщим правилом, состояние мира между народами станет невозможным и навеки установится естественное состояние». [48, с. 212] По отношению к этому hostis injustus «право тех, кому он угрожает или тех, кто ощущает исходящую от него угрозу», по словам Канта «не знает границ».
Шмитт предлагает оценить радикальность этого воинствующего морализма: чтобы попасть в категорию парии человечества, в отношении которого нет запрещенных мер, «достаточно словесно выраженной воли, достаточно того, чтобы это выражение высказывало некую максиму, чтобы оправдать совместную акцию тех, кто ощущает угрозу своей свободе!». [48, с. 213]
Это очень показательный контраст между гегелевской «войной, сохраняющей возможность мира», ограниченной и не разрывающей политико-правовую связь между противниками, и кантовским принципом всеобщего мира, открывающим дорогу, в лучшем случае, уничтожению мира как пространства взаимного признания («незаконный враг»), а в худшем – той самой войне на уничтожение («право не знает границ»).
Нельзя не отметить актуальности этого принципа для сегодняшней «кантианской» Европы. И это еще один пример того, что идеалистическое отторжение «жестоких истин» чревато эскалацией жестокости, истеричной и лицемерной.
Традиция как заслон против хаоса
Пора перейти от порядка политического и полицейского на более глубокий уровень. К порядку самой реальности, формируемой в рамках коллективного опыта. Это фундаментальное социологическое понимание мира, дающее более сложное представление о том, что именно в нем может быть объектом разрушения и объектом сохранения.
«Все животные, кроме людей… живут в закрытых мирах, структуры которых предопределены биологическим оснащением отдельных видов животных». [6, с. 81] Человек, напротив, сам творит свой мир. Разумеется, не как индивид, а как человеческое сообщество. Точнее – сообщества: «любое человеческое сообщество занимается строительством собственного мира», а «способы становления и существования человека столь же многочисленны, как и человеческие культуры». [6, с. 13]
С этих тезисов, почерпнутых из антропологии Арнольда Гелена, начинается изложение концепции социального конструирования реальности Питера Бергера и Томаса Лукмана. Ее значение для нашего рассуждения в том, что она дает модель описания того, как мир, или освоенная человеком реальность, конструируется – а значит, и деконструируется – в рамках широко понятой человеческой деятельности. В наиболее общем определении – в рамках процессов институционализации. И соответственно – деинституционализации.
Иными словами, мир «собирается» и «распадается» в ходе общественной жизни человека. Это значит, в свою очередь, что по отношению к обеим фазам этого процесса может быть занята позиция, что они могут быть объектом мировоззренческой установки.
Установка на сохранение мира – это установка на поддержание той когнитивной, символической и нормативной структуры, которую мы находим в своей культуре и посредством которой, собственно, и создается наш мир.
Гадамер называет такую структуру – просто традицией. «Традиция, к которой мы принадлежим и в которой живем, – это… не так называемое предание, которое тогда состояло бы из одних памятников и текстов… Нет, нам непосредственно передается… сам познаваемый в коммуникативном опыте мир». [9, с. 14]
Учитывая, что понятие традиции многогранно и многозначно, Бергер в работе по социологии религии предлагает более специализированный термин. Он называет такую структуру «номосом». Это то, что формирует как пространство общественных институтов, так и индивидуальное сознание. То, что позволяет справляться с «пограничными ситуациями человеческого опыта» («легитимация реальности социального мира перед лицом смерти является существенным требованием в любом обществе» [5, с. 58]). То, что формирует институциональные программы, позволяющие человеку определять себя («…от индивида не только ожидается, что он будет выполнять роль мужа, отца или дяди, но требуется, чтобы он… был мужчиной, каким бы смыслом ни обладал этот термин в том или ином обществе» [5, с. 26]).
В совокупности, все это позволяет вносить в человеческую действительность «порядок» и «смысл».
Вместе с тем, эта структура всегда испытывает давление со стороны тех сил, которые она призвана держать под контролем. «Каждый номос – это система, воздвигнутая против мощных и чуждых сил хаоса». [5, с. 37]
Бергер отдельно подчеркивает это: «Все социально сконструированные миры в своей основе неустойчивы». [5, с. 42] Отсюда чувство тревоги, неотъемлемое от установки на сохранение мира как социального номоса. Как мы уже говорили, для консервативного сознания хаос всегда на пороге.
Характерны в этом отношении слова Победоносцева, который остро чувствовал и выражал эту тревогу: «…человек нового мира составлен из тех же стихий, стоит, как и прежде, на самом рубеже хаоса, и не выходит из кризиса, в котором находилось человечество постоянно, с первой минуты бытия своего. Одна черта, одно мгновение — и может открыться перед нами и около нас тот хаос, от которого отделяет нас тонкая, щегольская и обольстительная перегородка цивилизации». [42, с. 86]
Понятно, что Победоносцев мыслил и жил перед лицом революционного фатума своей эпохи. Но в его словах звучит нечто больше, чем пафос контрреволюции. Это рефлексия фундаментальной структуры человеческого мира.
Под хаосом, заслоном от которого служит «тонкая перегородка цивилизации», следует понимать не только моменты безвластия и беззакония, которые периодически возникают в человеческой истории, но и деструктивные импульсы человеческой природы, которые с нами ежеминутно.
Здесь можно вспомнить о концепции первородного греха. Де Местр выражался на этот счет очень категорично: «человек, если его предоставить самому себе, слишком зол, чтобы быть свободным». [29, с. 27] В этой логике институциональные ограничения должны поставить предел живущему в человеке злу. Но эта логика кажется упрощенной.
Смысл консервативной антропологии не в том, что «человек слишком зол» и потому нуждается во внутренней дисциплине социальных институтов. А в том, что внутренняя дисциплина социальных институтов – это и есть способ быть человеком. Человек как таковой нуждается в ограничениях. Он в своем генезисе создан запретами. Например, табу на инцест и другими многочисленными табу, которые некогда структурировали человеческий мир и выделили его из природного.
Под спудом этих ограничений всегда живет нечто, что Дюркгейм называл «внутренним ядом беспредельных стремлений». [14, с. 136] С точки зрения фрейдомарксизма, стихия «беспредельных стремлений» – это то, что общество подавляет. С точки зрения консервативной антропологии и социологии, это то, с чем общество позволяет справляться.
Наиболее проработана в этом отношении концепция все того же Гелена, который видит в человеке «нестабильное, перегруженное аффектами существо», которое, «чтобы быть в состоянии вынести самого себя и обеспечить взаимное выживание людей», должно опираться на социальные институты как «исторически обусловленные способы решения жизненно важных проблем». [31, с. 336] Они «разгружают» человека от избытка аффективных импульсов, возбуждений со стороны окружающего мира; восполняют дефицит инстинктивной регуляции. И выполняют эту роль тем успешнее, чем в большей степени способны действовать «автоматически», не оставляя места для рефлексии, сомнения и дистанцирования от них.
Но все перечисленное как раз нередко имеет место и ослабляет внутреннюю гравитацию институтов. «Институционализация не является необратимым процессом». [6, с. 135] Это одна из причин, по которой «институциональному миру требуется легитимация, то есть способы его «объяснения» и оправдания». [6, с. 103]
Вызов аномии
Важнейшим из таких способов является религия. Если «каждое общество, - пишет Бергер, - работает над проектом… по строительству осмысленного с точки зрения человека мира», то именно религия играет в этом проекте центральную, «стратегическую роль». Через нее «человеческий порядок проецируется на целостность бытия», т.е. возникает мир как «космос». [5, с. 41]
Консерватизм часто неразборчиво отождествляют с религией. Тем важнее увидеть, в чем именно та установка, о которой мы говорим как о мировоззренческом ядре консерватизма, сопрягается с религиозностью. Точкой такого сопряжения является мирообразующая роль религии, ее способность поддерживать социальный номос. Это не просто легитимация морали, о которой так много говорили на фоне кризиса христианства в эпоху Просвещения. Это легитимация базовых институциональных программ, из которых «собран» человек и его общество.
Как скажет Кортес, «благодаря католицизму в человеке утвердился порядок». [21, с. 102] Разумеется, эта формула касается не только католицизма, а любой проработанной религиозной традиции, включающей человека в контекст мироздания. Для выполнения этой функции подкрепляемая религией картина мира должна не столько требовать веры, сколько обладать достоверностью.
На этой почве разыгрывается драма христианского мира в эпоху модерна. Он сталкивается не с кризисом веры (напротив, историки говорят о «приливе веры» в начале Нового времени [49, с. 401]), а с глубоким кризисом достоверности религии и той структуры мира, которая была через нее опосредована.
Причины и симптомы этой утраты достоверности требуют отдельного разговора (Ханна Арендт называет это «загадкой внезапного неоспоримого обмирщения» [3, с. 105]). Но зафиксируем важное следствие. Шаткость религиозно очерченного «космоса» не могла не перейти на публичные социальные институты и личностные «институциональные программы», которые были легитимированы в качестве его элементов. «Если Бога нет, то какой же я штабс-капитан», - говорит герой Достоевского.
Дюркгейм в «Самоубийстве» рассуждает о влиянии, которое ослабление религиозной традиции оказывает на характер социальной интеграции (повышая, в тенденции, склонность к самоубийству). Кризис религиозной традиции – один из факторов той социальной дезинтеграции, которую он называет аномией.
Состояние аномии закономерно возникает на переходе от «традиционного общества» к «современному», если, с некоторой долей условности, использовать это социологическое клише, в логике которого «современное» общество отличается от традиционного тем, что не может или не хочет следовать заранее установленным образцам.
Можно пойти дальше: то, что перестало быть частью установленного свыше «порядка вещей», становится проблемой и предметом борьбы. Ареной борьбы становится не только устройство власти и публичной сферы, а состав и содержание тех самых «институциональных программ» (в том числе гендерных и семейных), определяющих человека.
Марсель Гоше пишет в этой связи о том, что современная эпоха обречена на вечную борьбу между «социализацией» (то есть производством и поддержанием институциональных программ) и «эмансипацией» (то есть их «преодолением» и дистанцированием от них). [12, с. 111]
Гражданские войны часто именно таковы – они не ведутся против законного противника, с которым возможно пространство совместности (даже конфликтное). Иногда эту черту перенимают и межгосударственные войны. «В войне на уничтожение, уничтожается не только мир побежденного противника, а нечто гораздо большее: это прежде всего пространство между воюющими сторонами». По мере развертывания тотальной вражды «этот мир отношений превращается в пустыню», отныне не мир, а «пустыня простирается между людьми». [4, с. 182]
В этих словах Ханны Арендт звучит невольная отсылка к афоризму одного из главных действующих лиц Тридцатилетней войны Фердинанда II: «Лучше пустыня, чем страна, населенная еретиками». Под этим лозунгом действовали непримиримые с обеих сторон, и в значительной мере он был воплощен в жизнь. Эпоха религиозных войн произвела в Европе двойное опустошение: не только материальное, но и моральное, выражавшееся в кризисе авторитета духовных и светских властей и остром ощущении невозможности находиться в едином политическом пространстве с конфессиональными оппонентами.
Вестфальская система и абсолютизм были осмысленной и небезуспешной попыткой совладать с этим кризисом. Но дух религиозных войн с тех пор навсегда обосновался в европейской истории. Их ближайшей реинкарнацией стали революционные войны, которые дали повод Берку сказать, что «революционная общность была не государством, а вооруженной доктриной, нерелигиозной, но ведущей себя как организованная религия». [55, с. 104] По мнению Джона Покока, Берк был первым, кто осмыслил приход идеологических войн на смену религиозным.
В этом было консервативное предчувствие фатума современной эпохи. Идеологические войны ХХ века окончательно утвердили современников в мысли, что «современная политика есть гражданская война, проводимая другими средствами». [22, с. 343]
Позиция консерватизма в отношении идеологических гражданский войн ярко выражена в афоризме де Местра: «Люди, сражающиеся за абстрактные принципы, подобны «детям, убивающим друг друга ради того, чтобы выстроить огромный карточный дом». [27, с. 287] Де Местр – страстный и радикальный мыслитель, умеющий ненавидеть и отнюдь не «шокированный насилием», которым изобилует история. Но именно идеологическое насилие ему отвратительно.
Как пишет Марсель Гоше, в политике современного типа «инициатива исходит от левых». [12, с. 71] В вопросах идеологического насилия это утверждение вдвойне справедливо. Силой, которая придает религиозным и идеологическим войнам Нового времени динамику и непримиримость, является тот самый энтузиазм преображения мира, который берет исток в хилиастических движениях и кристаллизуется в утопических идеологиях.
Позиция консерватизма в этом мире перманентной гражданской войны парадоксальна. Он враг религиозных и идеологических войн как таковых. Именно потому, что они не просто «нарушают мир» (хранителей «жестоких истин» это не должно застигать врасплох), а разрушают его социальную онтологию. Но вместе с тем он их неизбежный участник.
Эта двойственность может присутствовать как внутри конкретных консервативных движений, так и воплощаться в консервативных движениях разного типа.
В первом случае она неизбежно ослабляет консерваторов. Можно вспомнить притчу о женщинах, деливших ребенка на суде у Соломона. Консерватизм – та сторона, которой «жалко ребенка» (прежний гражданский мир, целостность страны и общества). Но в истории, к сожалению, нет праведного судьи. Поэтому ее вершителями чаще становятся те, кто «готовы разрезать» объект притязаний.
Характерна в этом отношении гражданская война в России. Между ее участниками – глубокая асимметрия. Для «белых» сам факт гражданской войны – состоявшаяся катастрофа, тяжелая патология, свидетельство конца исторической России. Они ведут ее стоически, и даже если не без надежды на успех, то точно без образа победы (подтверждением чему – пресловутое «непредрешенчество»). Для «красных» все происходящее окрашено в совершенно иные тона: это сбывающееся наяву обетование, первое зарево мирового пожара, первый шаг к новому миру, который возникнет на пепелище. Они наполнены энтузиазмом преображения мира. В такой войне даже проиграть не страшно, поскольку обязательно будет следующая.
Возможна и иная ситуация: приоритет гражданского мира, с одной стороны, и приоритет войны до победного конца (против энтузиастов преображения), с другой, могут воплотиться в разных исторических силах, каждая из которых будет по-своему консервативна. Таков случай религиозных войн. Один консервативный полюс в ней воплощает католическая реакция и Контрреформация, не уступающая противникам в бескомпромиссности и мессианском пафосе. Другой – те, кого во Франции называли партией «политиков».
Она не представляла бы особого интереса, если бы ограничилась призывами к сдержанности в условиях непримиримого конфликта. Но ей удалось найти более действенную стратегию. Это концентрация насилия в руках суверена во имя восстановления гражданского порядка и обеспечение приоритета политической лояльности над религиозной. Это линия Бодена, Гоббса, Ришелье.
Длительные периоды гражданского мира в Европе (Вестфальская система и Венская система, в рамках которых велись ограниченные войны между государствами и были сведены к минимуму религиозно-идеологические войны внутри государств) были явным успехом этой линии. Но ее проведение всегда было делом весьма непростым.
Метафизическая сдержанность
Установка «суверенистов» на сохранение гражданского мира требует сложного баланса.
С одной стороны, суверенитет, который является для нее опорным звеном, без которого она будет лишь бессильной проповедью, не может не предполагать достаточно интенсивной формы интеграции общества. Подданные или граждане должны не только уважать государственную монополию на насилие, но, особенно в случае войны, так или иначе соучаствовать в ней. Это требует определенной степени единодушия.
С другой стороны, требование подлинного единодушия является кратчайшим путем к религиозной или идеологической гражданской войне. Чтобы сохранять мир как пространство сосуществования и равновесия, нужно так или иначе принимать определенную степень фрагментации общества, мириться с незавершенной интеграцией. И в целом, с несовершенствами – сложившихся институтов и особенно других людей (властей, идейных оппонентов, публики).
Это баланс реально-политический, но также и мировоззренческий.
Мировоззренческой предпосылкой этого баланса является характерный для консерватизма приоритет действительности над идеалом (не важно, религиозным или светским). Это общий знаменатель для тех двух принципов, которые лишь на первый взгляд кажутся разнонаправленными: приверженности «жестоким фактам» и приверженности гражданскому миру. В основе каждого из них – спокойное принятие фундаментальных расхождений между людьми и фундаментальных ограничений для практик по преобразованию мира. Отказ от попыток создания «универсального и гармоничного» порядка. Отказ от стремления к совершенному порядку в пользу – просто работающего порядка.
Иными словами, как спокойное принятие реальности войны, так и последовательные усилия по поддержанию мира становятся возможны благодаря тому, что, как говорил Армин Молер, «правые не верят в совершенство» и не пытаются воплотить его в жизнь.
Назовем это – метафизической сдержанностью. Кстати, в ней заключен сильный антитоталитарный ген консерватизма.
Характерно, что в международных отношениях «суверенисты» исповедовали такой же отказ от войны на уничтожение «во имя принципов», как и во внутренних делах.
Они были сторонниками международного мира – не как отсутствия войны, а как «связывающего и разделяющего» народы пространства, которое может быть разрушено тотальной или, как скажет Шмитт, дискриминационной войной (низводящей врага до уровня преступника). Это качественно иное пространство, чем внутренняя публичная сфера государства. Но это тоже – мир, заслуживающий сохранения.
Дадим на этот счет слово «беллицисту» Гегелю: «Вследствие того, что государства взаимно признают друг друга в качестве таковых, так же и в войне, в состоянии бесправия, насилия и случайности, сохраняется связь, в которой они значимы друг для друга… так что в войне сама война определена как нечто долженствующее быть преходящим. Поэтому война содержит в себе определение международного права, устанавливающее, что в войне содержится возможность мира, что, следовательно, послы должны быть неприкосновенны и что война вообще ведется не против внутренних институтов и мирной семейной и частной жизни, не против частных лиц». [11, с. 368]
В этих формулировках – емкий манифест ограниченной войны внутри международной системы, построенной на «реалистических» предпосылках.
А вот мысль «пацифиста» Канта, которую приводит Шмитт в «Номосе земли», как раз в качестве иллюстрации к дискриминационному понятию войны: Кант называет «незаконным врагом» того, чья «публично (все равно, словом или поступком) выраженная воля выскажет максиму, согласно которой, если я сделаю ее всеобщим правилом, состояние мира между народами станет невозможным и навеки установится естественное состояние». [48, с. 212] По отношению к этому hostis injustus «право тех, кому он угрожает или тех, кто ощущает исходящую от него угрозу», по словам Канта «не знает границ».
Шмитт предлагает оценить радикальность этого воинствующего морализма: чтобы попасть в категорию парии человечества, в отношении которого нет запрещенных мер, «достаточно словесно выраженной воли, достаточно того, чтобы это выражение высказывало некую максиму, чтобы оправдать совместную акцию тех, кто ощущает угрозу своей свободе!». [48, с. 213]
Это очень показательный контраст между гегелевской «войной, сохраняющей возможность мира», ограниченной и не разрывающей политико-правовую связь между противниками, и кантовским принципом всеобщего мира, открывающим дорогу, в лучшем случае, уничтожению мира как пространства взаимного признания («незаконный враг»), а в худшем – той самой войне на уничтожение («право не знает границ»).
Нельзя не отметить актуальности этого принципа для сегодняшней «кантианской» Европы. И это еще один пример того, что идеалистическое отторжение «жестоких истин» чревато эскалацией жестокости, истеричной и лицемерной.
Традиция как заслон против хаоса
Пора перейти от порядка политического и полицейского на более глубокий уровень. К порядку самой реальности, формируемой в рамках коллективного опыта. Это фундаментальное социологическое понимание мира, дающее более сложное представление о том, что именно в нем может быть объектом разрушения и объектом сохранения.
«Все животные, кроме людей… живут в закрытых мирах, структуры которых предопределены биологическим оснащением отдельных видов животных». [6, с. 81] Человек, напротив, сам творит свой мир. Разумеется, не как индивид, а как человеческое сообщество. Точнее – сообщества: «любое человеческое сообщество занимается строительством собственного мира», а «способы становления и существования человека столь же многочисленны, как и человеческие культуры». [6, с. 13]
С этих тезисов, почерпнутых из антропологии Арнольда Гелена, начинается изложение концепции социального конструирования реальности Питера Бергера и Томаса Лукмана. Ее значение для нашего рассуждения в том, что она дает модель описания того, как мир, или освоенная человеком реальность, конструируется – а значит, и деконструируется – в рамках широко понятой человеческой деятельности. В наиболее общем определении – в рамках процессов институционализации. И соответственно – деинституционализации.
Иными словами, мир «собирается» и «распадается» в ходе общественной жизни человека. Это значит, в свою очередь, что по отношению к обеим фазам этого процесса может быть занята позиция, что они могут быть объектом мировоззренческой установки.
Установка на сохранение мира – это установка на поддержание той когнитивной, символической и нормативной структуры, которую мы находим в своей культуре и посредством которой, собственно, и создается наш мир.
Гадамер называет такую структуру – просто традицией. «Традиция, к которой мы принадлежим и в которой живем, – это… не так называемое предание, которое тогда состояло бы из одних памятников и текстов… Нет, нам непосредственно передается… сам познаваемый в коммуникативном опыте мир». [9, с. 14]
Учитывая, что понятие традиции многогранно и многозначно, Бергер в работе по социологии религии предлагает более специализированный термин. Он называет такую структуру «номосом». Это то, что формирует как пространство общественных институтов, так и индивидуальное сознание. То, что позволяет справляться с «пограничными ситуациями человеческого опыта» («легитимация реальности социального мира перед лицом смерти является существенным требованием в любом обществе» [5, с. 58]). То, что формирует институциональные программы, позволяющие человеку определять себя («…от индивида не только ожидается, что он будет выполнять роль мужа, отца или дяди, но требуется, чтобы он… был мужчиной, каким бы смыслом ни обладал этот термин в том или ином обществе» [5, с. 26]).
В совокупности, все это позволяет вносить в человеческую действительность «порядок» и «смысл».
Вместе с тем, эта структура всегда испытывает давление со стороны тех сил, которые она призвана держать под контролем. «Каждый номос – это система, воздвигнутая против мощных и чуждых сил хаоса». [5, с. 37]
Бергер отдельно подчеркивает это: «Все социально сконструированные миры в своей основе неустойчивы». [5, с. 42] Отсюда чувство тревоги, неотъемлемое от установки на сохранение мира как социального номоса. Как мы уже говорили, для консервативного сознания хаос всегда на пороге.
Характерны в этом отношении слова Победоносцева, который остро чувствовал и выражал эту тревогу: «…человек нового мира составлен из тех же стихий, стоит, как и прежде, на самом рубеже хаоса, и не выходит из кризиса, в котором находилось человечество постоянно, с первой минуты бытия своего. Одна черта, одно мгновение — и может открыться перед нами и около нас тот хаос, от которого отделяет нас тонкая, щегольская и обольстительная перегородка цивилизации». [42, с. 86]
Понятно, что Победоносцев мыслил и жил перед лицом революционного фатума своей эпохи. Но в его словах звучит нечто больше, чем пафос контрреволюции. Это рефлексия фундаментальной структуры человеческого мира.
Под хаосом, заслоном от которого служит «тонкая перегородка цивилизации», следует понимать не только моменты безвластия и беззакония, которые периодически возникают в человеческой истории, но и деструктивные импульсы человеческой природы, которые с нами ежеминутно.
Здесь можно вспомнить о концепции первородного греха. Де Местр выражался на этот счет очень категорично: «человек, если его предоставить самому себе, слишком зол, чтобы быть свободным». [29, с. 27] В этой логике институциональные ограничения должны поставить предел живущему в человеке злу. Но эта логика кажется упрощенной.
Смысл консервативной антропологии не в том, что «человек слишком зол» и потому нуждается во внутренней дисциплине социальных институтов. А в том, что внутренняя дисциплина социальных институтов – это и есть способ быть человеком. Человек как таковой нуждается в ограничениях. Он в своем генезисе создан запретами. Например, табу на инцест и другими многочисленными табу, которые некогда структурировали человеческий мир и выделили его из природного.
Под спудом этих ограничений всегда живет нечто, что Дюркгейм называл «внутренним ядом беспредельных стремлений». [14, с. 136] С точки зрения фрейдомарксизма, стихия «беспредельных стремлений» – это то, что общество подавляет. С точки зрения консервативной антропологии и социологии, это то, с чем общество позволяет справляться.
Наиболее проработана в этом отношении концепция все того же Гелена, который видит в человеке «нестабильное, перегруженное аффектами существо», которое, «чтобы быть в состоянии вынести самого себя и обеспечить взаимное выживание людей», должно опираться на социальные институты как «исторически обусловленные способы решения жизненно важных проблем». [31, с. 336] Они «разгружают» человека от избытка аффективных импульсов, возбуждений со стороны окружающего мира; восполняют дефицит инстинктивной регуляции. И выполняют эту роль тем успешнее, чем в большей степени способны действовать «автоматически», не оставляя места для рефлексии, сомнения и дистанцирования от них.
Но все перечисленное как раз нередко имеет место и ослабляет внутреннюю гравитацию институтов. «Институционализация не является необратимым процессом». [6, с. 135] Это одна из причин, по которой «институциональному миру требуется легитимация, то есть способы его «объяснения» и оправдания». [6, с. 103]
Вызов аномии
Важнейшим из таких способов является религия. Если «каждое общество, - пишет Бергер, - работает над проектом… по строительству осмысленного с точки зрения человека мира», то именно религия играет в этом проекте центральную, «стратегическую роль». Через нее «человеческий порядок проецируется на целостность бытия», т.е. возникает мир как «космос». [5, с. 41]
Консерватизм часто неразборчиво отождествляют с религией. Тем важнее увидеть, в чем именно та установка, о которой мы говорим как о мировоззренческом ядре консерватизма, сопрягается с религиозностью. Точкой такого сопряжения является мирообразующая роль религии, ее способность поддерживать социальный номос. Это не просто легитимация морали, о которой так много говорили на фоне кризиса христианства в эпоху Просвещения. Это легитимация базовых институциональных программ, из которых «собран» человек и его общество.
Как скажет Кортес, «благодаря католицизму в человеке утвердился порядок». [21, с. 102] Разумеется, эта формула касается не только католицизма, а любой проработанной религиозной традиции, включающей человека в контекст мироздания. Для выполнения этой функции подкрепляемая религией картина мира должна не столько требовать веры, сколько обладать достоверностью.
На этой почве разыгрывается драма христианского мира в эпоху модерна. Он сталкивается не с кризисом веры (напротив, историки говорят о «приливе веры» в начале Нового времени [49, с. 401]), а с глубоким кризисом достоверности религии и той структуры мира, которая была через нее опосредована.
Причины и симптомы этой утраты достоверности требуют отдельного разговора (Ханна Арендт называет это «загадкой внезапного неоспоримого обмирщения» [3, с. 105]). Но зафиксируем важное следствие. Шаткость религиозно очерченного «космоса» не могла не перейти на публичные социальные институты и личностные «институциональные программы», которые были легитимированы в качестве его элементов. «Если Бога нет, то какой же я штабс-капитан», - говорит герой Достоевского.
Дюркгейм в «Самоубийстве» рассуждает о влиянии, которое ослабление религиозной традиции оказывает на характер социальной интеграции (повышая, в тенденции, склонность к самоубийству). Кризис религиозной традиции – один из факторов той социальной дезинтеграции, которую он называет аномией.
Состояние аномии закономерно возникает на переходе от «традиционного общества» к «современному», если, с некоторой долей условности, использовать это социологическое клише, в логике которого «современное» общество отличается от традиционного тем, что не может или не хочет следовать заранее установленным образцам.
Можно пойти дальше: то, что перестало быть частью установленного свыше «порядка вещей», становится проблемой и предметом борьбы. Ареной борьбы становится не только устройство власти и публичной сферы, а состав и содержание тех самых «институциональных программ» (в том числе гендерных и семейных), определяющих человека.
Марсель Гоше пишет в этой связи о том, что современная эпоха обречена на вечную борьбу между «социализацией» (то есть производством и поддержанием институциональных программ) и «эмансипацией» (то есть их «преодолением» и дистанцированием от них). [12, с. 111]
В этих словах Ханны Арендт звучит невольная отсылка к афоризму одного из главных действующих лиц Тридцатилетней войны Фердинанда II: «Лучше пустыня, чем страна, населенная еретиками». Под этим лозунгом действовали непримиримые с обеих сторон, и в значительной мере он был воплощен в жизнь. Эпоха религиозных войн произвела в Европе двойное опустошение: не только материальное, но и моральное, выражавшееся в кризисе авторитета духовных и светских властей и остром ощущении невозможности находиться в едином политическом пространстве с конфессиональными оппонентами.
Вестфальская система и абсолютизм были осмысленной и небезуспешной попыткой совладать с этим кризисом. Но дух религиозных войн с тех пор навсегда обосновался в европейской истории. Их ближайшей реинкарнацией стали революционные войны, которые дали повод Берку сказать, что «революционная общность была не государством, а вооруженной доктриной, нерелигиозной, но ведущей себя как организованная религия». [55, с. 104] По мнению Джона Покока, Берк был первым, кто осмыслил приход идеологических войн на смену религиозным.
В этом было консервативное предчувствие фатума современной эпохи. Идеологические войны ХХ века окончательно утвердили современников в мысли, что «современная политика есть гражданская война, проводимая другими средствами». [22, с. 343]
Позиция консерватизма в отношении идеологических гражданский войн ярко выражена в афоризме де Местра: «Люди, сражающиеся за абстрактные принципы, подобны «детям, убивающим друг друга ради того, чтобы выстроить огромный карточный дом». [27, с. 287] Де Местр – страстный и радикальный мыслитель, умеющий ненавидеть и отнюдь не «шокированный насилием», которым изобилует история. Но именно идеологическое насилие ему отвратительно.
Как пишет Марсель Гоше, в политике современного типа «инициатива исходит от левых». [12, с. 71] В вопросах идеологического насилия это утверждение вдвойне справедливо. Силой, которая придает религиозным и идеологическим войнам Нового времени динамику и непримиримость, является тот самый энтузиазм преображения мира, который берет исток в хилиастических движениях и кристаллизуется в утопических идеологиях.
Позиция консерватизма в этом мире перманентной гражданской войны парадоксальна. Он враг религиозных и идеологических войн как таковых. Именно потому, что они не просто «нарушают мир» (хранителей «жестоких истин» это не должно застигать врасплох), а разрушают его социальную онтологию. Но вместе с тем он их неизбежный участник.
Эта двойственность может присутствовать как внутри конкретных консервативных движений, так и воплощаться в консервативных движениях разного типа.
В первом случае она неизбежно ослабляет консерваторов. Можно вспомнить притчу о женщинах, деливших ребенка на суде у Соломона. Консерватизм – та сторона, которой «жалко ребенка» (прежний гражданский мир, целостность страны и общества). Но в истории, к сожалению, нет праведного судьи. Поэтому ее вершителями чаще становятся те, кто «готовы разрезать» объект притязаний.
Характерна в этом отношении гражданская война в России. Между ее участниками – глубокая асимметрия. Для «белых» сам факт гражданской войны – состоявшаяся катастрофа, тяжелая патология, свидетельство конца исторической России. Они ведут ее стоически, и даже если не без надежды на успех, то точно без образа победы (подтверждением чему – пресловутое «непредрешенчество»). Для «красных» все происходящее окрашено в совершенно иные тона: это сбывающееся наяву обетование, первое зарево мирового пожара, первый шаг к новому миру, который возникнет на пепелище. Они наполнены энтузиазмом преображения мира. В такой войне даже проиграть не страшно, поскольку обязательно будет следующая.
Возможна и иная ситуация: приоритет гражданского мира, с одной стороны, и приоритет войны до победного конца (против энтузиастов преображения), с другой, могут воплотиться в разных исторических силах, каждая из которых будет по-своему консервативна. Таков случай религиозных войн. Один консервативный полюс в ней воплощает католическая реакция и Контрреформация, не уступающая противникам в бескомпромиссности и мессианском пафосе. Другой – те, кого во Франции называли партией «политиков».
Она не представляла бы особого интереса, если бы ограничилась призывами к сдержанности в условиях непримиримого конфликта. Но ей удалось найти более действенную стратегию. Это концентрация насилия в руках суверена во имя восстановления гражданского порядка и обеспечение приоритета политической лояльности над религиозной. Это линия Бодена, Гоббса, Ришелье.
Длительные периоды гражданского мира в Европе (Вестфальская система и Венская система, в рамках которых велись ограниченные войны между государствами и были сведены к минимуму религиозно-идеологические войны внутри государств) были явным успехом этой линии. Но ее проведение всегда было делом весьма непростым.
Метафизическая сдержанность
Установка «суверенистов» на сохранение гражданского мира требует сложного баланса.
С одной стороны, суверенитет, который является для нее опорным звеном, без которого она будет лишь бессильной проповедью, не может не предполагать достаточно интенсивной формы интеграции общества. Подданные или граждане должны не только уважать государственную монополию на насилие, но, особенно в случае войны, так или иначе соучаствовать в ней. Это требует определенной степени единодушия.
С другой стороны, требование подлинного единодушия является кратчайшим путем к религиозной или идеологической гражданской войне. Чтобы сохранять мир как пространство сосуществования и равновесия, нужно так или иначе принимать определенную степень фрагментации общества, мириться с незавершенной интеграцией. И в целом, с несовершенствами – сложившихся институтов и особенно других людей (властей, идейных оппонентов, публики).
Это баланс реально-политический, но также и мировоззренческий.
Мировоззренческой предпосылкой этого баланса является характерный для консерватизма приоритет действительности над идеалом (не важно, религиозным или светским). Это общий знаменатель для тех двух принципов, которые лишь на первый взгляд кажутся разнонаправленными: приверженности «жестоким фактам» и приверженности гражданскому миру. В основе каждого из них – спокойное принятие фундаментальных расхождений между людьми и фундаментальных ограничений для практик по преобразованию мира. Отказ от попыток создания «универсального и гармоничного» порядка. Отказ от стремления к совершенному порядку в пользу – просто работающего порядка.
Иными словами, как спокойное принятие реальности войны, так и последовательные усилия по поддержанию мира становятся возможны благодаря тому, что, как говорил Армин Молер, «правые не верят в совершенство» и не пытаются воплотить его в жизнь.
Назовем это – метафизической сдержанностью. Кстати, в ней заключен сильный антитоталитарный ген консерватизма.
Характерно, что в международных отношениях «суверенисты» исповедовали такой же отказ от войны на уничтожение «во имя принципов», как и во внутренних делах.
Они были сторонниками международного мира – не как отсутствия войны, а как «связывающего и разделяющего» народы пространства, которое может быть разрушено тотальной или, как скажет Шмитт, дискриминационной войной (низводящей врага до уровня преступника). Это качественно иное пространство, чем внутренняя публичная сфера государства. Но это тоже – мир, заслуживающий сохранения.
Дадим на этот счет слово «беллицисту» Гегелю: «Вследствие того, что государства взаимно признают друг друга в качестве таковых, так же и в войне, в состоянии бесправия, насилия и случайности, сохраняется связь, в которой они значимы друг для друга… так что в войне сама война определена как нечто долженствующее быть преходящим. Поэтому война содержит в себе определение международного права, устанавливающее, что в войне содержится возможность мира, что, следовательно, послы должны быть неприкосновенны и что война вообще ведется не против внутренних институтов и мирной семейной и частной жизни, не против частных лиц». [11, с. 368]
В этих формулировках – емкий манифест ограниченной войны внутри международной системы, построенной на «реалистических» предпосылках.
А вот мысль «пацифиста» Канта, которую приводит Шмитт в «Номосе земли», как раз в качестве иллюстрации к дискриминационному понятию войны: Кант называет «незаконным врагом» того, чья «публично (все равно, словом или поступком) выраженная воля выскажет максиму, согласно которой, если я сделаю ее всеобщим правилом, состояние мира между народами станет невозможным и навеки установится естественное состояние». [48, с. 212] По отношению к этому hostis injustus «право тех, кому он угрожает или тех, кто ощущает исходящую от него угрозу», по словам Канта «не знает границ».
Шмитт предлагает оценить радикальность этого воинствующего морализма: чтобы попасть в категорию парии человечества, в отношении которого нет запрещенных мер, «достаточно словесно выраженной воли, достаточно того, чтобы это выражение высказывало некую максиму, чтобы оправдать совместную акцию тех, кто ощущает угрозу своей свободе!». [48, с. 213]
Это очень показательный контраст между гегелевской «войной, сохраняющей возможность мира», ограниченной и не разрывающей политико-правовую связь между противниками, и кантовским принципом всеобщего мира, открывающим дорогу, в лучшем случае, уничтожению мира как пространства взаимного признания («незаконный враг»), а в худшем – той самой войне на уничтожение («право не знает границ»).
Нельзя не отметить актуальности этого принципа для сегодняшней «кантианской» Европы. И это еще один пример того, что идеалистическое отторжение «жестоких истин» чревато эскалацией жестокости, истеричной и лицемерной.
Традиция как заслон против хаоса
Пора перейти от порядка политического и полицейского на более глубокий уровень. К порядку самой реальности, формируемой в рамках коллективного опыта. Это фундаментальное социологическое понимание мира, дающее более сложное представление о том, что именно в нем может быть объектом разрушения и объектом сохранения.
«Все животные, кроме людей… живут в закрытых мирах, структуры которых предопределены биологическим оснащением отдельных видов животных». [6, с. 81] Человек, напротив, сам творит свой мир. Разумеется, не как индивид, а как человеческое сообщество. Точнее – сообщества: «любое человеческое сообщество занимается строительством собственного мира», а «способы становления и существования человека столь же многочисленны, как и человеческие культуры». [6, с. 13]
С этих тезисов, почерпнутых из антропологии Арнольда Гелена, начинается изложение концепции социального конструирования реальности Питера Бергера и Томаса Лукмана. Ее значение для нашего рассуждения в том, что она дает модель описания того, как мир, или освоенная человеком реальность, конструируется – а значит, и деконструируется – в рамках широко понятой человеческой деятельности. В наиболее общем определении – в рамках процессов институционализации. И соответственно – деинституционализации.
Иными словами, мир «собирается» и «распадается» в ходе общественной жизни человека. Это значит, в свою очередь, что по отношению к обеим фазам этого процесса может быть занята позиция, что они могут быть объектом мировоззренческой установки.
Установка на сохранение мира – это установка на поддержание той когнитивной, символической и нормативной структуры, которую мы находим в своей культуре и посредством которой, собственно, и создается наш мир.
Гадамер называет такую структуру – просто традицией. «Традиция, к которой мы принадлежим и в которой живем, – это… не так называемое предание, которое тогда состояло бы из одних памятников и текстов… Нет, нам непосредственно передается… сам познаваемый в коммуникативном опыте мир». [9, с. 14]
Учитывая, что понятие традиции многогранно и многозначно, Бергер в работе по социологии религии предлагает более специализированный термин. Он называет такую структуру «номосом». Это то, что формирует как пространство общественных институтов, так и индивидуальное сознание. То, что позволяет справляться с «пограничными ситуациями человеческого опыта» («легитимация реальности социального мира перед лицом смерти является существенным требованием в любом обществе» [5, с. 58]). То, что формирует институциональные программы, позволяющие человеку определять себя («…от индивида не только ожидается, что он будет выполнять роль мужа, отца или дяди, но требуется, чтобы он… был мужчиной, каким бы смыслом ни обладал этот термин в том или ином обществе» [5, с. 26]).
В совокупности, все это позволяет вносить в человеческую действительность «порядок» и «смысл».
Вместе с тем, эта структура всегда испытывает давление со стороны тех сил, которые она призвана держать под контролем. «Каждый номос – это система, воздвигнутая против мощных и чуждых сил хаоса». [5, с. 37]
Бергер отдельно подчеркивает это: «Все социально сконструированные миры в своей основе неустойчивы». [5, с. 42] Отсюда чувство тревоги, неотъемлемое от установки на сохранение мира как социального номоса. Как мы уже говорили, для консервативного сознания хаос всегда на пороге.
Характерны в этом отношении слова Победоносцева, который остро чувствовал и выражал эту тревогу: «…человек нового мира составлен из тех же стихий, стоит, как и прежде, на самом рубеже хаоса, и не выходит из кризиса, в котором находилось человечество постоянно, с первой минуты бытия своего. Одна черта, одно мгновение — и может открыться перед нами и около нас тот хаос, от которого отделяет нас тонкая, щегольская и обольстительная перегородка цивилизации». [42, с. 86]
Понятно, что Победоносцев мыслил и жил перед лицом революционного фатума своей эпохи. Но в его словах звучит нечто больше, чем пафос контрреволюции. Это рефлексия фундаментальной структуры человеческого мира.
Под хаосом, заслоном от которого служит «тонкая перегородка цивилизации», следует понимать не только моменты безвластия и беззакония, которые периодически возникают в человеческой истории, но и деструктивные импульсы человеческой природы, которые с нами ежеминутно.
Здесь можно вспомнить о концепции первородного греха. Де Местр выражался на этот счет очень категорично: «человек, если его предоставить самому себе, слишком зол, чтобы быть свободным». [29, с. 27] В этой логике институциональные ограничения должны поставить предел живущему в человеке злу. Но эта логика кажется упрощенной.
Смысл консервативной антропологии не в том, что «человек слишком зол» и потому нуждается во внутренней дисциплине социальных институтов. А в том, что внутренняя дисциплина социальных институтов – это и есть способ быть человеком. Человек как таковой нуждается в ограничениях. Он в своем генезисе создан запретами. Например, табу на инцест и другими многочисленными табу, которые некогда структурировали человеческий мир и выделили его из природного.
Под спудом этих ограничений всегда живет нечто, что Дюркгейм называл «внутренним ядом беспредельных стремлений». [14, с. 136] С точки зрения фрейдомарксизма, стихия «беспредельных стремлений» – это то, что общество подавляет. С точки зрения консервативной антропологии и социологии, это то, с чем общество позволяет справляться.
Наиболее проработана в этом отношении концепция все того же Гелена, который видит в человеке «нестабильное, перегруженное аффектами существо», которое, «чтобы быть в состоянии вынести самого себя и обеспечить взаимное выживание людей», должно опираться на социальные институты как «исторически обусловленные способы решения жизненно важных проблем». [31, с. 336] Они «разгружают» человека от избытка аффективных импульсов, возбуждений со стороны окружающего мира; восполняют дефицит инстинктивной регуляции. И выполняют эту роль тем успешнее, чем в большей степени способны действовать «автоматически», не оставляя места для рефлексии, сомнения и дистанцирования от них.
Но все перечисленное как раз нередко имеет место и ослабляет внутреннюю гравитацию институтов. «Институционализация не является необратимым процессом». [6, с. 135] Это одна из причин, по которой «институциональному миру требуется легитимация, то есть способы его «объяснения» и оправдания». [6, с. 103]
Вызов аномии
Важнейшим из таких способов является религия. Если «каждое общество, - пишет Бергер, - работает над проектом… по строительству осмысленного с точки зрения человека мира», то именно религия играет в этом проекте центральную, «стратегическую роль». Через нее «человеческий порядок проецируется на целостность бытия», т.е. возникает мир как «космос». [5, с. 41]
Консерватизм часто неразборчиво отождествляют с религией. Тем важнее увидеть, в чем именно та установка, о которой мы говорим как о мировоззренческом ядре консерватизма, сопрягается с религиозностью. Точкой такого сопряжения является мирообразующая роль религии, ее способность поддерживать социальный номос. Это не просто легитимация морали, о которой так много говорили на фоне кризиса христианства в эпоху Просвещения. Это легитимация базовых институциональных программ, из которых «собран» человек и его общество.
Как скажет Кортес, «благодаря католицизму в человеке утвердился порядок». [21, с. 102] Разумеется, эта формула касается не только католицизма, а любой проработанной религиозной традиции, включающей человека в контекст мироздания. Для выполнения этой функции подкрепляемая религией картина мира должна не столько требовать веры, сколько обладать достоверностью.
На этой почве разыгрывается драма христианского мира в эпоху модерна. Он сталкивается не с кризисом веры (напротив, историки говорят о «приливе веры» в начале Нового времени [49, с. 401]), а с глубоким кризисом достоверности религии и той структуры мира, которая была через нее опосредована.
Причины и симптомы этой утраты достоверности требуют отдельного разговора (Ханна Арендт называет это «загадкой внезапного неоспоримого обмирщения» [3, с. 105]). Но зафиксируем важное следствие. Шаткость религиозно очерченного «космоса» не могла не перейти на публичные социальные институты и личностные «институциональные программы», которые были легитимированы в качестве его элементов. «Если Бога нет, то какой же я штабс-капитан», - говорит герой Достоевского.
Дюркгейм в «Самоубийстве» рассуждает о влиянии, которое ослабление религиозной традиции оказывает на характер социальной интеграции (повышая, в тенденции, склонность к самоубийству). Кризис религиозной традиции – один из факторов той социальной дезинтеграции, которую он называет аномией.
Состояние аномии закономерно возникает на переходе от «традиционного общества» к «современному», если, с некоторой долей условности, использовать это социологическое клише, в логике которого «современное» общество отличается от традиционного тем, что не может или не хочет следовать заранее установленным образцам.
Можно пойти дальше: то, что перестало быть частью установленного свыше «порядка вещей», становится проблемой и предметом борьбы. Ареной борьбы становится не только устройство власти и публичной сферы, а состав и содержание тех самых «институциональных программ» (в том числе гендерных и семейных), определяющих человека.
Марсель Гоше пишет в этой связи о том, что современная эпоха обречена на вечную борьбу между «социализацией» (то есть производством и поддержанием институциональных программ) и «эмансипацией» (то есть их «преодолением» и дистанцированием от них). [12, с. 111]
Эмансипация – это аномия в активном залоге, аномия со знаменем и барабанной дробью. В наиболее существенном смысле она представляет собой освобождение не от внешнего, а от внутреннего принуждения со стороны сил общества. Это освобождение человека от социальных идентичностей, претендующих на то, чтобы определять и обязывать его. К числу таковых относятся базовые представления, через которые происходит наша социализация: представления о национальности, поле, родстве, религиозной принадлежности. Это то, что Макинтайр называет субстанциальными идентичностями – идентичностями, которые «являются частью моей субстанции, определяющей… мои обязательства». [22, с. 49] В задаваемой ими картине мира человек начинается не с неотъемлемых прав, а с неотъемлемых обязанностей: перед тем, что составляет его «субстанцию» (в соответствии с классическим определением Гегеля: «обязанность есть прежде всего мое отношение к чему-то для меня субстанциальному» [11, с. 287]).
Иными словами, эмансипация бьет по осевой, несущей и весьма уязвимой конструкции цивилизации: по онтологической связи человека и общества. Слотердайк называет эту связь «мерзостью социализации». [39, с. 102] В его понимании, «освободительная мысль» побуждает человека «…позволить себе жить, становясь Никем – вопреки истории, вопреки политике, вопреки гражданству, вопреки принуждению быть Кем-То». [39, с. 103]
Это и есть разрушение мира, его десубстанциализация.
Важно понимать: это не борьба за приоритет между «обществом» и «человеком», а борьба за понимание самого человека: «пустое Я», выбирающее или отвергающее социальные роли, пол, в конечном счете, формы телесности, или «наполненное Я», заведомо определенное некими конститутивными социальными (и социобиологическими) фактами.
Моя цель в данном случае – не вдаваться в развитие этого спора, а зафиксировать, что он является частью (вероятно, важнейшей) того конфликта установок, о котором идет речь: институционализация vs. деинституционализация.
Значит ли это, что с точки зрения консервативной установки любые институты заслуживают поддержки и защиты? Такое предположение было бы сведением к абсурду. Тем не менее, попробуем внести уточнение.
Институты – это ткань социального мира. Если принять установку на сохранение мира как некое консервативное «априори», то одним из аспектов этой установки будет восприятие институционализации – по умолчанию – как блага. Как упорядочивающего, создающего форму, одним словом, мирообразующего процесса.
На противоположном полюсе будет априорное отторжение этого процесса. Например, протагонисты эмансипации могут испытывать к нему заведомое недоверие на том основании, что каждый институт – это ячейка власти и социального контроля: «первичный социальный контроль задан существованием института как такового», - пишут Бергер и Лукман. [6, с. 93]
Но априорная установка не может не адаптироваться к конкретным обстоятельствам места и времени. Формы, в которых проявляется мир, могут быть прекрасны или уродливы, ткань, в том числе социальная, может быть здоровой или больной, недоброкачественной, атрофированной. Ее качество определяется с точки зрения функциональности по отношению к организму, по отношению к целому.
Ориентиром для охранительной установки является не отдельно взятый институт, а тот символический универсум, который формируется культурой для интеграции и легитимации институционального порядка. [6, с. 169] По сути, это большие цивилизационные нарративы со своими системами категорий, представлениями о священном, классическими, системообразующими текстами и так далее.
Тойнби дает методологическое определение цивилизации как универсума, в котором можно рассказывать историю как совокупность взаимосвязанных сюжетов. Примерно то же можно сказать об истории различных форм консерватизма. Каждая из них может быть рассказана лишь в контексте того большого символического универсума, «на страже» которого она выступает, стараясь удержать институциональный порядок от дезинтеграции.
На страже угасающих миров
Красивой метафорой развоплощения социального мира является эпидемия бессонницы, охватившая жителей Макондо из «Ста лет одиночества». Они стали забывать слова, друг друга, родственные связи, в конечном счете, самих себя (как социально определенных существ) – жить «в постоянно ускользающей от них действительности». [25, с. 46]
Но еще примечательнее рецепт, применявшийся для борьбы с недугом. Горожане стали вешать таблички с надписями на предметах. Когда стало ясно, что, они, «восстановив в памяти название предмета по надписи, будут не в силах вспомнить его назначение... надписи усложнили». Например, на шею корове повесили такую табличку: «Это корова, ее нужно доить каждое утро, чтобы получить молоко, а молоко надо кипятить, чтобы смешать с кофе и получить кофе с молоком». [25, с. 46]
Это пример поддержки локальной институциональной программы. А вот пример операций, призванных интегрировать институциональный порядок: «У дороги… поставили столб с указанием: «Макондо», а на главной улице поставили другой, больших размеров, с уведомлением: «Бог существует». [25, с. 46]
В известной мере, консервативные усилия по поддержке переживающих кризис институциональных и символических систем напоминают такие таблички. «Необходимость в специальных процедурах поддержания универсума появляется, когда символический универсум становится проблемой», перестает быть «самоподдерживающимся» [6, с. 173] – пишут Бергер и Лукман.
Насколько продуктивны могут быть такие усилия? Жителям Макондо таблички помогали, но они лишь замедляли сползание в хаос. Эпидемия бессонницы, как началась внезапно, так и завершилась чудесным образом.
Однако в живой истории «специальные процедуры поддержания» традиции в определенном смысле неотъемлемы от самой традиции. Традиция как таковая не является чем-то длящимся «автоматически». Как скажет Гадамер, она требует «согласия, принятия, заботы». [10, с. 335] То есть постоянных и сознательных усилий. Вспомним историзм и романтизм XIX века, позволившие народам открыть, а где-то и изобрести элементы своей фольклорной культуры и национальной памяти.
Это хороший пример творческого отношения консерваторов к традиции в условиях, когда общества – на фоне кризиса прежней «социальной космологии» – определенно нуждались в дополнительных факторах интеграции. И чем меньше достоверности, стихийности, автоматизма остается в структуре нашего мира, тем больше требуется заботы о нем, тем больше труда по поддержанию его формы.
Именно к таким эпохам относятся слова Элиота: «Традицию нельзя просто унаследовать. Тот, кто хочет ею обладать, должен обрести ее в тяжком труде». [51]
Одним из самых ярких исторических примеров того, как некогда незыблемый «символический универсум становится проблемой», является история позднего Рима. В забвении себя и своего «номоса» римляне определенно превзошли жителей Макондо. «В 409 году во время осады Рима вестготами власти города, чтобы заплатить выкуп Алариху, распорядились переплавить золотые и серебряные изваяния языческих божеств, среди которых оказалась статуя Virtus; на современников это событие… произвело гнетущее впечатление». [32, с. 561] Virtus – главная добродетель римлян, и статуя была одним из главных символов города. Это событие стало беспощадной аллегорией утраты римского духа.
Другим не менее наглядным его проявлением стало разрушение публичных зданий Рима. «Потеряв уважение к своему великому прошлому, римляне периода Поздней империи стали мало-помалу разрушать Рим – в буквальном смысле слова, превращая обветшавшие общественные здания в каменоломни». [32, с. 561]
Публичные здания для Рима – это больше, чем здания. Публичные пространства – это сама суть полиса, каковым Рим всегда был и оставался (в том числе в имперскую эпоху). Их растаскивание на куски – даже не символ или следствие разрушения номоса общества, а непосредственный акт этого разрушения.
Попытки сдержать внутренний распад римского мира, конечно, предпринимались – вероятно, он произошел бы гораздо раньше, если бы не встречал систематического сопротивления. В этом отношении знаковыми для консерватизма являются фигуры двух императоров, которые вошли в историю как антагонисты, но каждый по-своему воплощали заботу о сохранении коллапсирующего мира.
Один из них – император Юлиан. Его попытка спасения античного мира оказалась, как мы знаем, исторически бесплодной, но отнюдь не была бессмысленной. Его политика в отношении христианства была достаточно гибкой и изощренной (он делал ставку не столько на репрессии, сколько на прекращение субсидирования и поощрение внутренних разладов в христианстве); его программа «языческой реакции» была вполне последовательной и продуманной («попытка создания своеобразной языческой церкви» под эгидой императорской власти и поощрения ее социальных функций). [17, с. 24-44]
И если в истории церкви он остался «отступником», то в истории политических мировоззрений он скорее остался символом отчаянного упорства. Его можно назвать «консерватором последнего часа», чье кредо выразил поклонник стоиков Шпенглер: «Терпеливо и без надежды стоять на проигранных позициях – таков наш долг». [50, с. 492]
Вторая фигура – разумеется, император Константин. Его линию, как ни странно, тоже можно назвать консервативной – в том смысле, что она лишь иначе реализует установку на сохранение мира, который уже невозможно спасти. Его выбор был смелым и трудным выбором государственного деятеля, думавшего об условиях долговременной устойчивости Империи и искавшего для нее новую легитимность. В рамках модели имперского христианства удалось создать новый «религиозный космос» для старого институционального порядка. Иными словами – сохранить цивилизацию Рима в той мере, в какой это было возможно.
Консерватизм Константина – это учредительный консерватизм, к которому применимы слова современника Шпенглера Меллера ван ден Брука: «консервативным является создание вещей, которые надо сохранять». [8, с. 317]
Мир как родина vs мир как чужбина
Наиболее глубокой предпосылкой установки на сохранение мира является ощущение мира как «своего» места, как дома. Вероятно, это связано с эффектом «базового доверия» к миру, о котором говорят психологи и который формируется – или не формируется – в раннем детстве. Эту тему развивал теоретик психосоциального развития личности Эрик Эриксон. «На первой стадии… младенец решает фундаментальный вопрос всей своей последующей жизни — доверяет он окружающему его миру или не доверяет». [52, с. 13]
Решение этой первичной дилеммы оказывает влияние не только на психику, но и на мировоззрение человека. Например, Эриксон определяет «религию как такую систему взглядов, с помощью которой человек пытается как-то подтвердить чувство базового доверия». [53, с. 13] Формулой, которая в христианской картине мира выражает это чувство, является одна из первых и ключевых фраз «Книги Бытия»: «И увидел Бог, что это хорошо». Как пишет Ганс-Клаус Кальтербруннер, «это архиконсервативная предпосылка христианской теологии». [18, с. 68]
Однако и противоположная установка – на «базовое недоверие» к миру – также имеет свои параллели в религиозном мировоззрении. Наиболее явным «кочующим геном» отторжения мира является гностицизм. Этот лейтомотив «акосмического мировоззрения» – мировоззрения, отторгающего мир, – подробно раскрыл исследователь и апологет гностицизма Ганс Йонас. «Основной чертой гностической мысли является радикальный дуализм, который управляет отношениями Бога и мира и, соответственно, человека и мира». [16, с. 58] «Цель гностических устремлений – освобождение «внутреннего человека» из оков мира и его возвращение к изначальному царству света». [16, с. 61] «Пневматическая («пневма» – «дух» на языке гностиков – М.Р.) нравственность определяется враждебностью по отношению к миру и презрением ко всем мирским связям». [16, с. 62]
Этот мировоззренческий ген действительно можно назвать кочующим, поскольку он, как вирус, переходит из эпохи в эпоху, из одной религиозной традиции в другую, не формируя своей собственной (по крайней мере эксплицитно), но глубоко влияя на те традиции, с которыми он сопрягается. В христианстве одной из точек сопряжения с этим гностическим жизнеощущением является, как пишет Якоб Таубес, «эсхатологический принцип апокалиптики с характерным для него неприятием мира». [41, с. 49]
Наглядным воплощением этого неприятия существующего мира, нетерпеливого ожидания его грядущего конца и буквального понимания наступления на земле «царства Божия» Таубес называет раннехристианскую общину, продолжавшую в этом отношении линию иудейской апокалиптики. Это все тот же хилиастический комплекс, о котором шла речь выше. Позже христианская ортодоксия делает акцент на «индивидуальную эсхатологию, которая с приходом Августина главенствует в христианской церкви». [41, с. 154] «Ориген называет хилиазм «духом тех, которые, хотя и называют себя христианами, но разъясняют Писание в весьма иудейском смысле». «Эфесский собор 431 года прямо называет хилиастическое учение «измышлением». [41, с. 155]
Тем не менее, мотив неприятия мира, на который опирался этот хилиастический комплекс, так или иначе присутствует в христианстве. Как напомнит Кальтербруннер, «в христианстве люди обрели… сознание того, что в этом мире, мире цезарей, полисов и политики человек не совсем дома. «Они воспринимают все как чужое», - говорится в послании Диогнету… «Civitas peregrine»… племенем чужих на земле называет христиан в одной из своих больших проповедей Августин». [18, с. 88-89]
«Это сознание отчужденности – метафизическая предпосылка левого мышления вообще», [18, с. 89] – обобщает Кальтербруннер. Это как бы другой, «левый» полюс христианства наряду с консервативным утверждением «книги Бытия» («и увидел Бог, что это хорошо»). В этой связи, будучи католиком и консерватором, он призывает не отождествлять одно с другим. Христианство – сфера борьбы и сопряжения разных мировоззрений. В нем есть место как установке на принятие и сохранение мира, так и противоположной установке.
Но сейчас для нас важно не описать сложный баланс этих установок в христианстве, а просто ясно увидеть тот мировоззренческий антоним консервативной установке на принятие мира, который придает ей самой определенность.
Ключевым «архетипом» установки на отторжение мира является комплекс «чужака». Ее главным паролем – слово «чужбина». «Во имя великого начала чуждой Жизни из миров света, того высшего, что стоит прежде всех век»: это стандартное начало мандейских произведений», - пишет Йонас («название образовано от арамейского манда, «познание», так что «мандеи» дословно – «гностики»). «Понятие чуждой Жизни является одним из самых впечатляющих слов-символов, с которыми мы сталкиваемся в гностической речи». [16, с. 65]
Таубес подхватывает этот мотив и разворачивает его во вдохновенный манифест чужеродности. «Быть чужим означает происходить из чего-то другого, чем все окружающее; не чувствовать себя дома во всем, что «здесь». Это «здесь» есть нечто совершенно чужое, неродное, и потому жизнь, протекающая в этом «здесь», протекает на «чужбине». [41, с. 55] Она «понимает… что у нее есть родина, которая возвышает ее над этим миром». [41, с. 56]
Это мироощущение, как и всякое другое, связано с определенными формами действия. Йонас пишет о том, что его следствием может быть аскетизм: «избегать дальнейшего осквернения миром и, следовательно, ослабить контакты с ним до минимума». Другой вариант – «гностическая безнравственность»: утверждение «права на абсолютную свободу», исходящее из того, что «закон «Ты должен» и «Ты не должен»… является еще одной формой «космической» тирании». Для «пневматика» «все дозволено, так как пневма «спасена в его естестве» и не может быть ни запятнана его действиями, ни испугана угрозой возмездия архонтов» (правителей и стражей миропорядка, мешающих «духу» вырваться из него). [16, с. 62]
Иными словами, эмансипация бьет по осевой, несущей и весьма уязвимой конструкции цивилизации: по онтологической связи человека и общества. Слотердайк называет эту связь «мерзостью социализации». [39, с. 102] В его понимании, «освободительная мысль» побуждает человека «…позволить себе жить, становясь Никем – вопреки истории, вопреки политике, вопреки гражданству, вопреки принуждению быть Кем-То». [39, с. 103]
Это и есть разрушение мира, его десубстанциализация.
Важно понимать: это не борьба за приоритет между «обществом» и «человеком», а борьба за понимание самого человека: «пустое Я», выбирающее или отвергающее социальные роли, пол, в конечном счете, формы телесности, или «наполненное Я», заведомо определенное некими конститутивными социальными (и социобиологическими) фактами.
Моя цель в данном случае – не вдаваться в развитие этого спора, а зафиксировать, что он является частью (вероятно, важнейшей) того конфликта установок, о котором идет речь: институционализация vs. деинституционализация.
Значит ли это, что с точки зрения консервативной установки любые институты заслуживают поддержки и защиты? Такое предположение было бы сведением к абсурду. Тем не менее, попробуем внести уточнение.
Институты – это ткань социального мира. Если принять установку на сохранение мира как некое консервативное «априори», то одним из аспектов этой установки будет восприятие институционализации – по умолчанию – как блага. Как упорядочивающего, создающего форму, одним словом, мирообразующего процесса.
На противоположном полюсе будет априорное отторжение этого процесса. Например, протагонисты эмансипации могут испытывать к нему заведомое недоверие на том основании, что каждый институт – это ячейка власти и социального контроля: «первичный социальный контроль задан существованием института как такового», - пишут Бергер и Лукман. [6, с. 93]
Но априорная установка не может не адаптироваться к конкретным обстоятельствам места и времени. Формы, в которых проявляется мир, могут быть прекрасны или уродливы, ткань, в том числе социальная, может быть здоровой или больной, недоброкачественной, атрофированной. Ее качество определяется с точки зрения функциональности по отношению к организму, по отношению к целому.
Ориентиром для охранительной установки является не отдельно взятый институт, а тот символический универсум, который формируется культурой для интеграции и легитимации институционального порядка. [6, с. 169] По сути, это большие цивилизационные нарративы со своими системами категорий, представлениями о священном, классическими, системообразующими текстами и так далее.
Тойнби дает методологическое определение цивилизации как универсума, в котором можно рассказывать историю как совокупность взаимосвязанных сюжетов. Примерно то же можно сказать об истории различных форм консерватизма. Каждая из них может быть рассказана лишь в контексте того большого символического универсума, «на страже» которого она выступает, стараясь удержать институциональный порядок от дезинтеграции.
На страже угасающих миров
Красивой метафорой развоплощения социального мира является эпидемия бессонницы, охватившая жителей Макондо из «Ста лет одиночества». Они стали забывать слова, друг друга, родственные связи, в конечном счете, самих себя (как социально определенных существ) – жить «в постоянно ускользающей от них действительности». [25, с. 46]
Но еще примечательнее рецепт, применявшийся для борьбы с недугом. Горожане стали вешать таблички с надписями на предметах. Когда стало ясно, что, они, «восстановив в памяти название предмета по надписи, будут не в силах вспомнить его назначение... надписи усложнили». Например, на шею корове повесили такую табличку: «Это корова, ее нужно доить каждое утро, чтобы получить молоко, а молоко надо кипятить, чтобы смешать с кофе и получить кофе с молоком». [25, с. 46]
Это пример поддержки локальной институциональной программы. А вот пример операций, призванных интегрировать институциональный порядок: «У дороги… поставили столб с указанием: «Макондо», а на главной улице поставили другой, больших размеров, с уведомлением: «Бог существует». [25, с. 46]
В известной мере, консервативные усилия по поддержке переживающих кризис институциональных и символических систем напоминают такие таблички. «Необходимость в специальных процедурах поддержания универсума появляется, когда символический универсум становится проблемой», перестает быть «самоподдерживающимся» [6, с. 173] – пишут Бергер и Лукман.
Насколько продуктивны могут быть такие усилия? Жителям Макондо таблички помогали, но они лишь замедляли сползание в хаос. Эпидемия бессонницы, как началась внезапно, так и завершилась чудесным образом.
Однако в живой истории «специальные процедуры поддержания» традиции в определенном смысле неотъемлемы от самой традиции. Традиция как таковая не является чем-то длящимся «автоматически». Как скажет Гадамер, она требует «согласия, принятия, заботы». [10, с. 335] То есть постоянных и сознательных усилий. Вспомним историзм и романтизм XIX века, позволившие народам открыть, а где-то и изобрести элементы своей фольклорной культуры и национальной памяти.
Это хороший пример творческого отношения консерваторов к традиции в условиях, когда общества – на фоне кризиса прежней «социальной космологии» – определенно нуждались в дополнительных факторах интеграции. И чем меньше достоверности, стихийности, автоматизма остается в структуре нашего мира, тем больше требуется заботы о нем, тем больше труда по поддержанию его формы.
Именно к таким эпохам относятся слова Элиота: «Традицию нельзя просто унаследовать. Тот, кто хочет ею обладать, должен обрести ее в тяжком труде». [51]
Одним из самых ярких исторических примеров того, как некогда незыблемый «символический универсум становится проблемой», является история позднего Рима. В забвении себя и своего «номоса» римляне определенно превзошли жителей Макондо. «В 409 году во время осады Рима вестготами власти города, чтобы заплатить выкуп Алариху, распорядились переплавить золотые и серебряные изваяния языческих божеств, среди которых оказалась статуя Virtus; на современников это событие… произвело гнетущее впечатление». [32, с. 561] Virtus – главная добродетель римлян, и статуя была одним из главных символов города. Это событие стало беспощадной аллегорией утраты римского духа.
Другим не менее наглядным его проявлением стало разрушение публичных зданий Рима. «Потеряв уважение к своему великому прошлому, римляне периода Поздней империи стали мало-помалу разрушать Рим – в буквальном смысле слова, превращая обветшавшие общественные здания в каменоломни». [32, с. 561]
Публичные здания для Рима – это больше, чем здания. Публичные пространства – это сама суть полиса, каковым Рим всегда был и оставался (в том числе в имперскую эпоху). Их растаскивание на куски – даже не символ или следствие разрушения номоса общества, а непосредственный акт этого разрушения.
Попытки сдержать внутренний распад римского мира, конечно, предпринимались – вероятно, он произошел бы гораздо раньше, если бы не встречал систематического сопротивления. В этом отношении знаковыми для консерватизма являются фигуры двух императоров, которые вошли в историю как антагонисты, но каждый по-своему воплощали заботу о сохранении коллапсирующего мира.
Один из них – император Юлиан. Его попытка спасения античного мира оказалась, как мы знаем, исторически бесплодной, но отнюдь не была бессмысленной. Его политика в отношении христианства была достаточно гибкой и изощренной (он делал ставку не столько на репрессии, сколько на прекращение субсидирования и поощрение внутренних разладов в христианстве); его программа «языческой реакции» была вполне последовательной и продуманной («попытка создания своеобразной языческой церкви» под эгидой императорской власти и поощрения ее социальных функций). [17, с. 24-44]
И если в истории церкви он остался «отступником», то в истории политических мировоззрений он скорее остался символом отчаянного упорства. Его можно назвать «консерватором последнего часа», чье кредо выразил поклонник стоиков Шпенглер: «Терпеливо и без надежды стоять на проигранных позициях – таков наш долг». [50, с. 492]
Вторая фигура – разумеется, император Константин. Его линию, как ни странно, тоже можно назвать консервативной – в том смысле, что она лишь иначе реализует установку на сохранение мира, который уже невозможно спасти. Его выбор был смелым и трудным выбором государственного деятеля, думавшего об условиях долговременной устойчивости Империи и искавшего для нее новую легитимность. В рамках модели имперского христианства удалось создать новый «религиозный космос» для старого институционального порядка. Иными словами – сохранить цивилизацию Рима в той мере, в какой это было возможно.
Консерватизм Константина – это учредительный консерватизм, к которому применимы слова современника Шпенглера Меллера ван ден Брука: «консервативным является создание вещей, которые надо сохранять». [8, с. 317]
Мир как родина vs мир как чужбина
Наиболее глубокой предпосылкой установки на сохранение мира является ощущение мира как «своего» места, как дома. Вероятно, это связано с эффектом «базового доверия» к миру, о котором говорят психологи и который формируется – или не формируется – в раннем детстве. Эту тему развивал теоретик психосоциального развития личности Эрик Эриксон. «На первой стадии… младенец решает фундаментальный вопрос всей своей последующей жизни — доверяет он окружающему его миру или не доверяет». [52, с. 13]
Решение этой первичной дилеммы оказывает влияние не только на психику, но и на мировоззрение человека. Например, Эриксон определяет «религию как такую систему взглядов, с помощью которой человек пытается как-то подтвердить чувство базового доверия». [53, с. 13] Формулой, которая в христианской картине мира выражает это чувство, является одна из первых и ключевых фраз «Книги Бытия»: «И увидел Бог, что это хорошо». Как пишет Ганс-Клаус Кальтербруннер, «это архиконсервативная предпосылка христианской теологии». [18, с. 68]
Однако и противоположная установка – на «базовое недоверие» к миру – также имеет свои параллели в религиозном мировоззрении. Наиболее явным «кочующим геном» отторжения мира является гностицизм. Этот лейтомотив «акосмического мировоззрения» – мировоззрения, отторгающего мир, – подробно раскрыл исследователь и апологет гностицизма Ганс Йонас. «Основной чертой гностической мысли является радикальный дуализм, который управляет отношениями Бога и мира и, соответственно, человека и мира». [16, с. 58] «Цель гностических устремлений – освобождение «внутреннего человека» из оков мира и его возвращение к изначальному царству света». [16, с. 61] «Пневматическая («пневма» – «дух» на языке гностиков – М.Р.) нравственность определяется враждебностью по отношению к миру и презрением ко всем мирским связям». [16, с. 62]
Этот мировоззренческий ген действительно можно назвать кочующим, поскольку он, как вирус, переходит из эпохи в эпоху, из одной религиозной традиции в другую, не формируя своей собственной (по крайней мере эксплицитно), но глубоко влияя на те традиции, с которыми он сопрягается. В христианстве одной из точек сопряжения с этим гностическим жизнеощущением является, как пишет Якоб Таубес, «эсхатологический принцип апокалиптики с характерным для него неприятием мира». [41, с. 49]
Наглядным воплощением этого неприятия существующего мира, нетерпеливого ожидания его грядущего конца и буквального понимания наступления на земле «царства Божия» Таубес называет раннехристианскую общину, продолжавшую в этом отношении линию иудейской апокалиптики. Это все тот же хилиастический комплекс, о котором шла речь выше. Позже христианская ортодоксия делает акцент на «индивидуальную эсхатологию, которая с приходом Августина главенствует в христианской церкви». [41, с. 154] «Ориген называет хилиазм «духом тех, которые, хотя и называют себя христианами, но разъясняют Писание в весьма иудейском смысле». «Эфесский собор 431 года прямо называет хилиастическое учение «измышлением». [41, с. 155]
Тем не менее, мотив неприятия мира, на который опирался этот хилиастический комплекс, так или иначе присутствует в христианстве. Как напомнит Кальтербруннер, «в христианстве люди обрели… сознание того, что в этом мире, мире цезарей, полисов и политики человек не совсем дома. «Они воспринимают все как чужое», - говорится в послании Диогнету… «Civitas peregrine»… племенем чужих на земле называет христиан в одной из своих больших проповедей Августин». [18, с. 88-89]
«Это сознание отчужденности – метафизическая предпосылка левого мышления вообще», [18, с. 89] – обобщает Кальтербруннер. Это как бы другой, «левый» полюс христианства наряду с консервативным утверждением «книги Бытия» («и увидел Бог, что это хорошо»). В этой связи, будучи католиком и консерватором, он призывает не отождествлять одно с другим. Христианство – сфера борьбы и сопряжения разных мировоззрений. В нем есть место как установке на принятие и сохранение мира, так и противоположной установке.
Но сейчас для нас важно не описать сложный баланс этих установок в христианстве, а просто ясно увидеть тот мировоззренческий антоним консервативной установке на принятие мира, который придает ей самой определенность.
Ключевым «архетипом» установки на отторжение мира является комплекс «чужака». Ее главным паролем – слово «чужбина». «Во имя великого начала чуждой Жизни из миров света, того высшего, что стоит прежде всех век»: это стандартное начало мандейских произведений», - пишет Йонас («название образовано от арамейского манда, «познание», так что «мандеи» дословно – «гностики»). «Понятие чуждой Жизни является одним из самых впечатляющих слов-символов, с которыми мы сталкиваемся в гностической речи». [16, с. 65]
Таубес подхватывает этот мотив и разворачивает его во вдохновенный манифест чужеродности. «Быть чужим означает происходить из чего-то другого, чем все окружающее; не чувствовать себя дома во всем, что «здесь». Это «здесь» есть нечто совершенно чужое, неродное, и потому жизнь, протекающая в этом «здесь», протекает на «чужбине». [41, с. 55] Она «понимает… что у нее есть родина, которая возвышает ее над этим миром». [41, с. 56]
Это мироощущение, как и всякое другое, связано с определенными формами действия. Йонас пишет о том, что его следствием может быть аскетизм: «избегать дальнейшего осквернения миром и, следовательно, ослабить контакты с ним до минимума». Другой вариант – «гностическая безнравственность»: утверждение «права на абсолютную свободу», исходящее из того, что «закон «Ты должен» и «Ты не должен»… является еще одной формой «космической» тирании». Для «пневматика» «все дозволено, так как пневма «спасена в его естестве» и не может быть ни запятнана его действиями, ни испугана угрозой возмездия архонтов» (правителей и стражей миропорядка, мешающих «духу» вырваться из него). [16, с. 62]
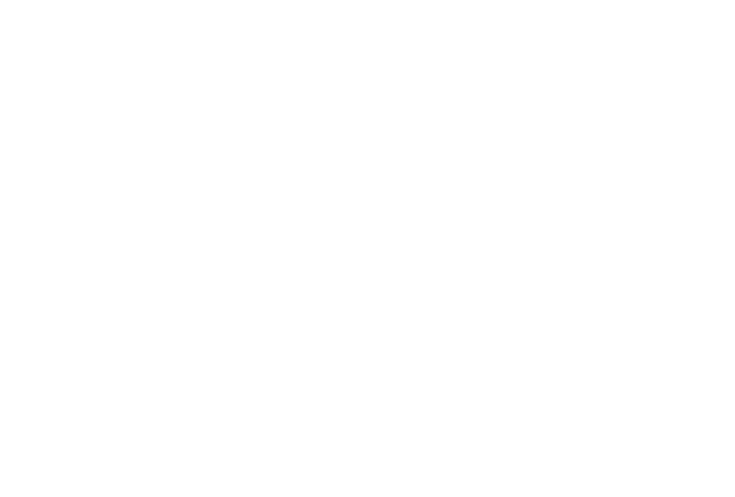
Консерватизм и антисистема
Здесь мы уже явно видим прообраз революционной повестки и революционной этики. Как Йонас, так и Таубес считают важным подчеркнуть гностическую подоплеку революций Нового времени. Это не обязательно понимать в духе влияния тайных обществ, передающих из века в век определенное мировоззрение и организованно влияющих на окружающих мир. Достаточно принять тот факт, что люди с таким мироощущением регулярно появляются на свет. Так или иначе, они находят подходящий язык для его выражения, и, когда острое ощущение собственной чужеродности обществу становится для них мотивом социального действия, этот язык становится революционным.
«Пришлец должен проломить брешь в мире», [41, с. 65] - декларирует Таубес. Что и говорить, в эпоху революций Нового времени ему это удается, как никогда раньше.
Наиболее ярко это проявилось в эпоху Французской революции, которая не была первой в череде себе подобных и все же представляла собой нечто беспрецедентное в смысле тотальности и глубины отрицания и была, по словам Токвиля, «величайшим из всех когда-либо сделанных народами усилий для того, чтобы отрезать себя от своего прошедшего». [43, с. 15]
Де Местр, который, ненавидя эту революцию, хорошо чувствовал историческую индивидуальность того, что он ненавидит, напишет о ней две вещи: во-первых, «есть во французской Революции сатанинское свойство, которое отличает ее от всего, что видели» и, во-вторых, «французская Революция является великой эпохой и… ее последствия, во всем их многообразии, будут ощущаться долго после времени ее взрыва и за пределами ее очага». [28] Иными словами, в контрреволюционном мышлении де Местра, как и в революционном мышлении, принимается допущение о том, что революция в определенном смысле создала новый мир. Мир, в котором посеяно некое «сатанинское» зерно.
В терминах нашего рассмотрения можно сказать: тот импульс отрицания мира, который был заключен в «акосмических мировоззрениях» разного толка, стал действующей силой социального мира, его неотъемлемой частью. Возник мир со встроенной хронической аномией и мир со встроенной перманентной революцией, из которой вытекает и неизбежность перманентной гражданской войны, холодной или горячей.
Таким образом, «мироотрицающее мировоззрение» имеет сильные социологические проекции. К их воссозданию можно подойти и с другой стороны: не с вопроса о том, как это мировоззрение влияет на социальный мир, а с вопроса – как и почему оно формируется в нем?
На этот счет можно выделить две гипотезы. Первая более проста и прямолинейна. Она предполагает, что комплекс чужеродности миру прорастает на почве сообществ, которые действительно оказываются вынуждены жить в чуждом миропорядке. Как пишет тот же Таубес, «положение, в котором находились евреи, благоприятствовало расцвету апокалиптический идей» [41, с. 49] – они неизменно оказывались в подчиненном или периферийном положении в мире «космологически» мыслящих империй (от древнеегипетской до Римской). В средневековой Европе одним из примеров наложения мироотрицающего религиозного мировоззрения на долгоиграющий и асимметричный (ведущийся неравными силами) этнополитический конфликт стали альбигойские, или катарские, войны, которые, как напомнит Ренан, «отнюдь не были братоубийственными».
Вторая гипотеза не противоречит первой, а, скорее, охватывает ее, предлагая более общую и более сложную картину. На языке Бергера и Лукмана эту картину можно описать как взаимную нейтрализацию разнородных «мирообразующих проектов» при их активном историческом соприкосновении. Это характерно как для «плюралистической ситуации» современных обществ, которая «по сути своей… имеет подрывной характер для само собой разумеющейся реальности традиционного status quo», [6, с. 204] так и для тех зон контакта древних цивилизаций, где «несовместимые друг с другом мифологические традиции продолжают сосуществовать бок о бок без их теоретической интеграции». [6, с. 180]
Сами условия, когда никакое из «определений реальности» не является вполне самоочевидным и вполне «своим», благоприятствуют различным формам дистанцирования человека от мира.
В эту логику хорошо укладывается рассказ Йонаса об историческом контексте гностицизма – он ищет истоки «акосмического мировоззрения» в эллинистическом сопряжении античного мира и Ближнего Востока и говорит о значении «ориентальной волны в эллинистическом мире».
И это вполне согласуется с гипотезой Льва Гумилева о предпосылках развития «мироотрицающих» мировоззрений. Он видел такую предпосылку в самом факте активных кросскультурных контактов на границах плохо совместимых друг с другом «суперэтнических систем», где разные ценностные доминанты аннигилировали друг друга, а духовно чувствительные люди теряли доверие к традициям и вовлекались в дьявольскую игру «поисков истины». Гумилев говорит об этом так: «В ареалах столкновения этносов, где поведенческие стереотипы неприемлемы для обеих сторон, повседневная жизнь теряет свою повседневную обязательную целеустремленность и люди начинают метаться в поисках смысла жизни, которого они никогда не находят». [13, с. 272]
Понятно, что это скорее произвольное обобщение, чем объяснение. Но объяснения мировоззренческих явлений не так важны, как способность к их различению. В этом отношении большой интерес представляет гумилевская концепция «антисистемы».
«Антисистемой» он называет вытекающий из мироотрицающего мировоззрения тип социальной адаптации. Эталонными чертами «антисистемы» для него являются: 1) восприятие окружающего мира как зла («метафизический нигилизм»); 2) кристаллизация меньшинства избранных, объединенного активной чужеродностью окружающему миру («сектантство»); 3) адаптация «пробужденного меньшинства» к «неправильному миру» посредством его методичного и изощренного разрушения («система негативной экологии»).
В традиции контрреволюционной мысли (от аббата Боррюэля до Огюстена Кошена) примерно в таком ключе описывались сообщества, готовившие и приближавшие Французскую революцию. Но Гумилеву удается включить это явление в куда более широкий контекст. В его заметках на эту тему мы видим «антисистему» как трансисторический феномен, возникающий в определенных фазах и в определенных зонах развития цивилизаций.
Это контекст, который дает нам возможность увидеть также и логику консервативного иммунного ответа соответствующих цивилизаций.
«Антисистема» в указанном понимании является, возможно, наиболее глубоким антонимом к консерватизму как сквозной исторической тенденции. Тенденции цивилизации обороняться, рефлексировать и реконструировать свои основы в ситуации, когда они атакованы сильным и по-своему творческим «духом разрушения», берущим исток в «акосмических» мировоззрениях. Этот дух, как вирус, активируется в моменты «слабости организма». Но сам по себе он не сводится к этой слабости, а является активной силой с собственной логикой, программой и даже своего рода пунктирной традицией, которую такие люди, как Йонас и Таубес, пытаются воссоздать.
Продолжая аналогию, можно отметить, что вирус не сможет жить, «убив организм». Его формула жизни не может образовать собственного организма, она паразитарна. Пафос отрицания мира требует существования мира и питается им. В этом смысле, казалось бы, «антисистема» не может стать обществом.
И все же, нечто подобное возможно, и происходит прямо на наших глазах.
Как пишет Леонид Ионин в книге «Восстание меньшинств», «можно довольно легко представить себе глобальное общество как совокупность (более или менее) изолированных и (более или менее) самодостаточных сообществ меньшинств, сформированных по самым разным признакам и критериям». [15, с. 233]
Меньшинства и их перечень принципиально динамичны: критерии, релевантные для образования меньшинства, постоянно «уточняются и расширяются», настройки их самосознания непрерывно обновляются на «фабрике эмансипации», принцип работы которой хорошо выражен Роджером Скрутоном: «освобождение угнетенных – бесконечное дело: едва одни жертвы окончательно сбрасывают оковы, как на горизонте появляются новые». [38, с. 13] «В результате общество начинает рассматриваться как общество меньшинств, в котором только меньшинства выглядят реально существующими и претендующими на универсальные права, тогда как… якобы господствующее большинство ведет как бы теневое существование и остается лишь фоном, служащим демонстрации специфики любого рода меньшинств и обоснованию их претензий на высокий статус и привилегированное место в системе распределения благ». [15, с. 228]
В этом контексте важны не отдельно взятые «меньшинства», а само мышление в категориях «меньшинств», сама схема мышления, в которой «часть» утверждается в противовес «целому» и общество, в пределе, предстает даже не как совокупность фрагментов, не как «сумма частей», а как «сумма отрицаний». При этом сам акт такого отрицания (во всем многообразии его видов – от банальной фокусировки на инаковости до пафоса «освободительного действия») становится базовой формой макросоциальной связи.
То, что прежде было обществом по преимуществу, – а именно, «социальный номос» (система «мирообразующих» категорий и различений) и его носители – сохраняется исключительно в качестве негативного фона для игр эмансипации.
Отрицание становится универсальным кодом публичного действия, публичное пространство начинает работать как своего рода матрица отрицания. В такой модели общества небывало широко материализуется схема мышления «антисистемы».
Логическим пределом этого процесса является превращение общества в конгломерат частиц, каждая из которых имеет свои основания для оппозиции исчезающему «целому». В «конгломерат чандалы», по выражению Ницше.
Переменная плотность бытия
Признание такой возможности оборачивается для консервативной мысли парадоксом: начав с презумпции доверия к миру и принятия мира, она заканчивает его отторжением, констатируя появление мира, от которого хочется отвернуться.
Возникает мир, глубоко искаженный чем-то, что является его противоположностью (влиянием «мироотрицающих» мировоззрений и практик). В некоторых античных школах, начиная с пифагорейцев, был образ «бытия», вдыхающего в себя «пустоту». Это мир, вдохнувший в себя слишком много «пустоты».
Этот парадокс «зашит» где-то глубоко внутри консервативной онтологии. Одной из характерных консервативных идеологем является представление об упадке, которому подвержены «миры» разного масштаба (будь то космос, цивилизация или полития).
Концепция упадочной действительности имеет в своей основе отнюдь не моральное суждение, а своего рода онтологическое суждение: нечто налично данное в нем осуждается не от имени «идеалов» или «ценностей», а от имени действительности более фундаментальной, оттесненной, подвергнутой порче или забвению, но — именно постольку, поскольку она действительна, а не идеальна, — способной привести себя к реконструкции. В основе идеологем «упадка» лежит представление о бытии, которое не тождественно самому себе и которое может приближаться к этому тождеству либо утрачивать его в ходе своей истории. О бытии, «онтологическая плотность» которого, как у пифагорейцев, может варьировать.
Отсюда это напряжение в консервативном представлении о мире. Сочетание презумпции доверия к миру с представлением о том, что он подвержен «порче», вполне аналогично той двойственности, которую мы отмечали в разделе о «жестоких фактах»: уверенность в наличии «жесткого ядра» реальности, дающего о себе знать в осевых, суровых истинах человеческой жизни, соединена с беспокойством по поводу того, что эта «суровая действительность» находится под угрозой вытеснения или фальсификации и, как следствие, требует специальных усилий для своего воспроизводства и сохранения. Жизнь необходимо «возвращать к ее началам».
Это характерно консервативная схема мысли. Если «прогрессивная мысль, – пишет Мангейм, – черпает смысл из утопии или трансценденции», то «консерватизм «видит всякое значение явления в том, что за ним стоит». [24, с. 608] Соответственно, в обращении к основам он видит и путь восстановления нарушенного порядка вещей: «Для того, чтобы обрести необходимый для ориентирования масштаб, надо не руководствоваться субъективными импульсами, но вызвать те объективированные в нас и нашем прошлом силы и идеи, тот дух, который и до этого момента, воздействуя на нас, создал все сотворенное нами». [23, с. 32]
Как следствие, консервативная установка на принятие мира не приводит, говоря словами того же Мангейма, «к отсутствию напряженности и пассивному приятию бытия», поскольку «не каждый атом этого бытия преисполнен смысла» и «необходимо все время проводить различие между существенным и несущественным». [23, с. 33]
Движение консервативной мысли происходит именно в зазоре между «наличным бытием» и его «основами», его «истоком». Именно благодаря этому она может не только «одобрять» реальность, но и воздействовать на нее. Служить источником не только легитимации, но и критического мышления.
Диалектика сохранения
В конфликте между базовым доверием к миру и ощущением его упадка есть драма консервативной мысли, но в нем нет логического противоречия. Поскольку мы говорим об установке на сохранение мира, ее предпосылкой является то, что объект сохранения подвержен угрозе. Как подчеркивает Кальтербруннер, «первоначальное принятие мира», заключенное в постулате «И увидел Бог, что это хорошо», «не имело ничего общего с плоским оптимизмом». [18, с. 68] Лишь детская формула принятия мира стихийно умозаключает от «бытие – это хорошо» к «все будет хорошо». Во взрослом принятии мира ощущение его ценности сопрягается с необходимостью усилий для поддержания его формы.
Мы уже говорили об этом в контексте мифологемы миропорождающей вражды: поддержание мира как оформленного универсума требует постоянных усилий. В определенном смысле, это постоянная война с силами хаоса и силами упадка. Больше того, эта война может быть проиграна. Объяснения такой возможности весьма разнообразны – от мифа о Рагнареке до второго закона термодинамики.
Ощущение хрупкости всего того, что делает этот мир достойным преданности и заботы, остро выражено у Шарля Морраса. «Требуется долгое время, – пишет он, – методические и длительные усилия, почти божественные намерения, чтобы построить город, возвести государство, основать цивилизацию, но нет ничего легче, чем разрушить эти хрупкие строения. Несколько тонн пороха сейчас же взрывают половину Парфенона, колония микробов истребляет афинский народ; три или четыре низменные идеи, выстроенные в систему глупцами, в течение одного столетия умудрились обесценить тысячу лет французской истории». [35, с. 117]
Эрнст Нольте, говоря о мировоззрении Морраса, не только делает акцент на характерном для него чувстве угрозы («основное ощущение» Морраса» состоит в том, что он «испытывает страх за что-то и перед чем-то» [35, с. 116]), но и дает интересную пищу для размышлений по поводу фундаментальных источников этой угрозы. Представления Морраса на этот счет можно представить в виде двух «метафизических полюсов», каждый из которых укоренен как в структуре мироздания, так и в человеческой психике.
Первым из них является «изначальный хаос», который Моррас, «как читатель Лукреция… представляет себе… «бессмысленной пляской атомов». [35, с. 117] Если говорить не в метафизических, а в исторических категориях, то, наверное, это прежде всего «варварство», угрожающее цивилизациям извне и изнутри («нападение «варваров из бездны», как иронизрует Нольте [35, с. 117]).
Вторым является «стремление к абсолюту». «Величайшая опасность для человека, его государства и его мира, – возвещает Моррас, – это не чума, не голод и не война, это его собственное сердце, предающее себя единственному абсолюту: этим он преступает границы единства, прекрасного в своем многообразии и составляющего его подлинное жизненное пространство». [35, с. 154]
В самом мироздании, как оно видится Моррасу, заложена фатальная двойственность. С одной стороны, «все сущее имеет тенденцию упорствовать в своем бытии». [35, с. 152] С другой – «в нас, и в каждой вещи, и даже в мельчайшем атоме есть необычайная тенденция – стремление выйти из себя». [35, с. 156] Оно есть и в цивилизациях, которые в своей поздней поре начинают не просто «терять форму» по дряблости, но доводят до апогея это стремление «выйти из себя», «преодолеть свою ограниченность».
Дюркгейм называет это «болезнью бесконечности» (le mal de l’infini), которой подвержены самоубийцы. [14, с. 146] Это стремление охватывает как отдельных людей, так и целые общества. Именно к таким состояниям относится фраза Тойнби: «самоубийство, не убийство является причиной гибели цивилизаций».
При всей полярности этих двух тенденций – «изначальный хаос» внутреннего и внешнего варварства, с одной стороны, и аномически-декадентная «болезнь бесконечности», с другой, – у них есть очевидный общий знаменатель. Они в равной степени противостоят чувству меры и формы, противостоят воле к ограниченности, которая выражена в словах Ницше: «жить значит хотеть быть ограниченным», противостоят самой возможности установления и поддержания границ, которая возникает в тео- и космогониях, когда «формообразующие» силы берут верх над «хтоническими» (как пишет Юнгер, «в эпосе отчетливо ощущается, что теперь существуют границы, и их охраняют» [54, с. 140]).
И эти тенденции прекрасно дополняют друг друга в событии великих революций, катастроф социального космоса: одержимый «болезнью бесконечности» условный «пришлец», говоря словами Таубеса, «проламывает брешь в мире», и в эту брешь устремляются условные «варвары из бездны», силы «изначального хаоса».
Этот сценарий «конца мира» – один из характерных консервативных паттернов.
Тот же Таубес отсылает к нему, размышляя о своих разногласиях с Карлом Шмиттом. «У Шмитта всегда был только один интерес: чтобы партийная борьба с ее хаосом не распространилась наверх, чтобы сохранилось государство. Какой угодно ценой… иначе воцарится хаос. Позднее Шмитт назовет это katechon, Удержителем, не дающим разрастись хаосу, напирающему снизу. Это не мое мировоззрение и не мой опыт». Для Таубеса как энтузиаста апокалипсиса «мир должен погибнуть». Он бравирует этим, однако сохраняет способность понять и оценить своего врага. «Я не делаю никаких духовных инвестиций в этот мир как он есть. Но я понимаю, что кто-то другой мог вкладываться в этот мир, и в апокалипсисе, какую бы форму он ни принимал, видит своего противника и делает все, чтобы держать его в узде и подчинении, потому что оттуда могут вырваться силы, с которыми мы не в состоянии совладать». [40, с. 166-167]
Это ценное напоминание слева о том, что острое понимание возможности утраты мира является неотъемлемой частью консервативной установки на его сохранение.
Больше того, консерватизм как форма мышления рождается именно в контексте реализации этой возможности. Характерен оборот Берка в «Размышлениях о революции во Франции»: «тревога погружает нас в размышления». [7, с. 94] Если «Размышления» написаны Берком в начале революции, то по мере ее развития тревога – даже для тех, кто наблюдал ее с относительно безопасного расстояния, – переходит в ощущение конца старого мира.
Это ощущение можно обобщить. Дело не только во Французской революции. В целом, стартовая ситуация эпохи модерна – это ситуация, максимально остро ставящая под вопрос все те аспекты стихийно-охранительной онтологической программы, о которых мы говорили выше.
Это ситуация, в которой рушится не только привычный порядок вещей, но и осмысленный социальный космос, нарастает аномия и в моменте торжествует бескомпромиссный энтузиазм построения «нового мира», достигающий кульминации в религиозных и революционных войнах. Ситуация, в которой вершится великий реванш «акосмических мировоззрений» по отношению к космологическим, ранее господствовавшим в цивилизациях и эпохах мировой истории.
Т.е. консервативная установка терпит поражение на всех уровнях сразу.
Консерватизм как политическое мировоззрение рождается из мужества принятия этого поражения. Речь не о том, чтобы смириться с ним, а о том, чтобы принять его как точку отсчета своей истории.
При правильном подходе, «начать с поражения» не страшно. Самым ярким примером такого решения являются римляне, сделавшие краеугольным камнем своего политического мифа – сокрушительное поражение Трои, продолжателями которой они себя объявили. В таком понимании принятие поражения может быть сильной позицией, которая подразумевает, как скажет Меллер ван ден Брук после немецкого поражения в Первой мировой войне, что «даже после жутких потрясений возможно продолжение жизни». [8, с. 291]
Иными словами, консерватизм может быть не только стратегией «удержания» мира, но и стратегией поведения в ситуации, когда его не удалось удержать. В истории социокультурных миров консерватизм – не только антиапокалиптическая, но и постапокалиптическая стратегия. Заключенная в ней способность к регенерации, пожалуй, тоже важный элемент презумпции доверия к бытию, часть установки на принятие мира. И установки на его поддержание: она означает, что даже катастрофа не является поводом к внутренней демобилизации, к отказу от усилий по поддержанию формы.
Консерватор «стремится утвердить человека в жизни, о которой консерватор знает, что это катастрофическая жизнь», [8, с. 296] – пишет Меллер ван ден Брук, и добавляет, возможно, вспомнив о римлянах и Трое: «традиции постоянно разбиваются катастрофами», «но… неизменно восстанавливаются». [8, с. 325]
И все же, исторический опыт поражения не проходит бесследно для исходной диспозиции консервативного сознания. В ситуации, когда коллапс мира – в том или ином смысле, в той или иной степени – уже произошел, установка на его сохранение больше не может быть наивной. В этом случае, если и можно вести речь о «сохранении», то диалектическом: прошедшем через потерю. Оно будет состоять не в защите статус-кво, а в воссоздании существенного, возвращении к истокам, восстановлении основ.
Здесь мы уже явно видим прообраз революционной повестки и революционной этики. Как Йонас, так и Таубес считают важным подчеркнуть гностическую подоплеку революций Нового времени. Это не обязательно понимать в духе влияния тайных обществ, передающих из века в век определенное мировоззрение и организованно влияющих на окружающих мир. Достаточно принять тот факт, что люди с таким мироощущением регулярно появляются на свет. Так или иначе, они находят подходящий язык для его выражения, и, когда острое ощущение собственной чужеродности обществу становится для них мотивом социального действия, этот язык становится революционным.
«Пришлец должен проломить брешь в мире», [41, с. 65] - декларирует Таубес. Что и говорить, в эпоху революций Нового времени ему это удается, как никогда раньше.
Наиболее ярко это проявилось в эпоху Французской революции, которая не была первой в череде себе подобных и все же представляла собой нечто беспрецедентное в смысле тотальности и глубины отрицания и была, по словам Токвиля, «величайшим из всех когда-либо сделанных народами усилий для того, чтобы отрезать себя от своего прошедшего». [43, с. 15]
Де Местр, который, ненавидя эту революцию, хорошо чувствовал историческую индивидуальность того, что он ненавидит, напишет о ней две вещи: во-первых, «есть во французской Революции сатанинское свойство, которое отличает ее от всего, что видели» и, во-вторых, «французская Революция является великой эпохой и… ее последствия, во всем их многообразии, будут ощущаться долго после времени ее взрыва и за пределами ее очага». [28] Иными словами, в контрреволюционном мышлении де Местра, как и в революционном мышлении, принимается допущение о том, что революция в определенном смысле создала новый мир. Мир, в котором посеяно некое «сатанинское» зерно.
В терминах нашего рассмотрения можно сказать: тот импульс отрицания мира, который был заключен в «акосмических мировоззрениях» разного толка, стал действующей силой социального мира, его неотъемлемой частью. Возник мир со встроенной хронической аномией и мир со встроенной перманентной революцией, из которой вытекает и неизбежность перманентной гражданской войны, холодной или горячей.
Таким образом, «мироотрицающее мировоззрение» имеет сильные социологические проекции. К их воссозданию можно подойти и с другой стороны: не с вопроса о том, как это мировоззрение влияет на социальный мир, а с вопроса – как и почему оно формируется в нем?
На этот счет можно выделить две гипотезы. Первая более проста и прямолинейна. Она предполагает, что комплекс чужеродности миру прорастает на почве сообществ, которые действительно оказываются вынуждены жить в чуждом миропорядке. Как пишет тот же Таубес, «положение, в котором находились евреи, благоприятствовало расцвету апокалиптический идей» [41, с. 49] – они неизменно оказывались в подчиненном или периферийном положении в мире «космологически» мыслящих империй (от древнеегипетской до Римской). В средневековой Европе одним из примеров наложения мироотрицающего религиозного мировоззрения на долгоиграющий и асимметричный (ведущийся неравными силами) этнополитический конфликт стали альбигойские, или катарские, войны, которые, как напомнит Ренан, «отнюдь не были братоубийственными».
Вторая гипотеза не противоречит первой, а, скорее, охватывает ее, предлагая более общую и более сложную картину. На языке Бергера и Лукмана эту картину можно описать как взаимную нейтрализацию разнородных «мирообразующих проектов» при их активном историческом соприкосновении. Это характерно как для «плюралистической ситуации» современных обществ, которая «по сути своей… имеет подрывной характер для само собой разумеющейся реальности традиционного status quo», [6, с. 204] так и для тех зон контакта древних цивилизаций, где «несовместимые друг с другом мифологические традиции продолжают сосуществовать бок о бок без их теоретической интеграции». [6, с. 180]
Сами условия, когда никакое из «определений реальности» не является вполне самоочевидным и вполне «своим», благоприятствуют различным формам дистанцирования человека от мира.
В эту логику хорошо укладывается рассказ Йонаса об историческом контексте гностицизма – он ищет истоки «акосмического мировоззрения» в эллинистическом сопряжении античного мира и Ближнего Востока и говорит о значении «ориентальной волны в эллинистическом мире».
И это вполне согласуется с гипотезой Льва Гумилева о предпосылках развития «мироотрицающих» мировоззрений. Он видел такую предпосылку в самом факте активных кросскультурных контактов на границах плохо совместимых друг с другом «суперэтнических систем», где разные ценностные доминанты аннигилировали друг друга, а духовно чувствительные люди теряли доверие к традициям и вовлекались в дьявольскую игру «поисков истины». Гумилев говорит об этом так: «В ареалах столкновения этносов, где поведенческие стереотипы неприемлемы для обеих сторон, повседневная жизнь теряет свою повседневную обязательную целеустремленность и люди начинают метаться в поисках смысла жизни, которого они никогда не находят». [13, с. 272]
Понятно, что это скорее произвольное обобщение, чем объяснение. Но объяснения мировоззренческих явлений не так важны, как способность к их различению. В этом отношении большой интерес представляет гумилевская концепция «антисистемы».
«Антисистемой» он называет вытекающий из мироотрицающего мировоззрения тип социальной адаптации. Эталонными чертами «антисистемы» для него являются: 1) восприятие окружающего мира как зла («метафизический нигилизм»); 2) кристаллизация меньшинства избранных, объединенного активной чужеродностью окружающему миру («сектантство»); 3) адаптация «пробужденного меньшинства» к «неправильному миру» посредством его методичного и изощренного разрушения («система негативной экологии»).
В традиции контрреволюционной мысли (от аббата Боррюэля до Огюстена Кошена) примерно в таком ключе описывались сообщества, готовившие и приближавшие Французскую революцию. Но Гумилеву удается включить это явление в куда более широкий контекст. В его заметках на эту тему мы видим «антисистему» как трансисторический феномен, возникающий в определенных фазах и в определенных зонах развития цивилизаций.
Это контекст, который дает нам возможность увидеть также и логику консервативного иммунного ответа соответствующих цивилизаций.
«Антисистема» в указанном понимании является, возможно, наиболее глубоким антонимом к консерватизму как сквозной исторической тенденции. Тенденции цивилизации обороняться, рефлексировать и реконструировать свои основы в ситуации, когда они атакованы сильным и по-своему творческим «духом разрушения», берущим исток в «акосмических» мировоззрениях. Этот дух, как вирус, активируется в моменты «слабости организма». Но сам по себе он не сводится к этой слабости, а является активной силой с собственной логикой, программой и даже своего рода пунктирной традицией, которую такие люди, как Йонас и Таубес, пытаются воссоздать.
Продолжая аналогию, можно отметить, что вирус не сможет жить, «убив организм». Его формула жизни не может образовать собственного организма, она паразитарна. Пафос отрицания мира требует существования мира и питается им. В этом смысле, казалось бы, «антисистема» не может стать обществом.
И все же, нечто подобное возможно, и происходит прямо на наших глазах.
Как пишет Леонид Ионин в книге «Восстание меньшинств», «можно довольно легко представить себе глобальное общество как совокупность (более или менее) изолированных и (более или менее) самодостаточных сообществ меньшинств, сформированных по самым разным признакам и критериям». [15, с. 233]
Меньшинства и их перечень принципиально динамичны: критерии, релевантные для образования меньшинства, постоянно «уточняются и расширяются», настройки их самосознания непрерывно обновляются на «фабрике эмансипации», принцип работы которой хорошо выражен Роджером Скрутоном: «освобождение угнетенных – бесконечное дело: едва одни жертвы окончательно сбрасывают оковы, как на горизонте появляются новые». [38, с. 13] «В результате общество начинает рассматриваться как общество меньшинств, в котором только меньшинства выглядят реально существующими и претендующими на универсальные права, тогда как… якобы господствующее большинство ведет как бы теневое существование и остается лишь фоном, служащим демонстрации специфики любого рода меньшинств и обоснованию их претензий на высокий статус и привилегированное место в системе распределения благ». [15, с. 228]
В этом контексте важны не отдельно взятые «меньшинства», а само мышление в категориях «меньшинств», сама схема мышления, в которой «часть» утверждается в противовес «целому» и общество, в пределе, предстает даже не как совокупность фрагментов, не как «сумма частей», а как «сумма отрицаний». При этом сам акт такого отрицания (во всем многообразии его видов – от банальной фокусировки на инаковости до пафоса «освободительного действия») становится базовой формой макросоциальной связи.
То, что прежде было обществом по преимуществу, – а именно, «социальный номос» (система «мирообразующих» категорий и различений) и его носители – сохраняется исключительно в качестве негативного фона для игр эмансипации.
Отрицание становится универсальным кодом публичного действия, публичное пространство начинает работать как своего рода матрица отрицания. В такой модели общества небывало широко материализуется схема мышления «антисистемы».
Логическим пределом этого процесса является превращение общества в конгломерат частиц, каждая из которых имеет свои основания для оппозиции исчезающему «целому». В «конгломерат чандалы», по выражению Ницше.
Переменная плотность бытия
Признание такой возможности оборачивается для консервативной мысли парадоксом: начав с презумпции доверия к миру и принятия мира, она заканчивает его отторжением, констатируя появление мира, от которого хочется отвернуться.
Возникает мир, глубоко искаженный чем-то, что является его противоположностью (влиянием «мироотрицающих» мировоззрений и практик). В некоторых античных школах, начиная с пифагорейцев, был образ «бытия», вдыхающего в себя «пустоту». Это мир, вдохнувший в себя слишком много «пустоты».
Этот парадокс «зашит» где-то глубоко внутри консервативной онтологии. Одной из характерных консервативных идеологем является представление об упадке, которому подвержены «миры» разного масштаба (будь то космос, цивилизация или полития).
Концепция упадочной действительности имеет в своей основе отнюдь не моральное суждение, а своего рода онтологическое суждение: нечто налично данное в нем осуждается не от имени «идеалов» или «ценностей», а от имени действительности более фундаментальной, оттесненной, подвергнутой порче или забвению, но — именно постольку, поскольку она действительна, а не идеальна, — способной привести себя к реконструкции. В основе идеологем «упадка» лежит представление о бытии, которое не тождественно самому себе и которое может приближаться к этому тождеству либо утрачивать его в ходе своей истории. О бытии, «онтологическая плотность» которого, как у пифагорейцев, может варьировать.
Отсюда это напряжение в консервативном представлении о мире. Сочетание презумпции доверия к миру с представлением о том, что он подвержен «порче», вполне аналогично той двойственности, которую мы отмечали в разделе о «жестоких фактах»: уверенность в наличии «жесткого ядра» реальности, дающего о себе знать в осевых, суровых истинах человеческой жизни, соединена с беспокойством по поводу того, что эта «суровая действительность» находится под угрозой вытеснения или фальсификации и, как следствие, требует специальных усилий для своего воспроизводства и сохранения. Жизнь необходимо «возвращать к ее началам».
Это характерно консервативная схема мысли. Если «прогрессивная мысль, – пишет Мангейм, – черпает смысл из утопии или трансценденции», то «консерватизм «видит всякое значение явления в том, что за ним стоит». [24, с. 608] Соответственно, в обращении к основам он видит и путь восстановления нарушенного порядка вещей: «Для того, чтобы обрести необходимый для ориентирования масштаб, надо не руководствоваться субъективными импульсами, но вызвать те объективированные в нас и нашем прошлом силы и идеи, тот дух, который и до этого момента, воздействуя на нас, создал все сотворенное нами». [23, с. 32]
Как следствие, консервативная установка на принятие мира не приводит, говоря словами того же Мангейма, «к отсутствию напряженности и пассивному приятию бытия», поскольку «не каждый атом этого бытия преисполнен смысла» и «необходимо все время проводить различие между существенным и несущественным». [23, с. 33]
Движение консервативной мысли происходит именно в зазоре между «наличным бытием» и его «основами», его «истоком». Именно благодаря этому она может не только «одобрять» реальность, но и воздействовать на нее. Служить источником не только легитимации, но и критического мышления.
Диалектика сохранения
В конфликте между базовым доверием к миру и ощущением его упадка есть драма консервативной мысли, но в нем нет логического противоречия. Поскольку мы говорим об установке на сохранение мира, ее предпосылкой является то, что объект сохранения подвержен угрозе. Как подчеркивает Кальтербруннер, «первоначальное принятие мира», заключенное в постулате «И увидел Бог, что это хорошо», «не имело ничего общего с плоским оптимизмом». [18, с. 68] Лишь детская формула принятия мира стихийно умозаключает от «бытие – это хорошо» к «все будет хорошо». Во взрослом принятии мира ощущение его ценности сопрягается с необходимостью усилий для поддержания его формы.
Мы уже говорили об этом в контексте мифологемы миропорождающей вражды: поддержание мира как оформленного универсума требует постоянных усилий. В определенном смысле, это постоянная война с силами хаоса и силами упадка. Больше того, эта война может быть проиграна. Объяснения такой возможности весьма разнообразны – от мифа о Рагнареке до второго закона термодинамики.
Ощущение хрупкости всего того, что делает этот мир достойным преданности и заботы, остро выражено у Шарля Морраса. «Требуется долгое время, – пишет он, – методические и длительные усилия, почти божественные намерения, чтобы построить город, возвести государство, основать цивилизацию, но нет ничего легче, чем разрушить эти хрупкие строения. Несколько тонн пороха сейчас же взрывают половину Парфенона, колония микробов истребляет афинский народ; три или четыре низменные идеи, выстроенные в систему глупцами, в течение одного столетия умудрились обесценить тысячу лет французской истории». [35, с. 117]
Эрнст Нольте, говоря о мировоззрении Морраса, не только делает акцент на характерном для него чувстве угрозы («основное ощущение» Морраса» состоит в том, что он «испытывает страх за что-то и перед чем-то» [35, с. 116]), но и дает интересную пищу для размышлений по поводу фундаментальных источников этой угрозы. Представления Морраса на этот счет можно представить в виде двух «метафизических полюсов», каждый из которых укоренен как в структуре мироздания, так и в человеческой психике.
Первым из них является «изначальный хаос», который Моррас, «как читатель Лукреция… представляет себе… «бессмысленной пляской атомов». [35, с. 117] Если говорить не в метафизических, а в исторических категориях, то, наверное, это прежде всего «варварство», угрожающее цивилизациям извне и изнутри («нападение «варваров из бездны», как иронизрует Нольте [35, с. 117]).
Вторым является «стремление к абсолюту». «Величайшая опасность для человека, его государства и его мира, – возвещает Моррас, – это не чума, не голод и не война, это его собственное сердце, предающее себя единственному абсолюту: этим он преступает границы единства, прекрасного в своем многообразии и составляющего его подлинное жизненное пространство». [35, с. 154]
В самом мироздании, как оно видится Моррасу, заложена фатальная двойственность. С одной стороны, «все сущее имеет тенденцию упорствовать в своем бытии». [35, с. 152] С другой – «в нас, и в каждой вещи, и даже в мельчайшем атоме есть необычайная тенденция – стремление выйти из себя». [35, с. 156] Оно есть и в цивилизациях, которые в своей поздней поре начинают не просто «терять форму» по дряблости, но доводят до апогея это стремление «выйти из себя», «преодолеть свою ограниченность».
Дюркгейм называет это «болезнью бесконечности» (le mal de l’infini), которой подвержены самоубийцы. [14, с. 146] Это стремление охватывает как отдельных людей, так и целые общества. Именно к таким состояниям относится фраза Тойнби: «самоубийство, не убийство является причиной гибели цивилизаций».
При всей полярности этих двух тенденций – «изначальный хаос» внутреннего и внешнего варварства, с одной стороны, и аномически-декадентная «болезнь бесконечности», с другой, – у них есть очевидный общий знаменатель. Они в равной степени противостоят чувству меры и формы, противостоят воле к ограниченности, которая выражена в словах Ницше: «жить значит хотеть быть ограниченным», противостоят самой возможности установления и поддержания границ, которая возникает в тео- и космогониях, когда «формообразующие» силы берут верх над «хтоническими» (как пишет Юнгер, «в эпосе отчетливо ощущается, что теперь существуют границы, и их охраняют» [54, с. 140]).
И эти тенденции прекрасно дополняют друг друга в событии великих революций, катастроф социального космоса: одержимый «болезнью бесконечности» условный «пришлец», говоря словами Таубеса, «проламывает брешь в мире», и в эту брешь устремляются условные «варвары из бездны», силы «изначального хаоса».
Этот сценарий «конца мира» – один из характерных консервативных паттернов.
Тот же Таубес отсылает к нему, размышляя о своих разногласиях с Карлом Шмиттом. «У Шмитта всегда был только один интерес: чтобы партийная борьба с ее хаосом не распространилась наверх, чтобы сохранилось государство. Какой угодно ценой… иначе воцарится хаос. Позднее Шмитт назовет это katechon, Удержителем, не дающим разрастись хаосу, напирающему снизу. Это не мое мировоззрение и не мой опыт». Для Таубеса как энтузиаста апокалипсиса «мир должен погибнуть». Он бравирует этим, однако сохраняет способность понять и оценить своего врага. «Я не делаю никаких духовных инвестиций в этот мир как он есть. Но я понимаю, что кто-то другой мог вкладываться в этот мир, и в апокалипсисе, какую бы форму он ни принимал, видит своего противника и делает все, чтобы держать его в узде и подчинении, потому что оттуда могут вырваться силы, с которыми мы не в состоянии совладать». [40, с. 166-167]
Это ценное напоминание слева о том, что острое понимание возможности утраты мира является неотъемлемой частью консервативной установки на его сохранение.
Больше того, консерватизм как форма мышления рождается именно в контексте реализации этой возможности. Характерен оборот Берка в «Размышлениях о революции во Франции»: «тревога погружает нас в размышления». [7, с. 94] Если «Размышления» написаны Берком в начале революции, то по мере ее развития тревога – даже для тех, кто наблюдал ее с относительно безопасного расстояния, – переходит в ощущение конца старого мира.
Это ощущение можно обобщить. Дело не только во Французской революции. В целом, стартовая ситуация эпохи модерна – это ситуация, максимально остро ставящая под вопрос все те аспекты стихийно-охранительной онтологической программы, о которых мы говорили выше.
Это ситуация, в которой рушится не только привычный порядок вещей, но и осмысленный социальный космос, нарастает аномия и в моменте торжествует бескомпромиссный энтузиазм построения «нового мира», достигающий кульминации в религиозных и революционных войнах. Ситуация, в которой вершится великий реванш «акосмических мировоззрений» по отношению к космологическим, ранее господствовавшим в цивилизациях и эпохах мировой истории.
Т.е. консервативная установка терпит поражение на всех уровнях сразу.
Консерватизм как политическое мировоззрение рождается из мужества принятия этого поражения. Речь не о том, чтобы смириться с ним, а о том, чтобы принять его как точку отсчета своей истории.
При правильном подходе, «начать с поражения» не страшно. Самым ярким примером такого решения являются римляне, сделавшие краеугольным камнем своего политического мифа – сокрушительное поражение Трои, продолжателями которой они себя объявили. В таком понимании принятие поражения может быть сильной позицией, которая подразумевает, как скажет Меллер ван ден Брук после немецкого поражения в Первой мировой войне, что «даже после жутких потрясений возможно продолжение жизни». [8, с. 291]
Иными словами, консерватизм может быть не только стратегией «удержания» мира, но и стратегией поведения в ситуации, когда его не удалось удержать. В истории социокультурных миров консерватизм – не только антиапокалиптическая, но и постапокалиптическая стратегия. Заключенная в ней способность к регенерации, пожалуй, тоже важный элемент презумпции доверия к бытию, часть установки на принятие мира. И установки на его поддержание: она означает, что даже катастрофа не является поводом к внутренней демобилизации, к отказу от усилий по поддержанию формы.
Консерватор «стремится утвердить человека в жизни, о которой консерватор знает, что это катастрофическая жизнь», [8, с. 296] – пишет Меллер ван ден Брук, и добавляет, возможно, вспомнив о римлянах и Трое: «традиции постоянно разбиваются катастрофами», «но… неизменно восстанавливаются». [8, с. 325]
И все же, исторический опыт поражения не проходит бесследно для исходной диспозиции консервативного сознания. В ситуации, когда коллапс мира – в том или ином смысле, в той или иной степени – уже произошел, установка на его сохранение больше не может быть наивной. В этом случае, если и можно вести речь о «сохранении», то диалектическом: прошедшем через потерю. Оно будет состоять не в защите статус-кво, а в воссоздании существенного, возвращении к истокам, восстановлении основ.
Опубликовано в издании «Логос», 2026 год
Литература:
- Аврелий, Марк. Наедине с собой. М., 2022.
- Арендт Х. О революции. М., 2011.
- Арендт Х. Понятие истории. // Между прошлым и будущим. Восемь упражнений в политической мысли. М., 2014.
- Арендт, Ханна. Что такое политика? Фрагменты из наследия. СПб., 2025.
- Бергер П. Священная завеса. Элементы социологической теории религии. М., 2019.
- Бергер, Питер; Лукман, Томас. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М., 1995.
- Бёрк, Эдмунд. Размышления о революции во Франции. М., 2023.
- Брук М. ван ден. Миф о вечной империи и Третий рейх. М. 2009.
- Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
- Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М., 1998.
- Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990.
- Гоше М. Правые и левые: история и судьба. М., 2024.
- Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. М., 2018.
- Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд. М., 1994.
- Ионин Л.Г. Восстание меньшинств. М.; СПб., 2013.
- Йонас, Ганс. Гностицизм (гностическая религия). СПб., 1998.
- Казаков М.М. Христианская Церковь и Римская империя в IV веке. // Очерки истории христианской церкви в Европе (Античность, средние века, Реформация). — Смоленск, 1999.
- Кальтербруннер Г.-К. Трудный консерватизм. М., 2020.
- Кант, Иммануил. Ответ на вопрос: что такое Просвещение? // Образовательная политика. 2012. №3 (59).
- Кожев А. Понятие власти. М., 2006.
- Кортес, Хуан Доносо. Сочинения. СПб., 2006.
- Макинтайр А. После добродетели: Исследования теории морали. Екатеринбург., 2000.
- Манхейм, Карл. Идеология и утопия. // Манхейм Карл. Диагноз нашего времени. М., 1994.
- Манхейм, Карл. Консервативная мысль. // Манхейм Карл. Диагноз нашего времени. М., 1994.
- Маркес, Габриэль Гарсия. Сто лет одиночества. СПб., 1997.
- Маркс К., Энгельс Ф., Сочинения. Т.3, М., 1955.
- Местр Ж. де. Санкт-Петербургские вечера. СПб., 2017.
- Местр, Жозеф де. Рассуждения о Франции. М., 1997.
- Местр, Жозеф де. Четыре неизданные главы о России. // Жозеф де Местр. Сочинения. СПб., 2007.
- Молер А. Против либералов. М., 2024.
- Немецкая социология. М., 2003.
- Никишин В.О. Падение Западной Римской империи: внутренние трансформации и внешний коллапс. // Цивилизационные вызовы во всемирно-исторической перспективе. М., 2018.
- Ницше, Фридрих. Соч.: В 2 т. М.,1990. Т.1.
- Ницше, Фридрих. Соч.: В 2 т. М.,1990. Т.2.
- Нольте Э. Фашизм в его эпохе. Новосибирск, 2001.
- Оукшот, Майкл. Что значит быть консерватором. // Оукшот Майкл. Рационализм в политике и другие статьи. М., 2002.
- Робин К. Реакционный дух. Консерватизм от Эдмунда Берка до Сары Пейлин. М., 2013.
- Скрутон Р. Дураки, мошенники и поджигатели: Мыслители новых левых. М., 2021.
- Слотердайк, Петер. Критика цинического разума. Екатеринбург, 2001.
- Таубес, Якоб. Ad Karl Smitt. Сопряжение противостремительного. СПб., 2021.
- Таубес, Якоб. Западная эсхатология. СПб., 2023.
- Тесля, Андрей. Русский консерватор: о системе политических воззрений К. П. Победоносцева 1870–1890-х годов. // Социологическое обозрение. 2017. Т. 16. №1.
- Токвиль, Алексис де. Старый порядок и революция. Челябинск, 2017.
- Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. М., 1989.
- Хантингтон, Сэмюэль. Консерватизм как идеология. // Тетради по консерватизму. 2016. №1.
- Хоркхаймер, Макс; Адорно, Теодор. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. М.; СПб., 1997.
- Шелер, Макс. К феномену трагического. О смысле страдания. М.; СПб., 2022.
- Шмитт, Карл. Номос Земли в праве народов jus publicum europaeum. СПб., 2008.
- Шоню П. Цивилизация классической Европы. Екатеринбург., 2005.
- Шпенглер, Освальд. Человек и техника. // Культурология. ХХ век. М., 1995.
- Элиот, Томас Стернз. Назначение поэзии. Статьи о литературе. Киев, 1996.
- Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 2006.
- Эриксон Э. Трагедия личности. М., 2008.
- Юнгер, Эрнст. Перед стеной времени. М., 2024.
- Pocock J.G.A. Conservative Enlightenment and Democratic Revolutions: The American and French Cases in British Perspective // Government and Opposi-tion. – 1989. – Vol. 24, № 1.
