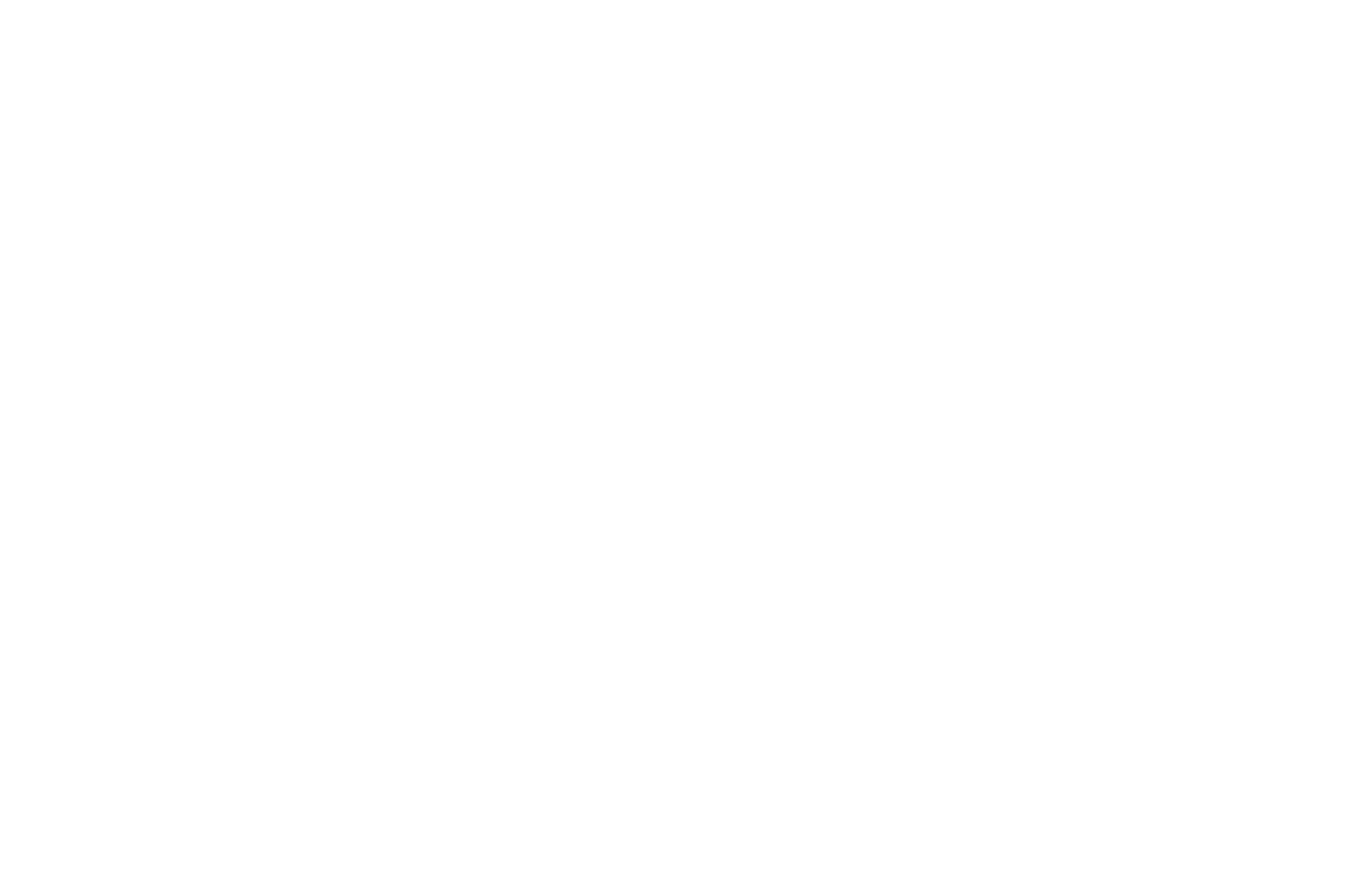Спор о суверинитете
ПРЕДИСЛОВИЕ
Что толку спорить о суверенитете? Ведь это повестка второго срока Путина, а сейчас время грезить об инновациях и правовой культуре. Таково убеждение текущего момента.
Что на него ответить? Что «философы» склонны заниматься «несвоевременным»? Но боюсь, это не выражает сути дела в моем случае. Если я упорствую в том, чтобы обсуждать вопрос о суверенитете, то лишь потому, что склонен понимать его совершенно иначе, чем та общественность, для которой, в общем и целом, этот вопрос сводился к вариациям на тему «восстановления международного статуса» страны и «укрепления вертикали власти» и которая не видит сегодня во всем этом ничего, кроме изношенных аксессуаров сурковского дискурса.
Пару раз я уже пытался сместить акценты, выдвигая на первый план «неочевидные» стороны суверенитета как формообразующей категории политического мышления.
В статье «О суверенности» речь шла о том, чтобы показать связь суверенитета с современным типом развития общества или, если угодно, с правильно понятой модернизацией.
Статья «О суверенности - 2» была призвана напомнить о суверенитете как первооснове публичной этики. Как о категории, которая позволяет отделять публичное достояние (будь то «федеральное собственность» или «общественное благо») от частного и, как следствие, — называть государственную коррупцию кражей, а не извлечением административной ренты.
Кстати, понимание этого простого обстоятельства — что публичное достояние священно и неприкосновенно лишь в том случае, если есть суверен, с которым оно соотнесено, если бытие этого суверена должным образом тематизировано и прочувствовано обществом, — должно предостеречь нас от попыток «лечить» этическую эрозию государства пилюлями частной морали. Т.е., если вспомнить о наших «политических кантианцах» — от соблазна «универсализировать» частную мораль до состояния публичной.
Этот соблазн по-своему понятен. Ведь есть ощущение, что частная мораль — ресурс в России все еще не столь дефицитный, как публичная. Но универсализация — от частного к публичному — невозможна. Вопреки стереотипу, публичная этика по самой своей сути вообще не является универсалистской: она апеллирует к бытию конкретного лица — суверена (государя или народа или, лучше сказать, народа-государя), а не к гомологии всех «разумных существ». И для ее приведения к жизни, для ее активации, прежде всего, в сознании государственных людей требуется не голос совести, а рычание Левиафана.
Да, рычание. Но не подумайте, что речь идет о простом принуждении к исполнению долга перед сувереном. Нет. Речь идет о принудительном утверждении бытия суверена, которым собственно и создается этот долг.
Если суверен существует — значит, существуют связывающие нас с ним узы (причем не только обязанности, но и политические права, поскольку мы являемся его частью). Если суверена нет… Значит, все позволено. По крайней мере, на той территории, которая некогда была территорией публичной власти.
Вне идеи суверенитета государство является безраздельной добычей государственных аппаратов. Поэтому сегодня, как и прежде, вопрос о суверенитете — это лишь во вторую очередь вопрос о том, чтобы «никому не позволить вмешиваться в наши внутренние дела»; это лишь в третью очередь вопрос о вертикали решения. В первую очередь, это вопрос о вступлении во владение государством того, кому оно по праву принадлежит.
И разумеется, со своей стороны, я имею в виду отнюдь не «многонациональный народ РФ». Его провозглашение «единственным источником власти» слишком напоминает привчычку «эффективных менеджеров» оформлять собственность на подставные лица или структуры, существующие лишь на бумаге.
Народ-суверен, чтобы быть, должен обладать исторической и политической действительностью, и это значит, прежде всего, — национальной идентичностью, «проецирующей» его бытие в историческом времени, и механизмами представительства, оформляющими его присутствие в общественном пространстве. Поэтому вопрос о суверенитете служит лишь иным способом поставить другой вопрос, настоятельно требующий своего решения: вопрос о формировании политической нации как способе приведения суверена к присутствию.
Несмотря на то, что это отождествление («суверенного» с «национальным») банально для современной эпохи[1], многое ему сопротивляется. Причем не только в обыденном восприятии «суверенистских» лозунгов, ассоциируемых сейчас скорее с могуществом государства, чем с полновластием нации, но и в научном дискурсе о суверенитете. Должен признать, в предыдущих публикациях я недооценил этот факт, и впоследствии встретил наиболее серьезного оппонента там, где не ожидал его найти. Я имею в виду прошлогоднюю статью Вадима Цымбурского «Игры суверенитета: новый возраст России» (Русский журнал. Рабочие тетради. 2008. №2), в которой предпринимается масштабная попытка очистить идею суверенитета от любой идеалистической и нормативистской нагрузки, что означает, прежде всего: отделить вопрос о суверенитете от вопроса о внутренней структуре и качестве легитимности власти, осуществляющей суверенитет.
Эту «реалистическую» тенденцию идеи суверенитета нельзя не иметь в виду. Ее рассмотрению и посвящена нижеследующая статья, основные аргументы которой я имел случай обсудить с Цымбурским за несколько месяцев до его ухода из жизни. Думаю, ранг этого мыслителя позволяет мне обнародовать полемику с ним без скидок на изменившиеся обстоятельства.
Что толку спорить о суверенитете? Ведь это повестка второго срока Путина, а сейчас время грезить об инновациях и правовой культуре. Таково убеждение текущего момента.
Что на него ответить? Что «философы» склонны заниматься «несвоевременным»? Но боюсь, это не выражает сути дела в моем случае. Если я упорствую в том, чтобы обсуждать вопрос о суверенитете, то лишь потому, что склонен понимать его совершенно иначе, чем та общественность, для которой, в общем и целом, этот вопрос сводился к вариациям на тему «восстановления международного статуса» страны и «укрепления вертикали власти» и которая не видит сегодня во всем этом ничего, кроме изношенных аксессуаров сурковского дискурса.
Пару раз я уже пытался сместить акценты, выдвигая на первый план «неочевидные» стороны суверенитета как формообразующей категории политического мышления.
В статье «О суверенности» речь шла о том, чтобы показать связь суверенитета с современным типом развития общества или, если угодно, с правильно понятой модернизацией.
Статья «О суверенности - 2» была призвана напомнить о суверенитете как первооснове публичной этики. Как о категории, которая позволяет отделять публичное достояние (будь то «федеральное собственность» или «общественное благо») от частного и, как следствие, — называть государственную коррупцию кражей, а не извлечением административной ренты.
Кстати, понимание этого простого обстоятельства — что публичное достояние священно и неприкосновенно лишь в том случае, если есть суверен, с которым оно соотнесено, если бытие этого суверена должным образом тематизировано и прочувствовано обществом, — должно предостеречь нас от попыток «лечить» этическую эрозию государства пилюлями частной морали. Т.е., если вспомнить о наших «политических кантианцах» — от соблазна «универсализировать» частную мораль до состояния публичной.
Этот соблазн по-своему понятен. Ведь есть ощущение, что частная мораль — ресурс в России все еще не столь дефицитный, как публичная. Но универсализация — от частного к публичному — невозможна. Вопреки стереотипу, публичная этика по самой своей сути вообще не является универсалистской: она апеллирует к бытию конкретного лица — суверена (государя или народа или, лучше сказать, народа-государя), а не к гомологии всех «разумных существ». И для ее приведения к жизни, для ее активации, прежде всего, в сознании государственных людей требуется не голос совести, а рычание Левиафана.
Да, рычание. Но не подумайте, что речь идет о простом принуждении к исполнению долга перед сувереном. Нет. Речь идет о принудительном утверждении бытия суверена, которым собственно и создается этот долг.
Если суверен существует — значит, существуют связывающие нас с ним узы (причем не только обязанности, но и политические права, поскольку мы являемся его частью). Если суверена нет… Значит, все позволено. По крайней мере, на той территории, которая некогда была территорией публичной власти.
Вне идеи суверенитета государство является безраздельной добычей государственных аппаратов. Поэтому сегодня, как и прежде, вопрос о суверенитете — это лишь во вторую очередь вопрос о том, чтобы «никому не позволить вмешиваться в наши внутренние дела»; это лишь в третью очередь вопрос о вертикали решения. В первую очередь, это вопрос о вступлении во владение государством того, кому оно по праву принадлежит.
И разумеется, со своей стороны, я имею в виду отнюдь не «многонациональный народ РФ». Его провозглашение «единственным источником власти» слишком напоминает привчычку «эффективных менеджеров» оформлять собственность на подставные лица или структуры, существующие лишь на бумаге.
Народ-суверен, чтобы быть, должен обладать исторической и политической действительностью, и это значит, прежде всего, — национальной идентичностью, «проецирующей» его бытие в историческом времени, и механизмами представительства, оформляющими его присутствие в общественном пространстве. Поэтому вопрос о суверенитете служит лишь иным способом поставить другой вопрос, настоятельно требующий своего решения: вопрос о формировании политической нации как способе приведения суверена к присутствию.
Несмотря на то, что это отождествление («суверенного» с «национальным») банально для современной эпохи[1], многое ему сопротивляется. Причем не только в обыденном восприятии «суверенистских» лозунгов, ассоциируемых сейчас скорее с могуществом государства, чем с полновластием нации, но и в научном дискурсе о суверенитете. Должен признать, в предыдущих публикациях я недооценил этот факт, и впоследствии встретил наиболее серьезного оппонента там, где не ожидал его найти. Я имею в виду прошлогоднюю статью Вадима Цымбурского «Игры суверенитета: новый возраст России» (Русский журнал. Рабочие тетради. 2008. №2), в которой предпринимается масштабная попытка очистить идею суверенитета от любой идеалистической и нормативистской нагрузки, что означает, прежде всего: отделить вопрос о суверенитете от вопроса о внутренней структуре и качестве легитимности власти, осуществляющей суверенитет.
Эту «реалистическую» тенденцию идеи суверенитета нельзя не иметь в виду. Ее рассмотрению и посвящена нижеследующая статья, основные аргументы которой я имел случай обсудить с Цымбурским за несколько месяцев до его ухода из жизни. Думаю, ранг этого мыслителя позволяет мне обнародовать полемику с ним без скидок на изменившиеся обстоятельства.
| «ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» Статья «Игры суверенитета» относится к одному из самых интересных жанров философского текста — жанру «окончательного решения», суть которого выразил Витгенштейн в предисловии к «Логико-философскому трактату»: «поставленные проблемы в своих существенных чертах решены окончательно». Аналогия с Витгенштейном здесь не случайна. Ведь у Цымбурского тоже речь идет о снятии метафизических наслоений, мешающих ясному взгляду на суть вопроса. Конкретнее — об отделении позитивного и практически ориентированного понятия суверенитета от его метафизического понятия, генерирующего псевдопроблемы. В этой двусмысленной роли выступает исходное боденовское определение суверенитета как «власти государства, абсолютной и постоянной», а также как «власти над гражданами и подданными», «высшей и свободной от законов». Автор признает непреложное значение боденовского открытия (Боден действительно «открыл» суверенитет как тему политической теории) в осмыслении международно-политических реалий новоевропейской истории, но утверждает, что заданный им стандарт «идеального суверенитета» волей-неволей пускает мысль по ложному следу. |
«Юридические изыски на тему суверенитета в Европе Нового времени зачастую выглядят интеллектуальным топтанием вокруг тех или иных слов из боденовских дефинициций. «Высшая власть»? А если правят несколько лиц — у кого она конкретно? «Постоянная»? А если диктатор с исключительными правомочиями назначается, как в Древнем Риме, на время, кто суверен — он или поставившие его? Как это — «власть, свободная от закона»? А естественный закон (хотя не очень-то понятно, что это такое)? А Божий закон (который не яснее естественного)? А обязательства по международным договорам? А как быть в государствах с конституцией или ее аналогом вроде английской Великой хартии вольностей?».
Надо сказать, что на эти и им подобные вопросы, в рамках боденовского стандарта суверенитета, ответы вполне возможны. И на многие из них сам Боден отвечал (например, утверждая, что римский диктатор или британский конституционный монарх не являются суверенами своих государств), хотя и не всегда однозначно. Иными словами, речь совсем не идет об апориях или пустых дилеммах, заводящих теорию суверенитета в тупик.
Но в подтексте Вадим Леонидович, пожалуй, прав. Суверенитет, в его теоретико-правовом звучании, действительно не является инструментальным понятием, созданным для анализа политического процесса и решения возникающих в ходе этого анализа проблем. Он сам является философской проблемой. Если угодно, — в том дурном смысле, который придавали этому выражению неопозитивисты. Т.е. проблемой, которая сконструирована и навязана миру — философским мышлением.[2]
Если автор действительно имел в виду нечто подобное (а впрочем, даже если и не имел), то вопрос для меня состоит не в том, согласиться с этой констатацией или нет, а в том, какие выводы из нее следует сделать.
Надлежит ли изводить следы метафизики, как тараканов, посредством соблюдения лингвистической гигиены, как предлагали неопозитивисты?
Или, другой вариант, — попробовать развести «теорию» и «практику», с тем, чтобы всю казуистику абсолютного суверенитета оставить попечению «теоретика-правоведа», «политику же, для которого методологическая выдержанность не стоит ломаного гроша» — предложить иной, практически применимый инструмент под тем же названием.
Именно по этому пути движется автор «Игр суверенитета», и путь этот связан примерно с теми же издержками, что и позитивистская программа «очищения языка».
Первый, наиболее очевидный сбой программы состоит в том, что «иногда они возвращаются». Прежние философские «тараканы» возникают вновь при более подробном анализе / самоанализе «очищенного языка».
Как именно дилеммы теоретико-правового, «боденовского (или квазибоденовского)» понятия суверенитета вкрадываются в реально-политическую аналитику суверенитета, предпринимаемую Вадимом Цымбурским, мы попробуем проследить ниже.
Второй, совсем не очевидный, но, пожалуй, самый важный изъян позитивистской «реформы» философского языка (в данном конкретном случае и не только), состоит в том, что она игнорирует его уникальную и амбициозную прагматику.
Когда философское мышление онтологизирует лингвистические проблемы (справедливость этого упрека вполне можно признать), то при этом они не просто онтологизируются — они становятся онтологическими, кристаллизуя вокруг себя целые пласты человеческой, социальной реальности. В философии вообще речь не идет об адекватном или неадекватном познании заранее данной реальности, речь об определенной стратегии ее «изобретения». Понятия, ставшие идеями (т.е. вошедшие в саму действительность), начинают жить своей жизнью — и не только «в умах»: они обретают социальную структурность.
Этот факт вполне очевиден из западной истории, если прочесть ее как историю мира — в существенной своей части, созданного философией.
Одна из версий такого прочтения принадлежит Хайдеггеру, который раскрывает взаимосвязь социальной онтологии модерна с западной метафизикой через идею субъекта. Примечательно, что его исходный посыл в критике западной метафизики также является «лингвистическим».[3] Но даже если, по его мнению, «зачинатели» Нового времени, истолковывая человека как «subiectum», где-то не так прочитали «греков», то сам Хайдеггер исходит из того, что это не ошибка, а своего рода исторический выбор, поскольку напластованием на «трудностях перевода» — является собственно вся история современности. И что, соответственно, то, с чем он имеет дело, — включая и идею субъекта, и собственную критику этой идеи — является непосредственно формой движения этой истории.
Для нас это вдвойне важно потому, что идея субъекта является, скажем так, «родовой» для идеи суверенитета и, соответственно, позволяет лучше понять методологический статус последней.
Ни идея субъекта, ни идея суверенитета не являются, по своей сути, некими концепциями, описывающими человеческую или общественно-политическую реальность. Они являются тем, что методолог науки и политический философ Курт Хюбнер предлагал называть «необходимым практическим постулатом». Необходимым — в рамках определенного, специфически современного способа «быть человеком» или «быть государством».
Соответственно, и критика этих идей не может вестись исходя из степени их эмпирической адекватности (чему-то «внешнему», независимо от них данному).[4]
Поэтому, когда Вадим Леонидович пишет в самом начале своей статьи о боденовской идее суверенитета как о попытке «выразить» некую «европейскую цивилизационную и геополитическую ситуацию», то он, разумеется, имеет к тому все основания. Но лишь при условии, что он в полной мере учитывает тот факт, что сама «европейская ситуация» в ее развитии сформирована и продолжает формироваться именно этой — не вполне адекватной, как выясняется из дальнейшего изложения, — идеей суверенитета, с ее эмпирически невменяемыми постулатами «абсолютности», «неделимости», «постоянства».
Учитывает ли исследователь этот факт? В лучшем случае, отчасти — когда говорит о несомненном практическом значении теоретико-правовой идеи суверенитета. Но это значение понимается как сугубо инструментальное: «Политику… суверенитет не может жизненно представать иначе, нежели в качестве постоянно переделяемой политической собственности. Само боденовское (или квазибоденовское) определение в его глазах может обретать ценность как инструмент подобного передела — или обороны против него».
Утверждение о том, что «суверенитет… не может представать иначе...», является здесь, определенно, слишком сильным. По-моему, очень даже может. Ведь политика как такового интересует не только борьба за (политическую) собственность (под которой в данном контексте подразумевались куски территории, оспариваемые различными государствами), но и борьба за власть и, шире, проблема производства и воспроизводства власти в социуме. Идея суверенитета имеет к этой проблеме самое прямое отношение — к чему мы вернемся чуть позже. Здесь же зафиксируем то, что касается практического значения теоретического понятия суверенитета.
Это значение видится Вадиму Леонидовичу сугубо инструментальным, тогда как, на наш взгляд, оно является прежде всего конститутивным (для системы общественных отношений).
Пожалуй, узкоинструментальное, точнее, «игровое» значение (коль скоро речь идет о конвенциональных правилах игры, которые каждый хочет истолковать в собственных интересах) следует приписать не идее суверенитета как таковой, а проекциям этой идеи в международном праве. Таким, как принцип суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела или неприкосновенности территории.
Иными словами, не стоит отождествлять принцип государственного суверенитета (исключительности и верховенства государственной власти) с принципом «уважения» государственного суверенитета, как он фигурирует в международном праве. Этот регламент уважения (к иным суверенам) является наиболее желательным и благонравным способом проявления суверенности государств вовне, но отнюдь не ее логическим условием.
Больше того, редукция (некритическая или сознательная) идеи суверенитета к ее международно-правовому оформлению не просто выхолащивает, но полностью перечеркивает исходный (если угодно, тот самый, «боденовский») смысл этой идеи. Она создает иллюзию того, что суверенные права государств гарантированы международным правом. Тогда как, в логике идеи суверенитета, все наоборот: международное право является функцией государственного суверенитета и не имеет иных источников легитимности. Суверенитет как исключительная прерогатива создавать право сам не может быть гарантирован никаким правом. В этом смысле, с точки зрения сохранения и воспроизводства суверенитета, к его международно-правовым проекциям не только допустимо, но и необходимо относиться инструментально.
Если мы хотим удерживать суверенитет хотя бы в понятии (а без этого мы не удержим его и в реальности), следует затвердить: существуют суверенные права, но «права на суверенитет» не существует. Это логическая бессмыслица, которую, увы, — здесь я вполне соглашусь с автором — тиражируют многие добросовестные и недобросовестные идеалисты.
Геополитика против политики
Но как же решают проблему суверенитета «политические реалисты»? Политический реализм — как своего рода «кратоцентризм», выражающий общие основы международной и внутренней политики в терминах борьбы за власть — мировоззрение достойное и действенное во многих отношениях, но не в том, что касается истолкования природы, характера, качества самой власти.[5]
Авторское определение суверенитета, выстраиваясь в логике «реалполитической» традиции, бережно воспроизводит именно этот ее изъян.
«Пятнадцать лет назад, — пишет Вадим Леонидович, — задумавшись над возможностью формализовать чисто политический смысл суверенитета, я предложил следующий фрейм:
«Х осуществляет власть над А (абсолютно все равно, на чем она основана — на признании подвластных или на чистом принуждении), и Y, осуществляющий власть над В, признает власть над А правом Х».
Также я показал, что союз «и» в этом фрейме надо расценивать как каузальную стрелку, которая может быть направлена от любой части фрейма к другой его части — все равно, от факта к признанию или наоборот. Таким образом, я различил «суверенитет факта» (когда реальное властвование закладывает основу внешнего признания) от «суверенитета признания» (когда власть создается признанием инстанций, на которые не распространяется…)».
«Отсюда должен проистекать вывод о возможности разных рангов суверенитета — в зависимости от объема «неотъемлемых прав», осуществляемых сувереном и признаваемых за ним со стороны… его референтного внешнего сообщества. А уже отталкиваясь от этого положения я развил в начале 1990-х концепцию «геополитических структур согласия» или «структур признания», в рамках которых определяются специфики и масштабы суверенитетов».
Предложенная формализация представляет несомненную научную ценность, особенно в плане международно-политического анализа.[6] Но с одной большой оговоркой: она не содержит решения «проблемы суверенитета» (даже в ее «чисто политическом» аспекте).
Дело в том, что эта проблема в ее существенной части состоит в том, чем отличается (и как отличает себя) суверенная власть от власти несуверенной. Это различение, в логике автора, оказывается невозможным и неактуальным. Так, в предложенной «формуле суверенитета» на место Х может быть поставлен и директор предприятия, и командир взвода, и какой угодно еще носитель совершенно и заведомо несуверенной власти.
Наверное, в нужном месте мы должны вместе с автором, по умолчанию, подразумевать государственную власть. Но идея государственной власти в ее качественном отличии от негосударственных форм власти уже содержит в себе идею суверенитета. Поэтому, если ввести в «формулу» оговорку о государственном качестве власти Х над А (и У над В), то мы получим тавтологию вместо определения.[7] Если же такой оговорки не вводить и опереться на заведомую многозначность и многозначительность слова «власть» (подразумевая, например, в духе де Местра, что всякая настоящая власть «необходимым образом абсолютна» и, в этом смысле, не нуждается в прилагательных), то мы тем самым всего лишь помножим одну неопределенность на другую.
Надо сказать, что на эти и им подобные вопросы, в рамках боденовского стандарта суверенитета, ответы вполне возможны. И на многие из них сам Боден отвечал (например, утверждая, что римский диктатор или британский конституционный монарх не являются суверенами своих государств), хотя и не всегда однозначно. Иными словами, речь совсем не идет об апориях или пустых дилеммах, заводящих теорию суверенитета в тупик.
Но в подтексте Вадим Леонидович, пожалуй, прав. Суверенитет, в его теоретико-правовом звучании, действительно не является инструментальным понятием, созданным для анализа политического процесса и решения возникающих в ходе этого анализа проблем. Он сам является философской проблемой. Если угодно, — в том дурном смысле, который придавали этому выражению неопозитивисты. Т.е. проблемой, которая сконструирована и навязана миру — философским мышлением.[2]
Если автор действительно имел в виду нечто подобное (а впрочем, даже если и не имел), то вопрос для меня состоит не в том, согласиться с этой констатацией или нет, а в том, какие выводы из нее следует сделать.
Надлежит ли изводить следы метафизики, как тараканов, посредством соблюдения лингвистической гигиены, как предлагали неопозитивисты?
Или, другой вариант, — попробовать развести «теорию» и «практику», с тем, чтобы всю казуистику абсолютного суверенитета оставить попечению «теоретика-правоведа», «политику же, для которого методологическая выдержанность не стоит ломаного гроша» — предложить иной, практически применимый инструмент под тем же названием.
Именно по этому пути движется автор «Игр суверенитета», и путь этот связан примерно с теми же издержками, что и позитивистская программа «очищения языка».
Первый, наиболее очевидный сбой программы состоит в том, что «иногда они возвращаются». Прежние философские «тараканы» возникают вновь при более подробном анализе / самоанализе «очищенного языка».
Как именно дилеммы теоретико-правового, «боденовского (или квазибоденовского)» понятия суверенитета вкрадываются в реально-политическую аналитику суверенитета, предпринимаемую Вадимом Цымбурским, мы попробуем проследить ниже.
Второй, совсем не очевидный, но, пожалуй, самый важный изъян позитивистской «реформы» философского языка (в данном конкретном случае и не только), состоит в том, что она игнорирует его уникальную и амбициозную прагматику.
Когда философское мышление онтологизирует лингвистические проблемы (справедливость этого упрека вполне можно признать), то при этом они не просто онтологизируются — они становятся онтологическими, кристаллизуя вокруг себя целые пласты человеческой, социальной реальности. В философии вообще речь не идет об адекватном или неадекватном познании заранее данной реальности, речь об определенной стратегии ее «изобретения». Понятия, ставшие идеями (т.е. вошедшие в саму действительность), начинают жить своей жизнью — и не только «в умах»: они обретают социальную структурность.
Этот факт вполне очевиден из западной истории, если прочесть ее как историю мира — в существенной своей части, созданного философией.
Одна из версий такого прочтения принадлежит Хайдеггеру, который раскрывает взаимосвязь социальной онтологии модерна с западной метафизикой через идею субъекта. Примечательно, что его исходный посыл в критике западной метафизики также является «лингвистическим».[3] Но даже если, по его мнению, «зачинатели» Нового времени, истолковывая человека как «subiectum», где-то не так прочитали «греков», то сам Хайдеггер исходит из того, что это не ошибка, а своего рода исторический выбор, поскольку напластованием на «трудностях перевода» — является собственно вся история современности. И что, соответственно, то, с чем он имеет дело, — включая и идею субъекта, и собственную критику этой идеи — является непосредственно формой движения этой истории.
Для нас это вдвойне важно потому, что идея субъекта является, скажем так, «родовой» для идеи суверенитета и, соответственно, позволяет лучше понять методологический статус последней.
Ни идея субъекта, ни идея суверенитета не являются, по своей сути, некими концепциями, описывающими человеческую или общественно-политическую реальность. Они являются тем, что методолог науки и политический философ Курт Хюбнер предлагал называть «необходимым практическим постулатом». Необходимым — в рамках определенного, специфически современного способа «быть человеком» или «быть государством».
Соответственно, и критика этих идей не может вестись исходя из степени их эмпирической адекватности (чему-то «внешнему», независимо от них данному).[4]
Поэтому, когда Вадим Леонидович пишет в самом начале своей статьи о боденовской идее суверенитета как о попытке «выразить» некую «европейскую цивилизационную и геополитическую ситуацию», то он, разумеется, имеет к тому все основания. Но лишь при условии, что он в полной мере учитывает тот факт, что сама «европейская ситуация» в ее развитии сформирована и продолжает формироваться именно этой — не вполне адекватной, как выясняется из дальнейшего изложения, — идеей суверенитета, с ее эмпирически невменяемыми постулатами «абсолютности», «неделимости», «постоянства».
Учитывает ли исследователь этот факт? В лучшем случае, отчасти — когда говорит о несомненном практическом значении теоретико-правовой идеи суверенитета. Но это значение понимается как сугубо инструментальное: «Политику… суверенитет не может жизненно представать иначе, нежели в качестве постоянно переделяемой политической собственности. Само боденовское (или квазибоденовское) определение в его глазах может обретать ценность как инструмент подобного передела — или обороны против него».
Утверждение о том, что «суверенитет… не может представать иначе...», является здесь, определенно, слишком сильным. По-моему, очень даже может. Ведь политика как такового интересует не только борьба за (политическую) собственность (под которой в данном контексте подразумевались куски территории, оспариваемые различными государствами), но и борьба за власть и, шире, проблема производства и воспроизводства власти в социуме. Идея суверенитета имеет к этой проблеме самое прямое отношение — к чему мы вернемся чуть позже. Здесь же зафиксируем то, что касается практического значения теоретического понятия суверенитета.
Это значение видится Вадиму Леонидовичу сугубо инструментальным, тогда как, на наш взгляд, оно является прежде всего конститутивным (для системы общественных отношений).
Пожалуй, узкоинструментальное, точнее, «игровое» значение (коль скоро речь идет о конвенциональных правилах игры, которые каждый хочет истолковать в собственных интересах) следует приписать не идее суверенитета как таковой, а проекциям этой идеи в международном праве. Таким, как принцип суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела или неприкосновенности территории.
Иными словами, не стоит отождествлять принцип государственного суверенитета (исключительности и верховенства государственной власти) с принципом «уважения» государственного суверенитета, как он фигурирует в международном праве. Этот регламент уважения (к иным суверенам) является наиболее желательным и благонравным способом проявления суверенности государств вовне, но отнюдь не ее логическим условием.
Больше того, редукция (некритическая или сознательная) идеи суверенитета к ее международно-правовому оформлению не просто выхолащивает, но полностью перечеркивает исходный (если угодно, тот самый, «боденовский») смысл этой идеи. Она создает иллюзию того, что суверенные права государств гарантированы международным правом. Тогда как, в логике идеи суверенитета, все наоборот: международное право является функцией государственного суверенитета и не имеет иных источников легитимности. Суверенитет как исключительная прерогатива создавать право сам не может быть гарантирован никаким правом. В этом смысле, с точки зрения сохранения и воспроизводства суверенитета, к его международно-правовым проекциям не только допустимо, но и необходимо относиться инструментально.
Если мы хотим удерживать суверенитет хотя бы в понятии (а без этого мы не удержим его и в реальности), следует затвердить: существуют суверенные права, но «права на суверенитет» не существует. Это логическая бессмыслица, которую, увы, — здесь я вполне соглашусь с автором — тиражируют многие добросовестные и недобросовестные идеалисты.
Геополитика против политики
Но как же решают проблему суверенитета «политические реалисты»? Политический реализм — как своего рода «кратоцентризм», выражающий общие основы международной и внутренней политики в терминах борьбы за власть — мировоззрение достойное и действенное во многих отношениях, но не в том, что касается истолкования природы, характера, качества самой власти.[5]
Авторское определение суверенитета, выстраиваясь в логике «реалполитической» традиции, бережно воспроизводит именно этот ее изъян.
«Пятнадцать лет назад, — пишет Вадим Леонидович, — задумавшись над возможностью формализовать чисто политический смысл суверенитета, я предложил следующий фрейм:
«Х осуществляет власть над А (абсолютно все равно, на чем она основана — на признании подвластных или на чистом принуждении), и Y, осуществляющий власть над В, признает власть над А правом Х».
Также я показал, что союз «и» в этом фрейме надо расценивать как каузальную стрелку, которая может быть направлена от любой части фрейма к другой его части — все равно, от факта к признанию или наоборот. Таким образом, я различил «суверенитет факта» (когда реальное властвование закладывает основу внешнего признания) от «суверенитета признания» (когда власть создается признанием инстанций, на которые не распространяется…)».
«Отсюда должен проистекать вывод о возможности разных рангов суверенитета — в зависимости от объема «неотъемлемых прав», осуществляемых сувереном и признаваемых за ним со стороны… его референтного внешнего сообщества. А уже отталкиваясь от этого положения я развил в начале 1990-х концепцию «геополитических структур согласия» или «структур признания», в рамках которых определяются специфики и масштабы суверенитетов».
Предложенная формализация представляет несомненную научную ценность, особенно в плане международно-политического анализа.[6] Но с одной большой оговоркой: она не содержит решения «проблемы суверенитета» (даже в ее «чисто политическом» аспекте).
Дело в том, что эта проблема в ее существенной части состоит в том, чем отличается (и как отличает себя) суверенная власть от власти несуверенной. Это различение, в логике автора, оказывается невозможным и неактуальным. Так, в предложенной «формуле суверенитета» на место Х может быть поставлен и директор предприятия, и командир взвода, и какой угодно еще носитель совершенно и заведомо несуверенной власти.
Наверное, в нужном месте мы должны вместе с автором, по умолчанию, подразумевать государственную власть. Но идея государственной власти в ее качественном отличии от негосударственных форм власти уже содержит в себе идею суверенитета. Поэтому, если ввести в «формулу» оговорку о государственном качестве власти Х над А (и У над В), то мы получим тавтологию вместо определения.[7] Если же такой оговорки не вводить и опереться на заведомую многозначность и многозначительность слова «власть» (подразумевая, например, в духе де Местра, что всякая настоящая власть «необходимым образом абсолютна» и, в этом смысле, не нуждается в прилагательных), то мы тем самым всего лишь помножим одну неопределенность на другую.
Не получается ли в самом деле так, что автор, стремясь избежать гипостазирования суверенитета, вынужденно прибегает — к реификации власти? Власть в его тезисах о суверенитете не проблематизируется и оказывается чем-то застывшим, квазиестественным, овеществленным. До такой степени, что она вдруг переоформляется — в «собственность». Именно такова основная метафора суверенной власти, фигурирующая в статье.
И с этим связан определенный парадокс. Автор называет «суверенную собственность» политической и последовательно подает свое понимание суверенитета как политическое по преимуществу (в противовес или в дополнение к юридическому пониманию). Но политическое мышление как таковое как раз несовместимо с «натурализацией» и «овеществлением» власти. Оно не может абстрагироваться от непредрешенности процесса ее воспроизводства, градации ее качеств, наконец, от ее легитимности. Т.е., собственно, от того, «на чем она основана — на признании подвластных или на чистом принуждении». Автор же предлагает абстрагироваться именно от этого — от качества власти и ее внутренней диалектики, с тем, чтобы сделать более наглядной внешнеполитическую диалектику факта и признания.
По сути, речь идет о принесении политики в жертву геополитике — или даже политической географии. Субстанцией суверенитета оказывается пространство, а не общество.
Разумеется, это не ошибка автора, это его фокус внимания.
Мы уже говорили о том, что основной вопрос теории суверенитета — вопрос об отграничении суверенной власти от «просто власти» — в повестке данной статьи фактически не стоит. И, как ни странно, это особенно отчетливо проявляется в тот момент, когда он, вроде бы, напрямую затрагивается:
«Если задумываться над тем, что нового несет понятие суверенитета в сравнении с базисным понятием власти, то можно прийти вот к какому выводу. Реальное смысловое приращение состоит в том, что «суверенитет» представляет власть на фоне мира, ею не охваченного».
Итак, специфика суверенной власти усматривается, опять же, в ее геополитической «размерности». Здесь и в иных приведенных фрагментах статьи имеется в виду лишь внешний суверенитет, суверенитет государства по отношению к себе подобным. Как если бы внутреннего суверенитета — суверенитета государства по отношению к «не-государствам», неполитическим формам сообществ и ассоциаций, не существовало вовсе.
Между тем, он существует, и именно о нем ведет речь Боден. Квинтэссенцией этой внутренней суверенности государства он считает способность создавать право. «Собственно говоря, — утверждает он о законодательной функции власти, — можно сказать, что только это и есть единственный признак суверенитета». В том смысле, вероятно, что из него выводимы все остальные признаки. И это действительно так.
В частности, мы наблюдаем трансформацию все того же, боденовского понятия суверенитета у Шмитта, когда он показывает читателю, что способность создавать закон имеет своей оборотной стороной способность приостанавливать его действие. Невозможно обеспечивать функцию производства права, не находясь одновременно по ту и по эту сторону правовой реальности. В этом смысле, противопоставление суверенитета политического и юридического бессмысленно, поскольку суверенитет может быть юридически полноценным только в том случае, если является реально-политическим в своей основе — т.е. способным учредить и/или гарантировать тот порядок внутри которого только и возможен «правопорядок».
Мы видим, что аутентичное понятие суверенитета интересно именно тем, что оно преодолевает дилеммы «идеализма» и «реализма», оказываясь по ту сторону того и другого. Не случайно сам Шмитт настаивает на юридическом, а не только политико-социологическом значении своей концепции суверенитета.
Суверенитет есть способность власти производить право, предполагающая возможность ее действия по ту сторону права. И то, и другое может быть одновременно воплощено только в государстве.
Разумеется, таково лишь одно из возможных прочтений верховенства государственной власти по отношению к иным формам власти. Но без тематизации этого верховенства полноценное рассмотрение проблемы суверенитета невозможно.
В принципе, такое рассмотрение должно учитывать сразу три разных ракурса:
— В чем состоит суверенитет государства по отношению к негосударственным формам общественной жизни?
— Как организован суверенитет государства по отношению к другим государствам?
— Как и кем именно осуществляется суверенитет в конструкции государства?
Эти три вопроса отсылают нас к трем ипостасям суверенитета. Это, во-первых, «суверенитет-верховенство» (государства по отношению к «не-государствам»). Во-вторых — «суверенитет-самостоятельность» (государства по отношению к другим государствам). И в третьих, это суверенитет… как «суверенность» (распорядительных инстанций внутри государства).
Последнее различение выглядит непривычно, но оно не лишено смысла. Прочитывать «суверенность» как определенную спецификацию «суверенитета» предлагает Вадим Цымбурский в рассматриваемой статье. На мой взгляд, он дает весьма элегантное терминологическое решение будоражащей умы проблемы: «кто суверенен — властитель или народ, именем которого он властвует?». «С суверенитета доверителя, — пишет он, — (т.е. «народа» — как бы тот ни понимался — М.Р.) на пользователя (т.е. собственно правителя — М.Р.) переходит — суверенность». Действительно, удобно считать, что суверенитетом обладает лишь народ, но распорядителю его всевластия присущ атрибут суверенности. Впрочем, решает ли это дилемму по существу, не берусь здесь судить.
Вообще, ответить на все три вопроса о суверенитете одновременно, причем таким образом, чтобы во всех трех ракурсах удерживался один и тот же предмет, чрезвычайно сложно.
Лично мне кажется, что базовым, принципиальным из этих трех вопросов является первый, а два другие могут быть решены как производные или даже «технические». Но вполне возможно, что это дело вкуса и вносить субординацию в названные «ипостаси» суверенитета вообще излишне. В любом случае, каждый исследователь волен говорить о том, что именно ему кажется критически важным в данный момент времени.
Например, Карл Шмитт в «Понятии политического» говорит о суверенитете преимущественно и даже исключительно в контексте первого вопроса (в чем верховенство государственно-политического разделения по отношению к «иным формам ассоциаций и диссоциаций»?), в «Политической теологии» — в рамках третьего (кто суверенен внутри государственной системы? — «тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении»), а в «Номосе земли» его интересует второй вопрос (вопрос об основаниях международного права, который, кстати, он решает совсем не в духе концепции «абсолютного суверенитета»). Подчас даже возникает ощущение, что в лице Шмитта мы наблюдаем трех разных теоретиков суверенитета, взгляды которых, наверное, внутренне гармонизированы, но не сведены к общему знаменателю явным образом.
И с этим связан определенный парадокс. Автор называет «суверенную собственность» политической и последовательно подает свое понимание суверенитета как политическое по преимуществу (в противовес или в дополнение к юридическому пониманию). Но политическое мышление как таковое как раз несовместимо с «натурализацией» и «овеществлением» власти. Оно не может абстрагироваться от непредрешенности процесса ее воспроизводства, градации ее качеств, наконец, от ее легитимности. Т.е., собственно, от того, «на чем она основана — на признании подвластных или на чистом принуждении». Автор же предлагает абстрагироваться именно от этого — от качества власти и ее внутренней диалектики, с тем, чтобы сделать более наглядной внешнеполитическую диалектику факта и признания.
По сути, речь идет о принесении политики в жертву геополитике — или даже политической географии. Субстанцией суверенитета оказывается пространство, а не общество.
Разумеется, это не ошибка автора, это его фокус внимания.
Мы уже говорили о том, что основной вопрос теории суверенитета — вопрос об отграничении суверенной власти от «просто власти» — в повестке данной статьи фактически не стоит. И, как ни странно, это особенно отчетливо проявляется в тот момент, когда он, вроде бы, напрямую затрагивается:
«Если задумываться над тем, что нового несет понятие суверенитета в сравнении с базисным понятием власти, то можно прийти вот к какому выводу. Реальное смысловое приращение состоит в том, что «суверенитет» представляет власть на фоне мира, ею не охваченного».
Итак, специфика суверенной власти усматривается, опять же, в ее геополитической «размерности». Здесь и в иных приведенных фрагментах статьи имеется в виду лишь внешний суверенитет, суверенитет государства по отношению к себе подобным. Как если бы внутреннего суверенитета — суверенитета государства по отношению к «не-государствам», неполитическим формам сообществ и ассоциаций, не существовало вовсе.
Между тем, он существует, и именно о нем ведет речь Боден. Квинтэссенцией этой внутренней суверенности государства он считает способность создавать право. «Собственно говоря, — утверждает он о законодательной функции власти, — можно сказать, что только это и есть единственный признак суверенитета». В том смысле, вероятно, что из него выводимы все остальные признаки. И это действительно так.
В частности, мы наблюдаем трансформацию все того же, боденовского понятия суверенитета у Шмитта, когда он показывает читателю, что способность создавать закон имеет своей оборотной стороной способность приостанавливать его действие. Невозможно обеспечивать функцию производства права, не находясь одновременно по ту и по эту сторону правовой реальности. В этом смысле, противопоставление суверенитета политического и юридического бессмысленно, поскольку суверенитет может быть юридически полноценным только в том случае, если является реально-политическим в своей основе — т.е. способным учредить и/или гарантировать тот порядок внутри которого только и возможен «правопорядок».
Мы видим, что аутентичное понятие суверенитета интересно именно тем, что оно преодолевает дилеммы «идеализма» и «реализма», оказываясь по ту сторону того и другого. Не случайно сам Шмитт настаивает на юридическом, а не только политико-социологическом значении своей концепции суверенитета.
Суверенитет есть способность власти производить право, предполагающая возможность ее действия по ту сторону права. И то, и другое может быть одновременно воплощено только в государстве.
Разумеется, таково лишь одно из возможных прочтений верховенства государственной власти по отношению к иным формам власти. Но без тематизации этого верховенства полноценное рассмотрение проблемы суверенитета невозможно.
В принципе, такое рассмотрение должно учитывать сразу три разных ракурса:
— В чем состоит суверенитет государства по отношению к негосударственным формам общественной жизни?
— Как организован суверенитет государства по отношению к другим государствам?
— Как и кем именно осуществляется суверенитет в конструкции государства?
Эти три вопроса отсылают нас к трем ипостасям суверенитета. Это, во-первых, «суверенитет-верховенство» (государства по отношению к «не-государствам»). Во-вторых — «суверенитет-самостоятельность» (государства по отношению к другим государствам). И в третьих, это суверенитет… как «суверенность» (распорядительных инстанций внутри государства).
Последнее различение выглядит непривычно, но оно не лишено смысла. Прочитывать «суверенность» как определенную спецификацию «суверенитета» предлагает Вадим Цымбурский в рассматриваемой статье. На мой взгляд, он дает весьма элегантное терминологическое решение будоражащей умы проблемы: «кто суверенен — властитель или народ, именем которого он властвует?». «С суверенитета доверителя, — пишет он, — (т.е. «народа» — как бы тот ни понимался — М.Р.) на пользователя (т.е. собственно правителя — М.Р.) переходит — суверенность». Действительно, удобно считать, что суверенитетом обладает лишь народ, но распорядителю его всевластия присущ атрибут суверенности. Впрочем, решает ли это дилемму по существу, не берусь здесь судить.
Вообще, ответить на все три вопроса о суверенитете одновременно, причем таким образом, чтобы во всех трех ракурсах удерживался один и тот же предмет, чрезвычайно сложно.
Лично мне кажется, что базовым, принципиальным из этих трех вопросов является первый, а два другие могут быть решены как производные или даже «технические». Но вполне возможно, что это дело вкуса и вносить субординацию в названные «ипостаси» суверенитета вообще излишне. В любом случае, каждый исследователь волен говорить о том, что именно ему кажется критически важным в данный момент времени.
Например, Карл Шмитт в «Понятии политического» говорит о суверенитете преимущественно и даже исключительно в контексте первого вопроса (в чем верховенство государственно-политического разделения по отношению к «иным формам ассоциаций и диссоциаций»?), в «Политической теологии» — в рамках третьего (кто суверенен внутри государственной системы? — «тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении»), а в «Номосе земли» его интересует второй вопрос (вопрос об основаниях международного права, который, кстати, он решает совсем не в духе концепции «абсолютного суверенитета»). Подчас даже возникает ощущение, что в лице Шмитта мы наблюдаем трех разных теоретиков суверенитета, взгляды которых, наверное, внутренне гармонизированы, но не сведены к общему знаменателю явным образом.
“
Суверенитет есть способность власти производить право, предполагающая возможность ее действия по ту сторону права.
«Верховенство» или «собственность»?
Здесь, на столь обычном в сложных случаях признании «многообразия аспектов» можно было бы и закончить. Но это явно не соответствовало бы духу обсуждаемой статьи, которая — мы уже говорили об этом — предпринимает коренное решение рассматриваемой проблемы. Или лучше сказать — преодоление проблемы в ее прежнем виде.
Эта ревизия не может не затрагивать и внутреннее измерение суверенитета:
«Во «внутреннем» аспекте, суверенитет — это просто идея власти как чьей-то политической собственности», — гласит один из ключевых тезисов статьи. «Суверенитет как собственность» здесь вводится уже не в качестве методологической абстракции, удобной для анализа международной жизни, а в качестве концептуальной альтернативы «суверенитету как верховенству».
Базовая модель суверенитета получает при этом нарочито феодальный характер. Из приведенных слов не до конца понятно — что является предметом власти-как-собственности — земля или люди? Вероятно, и то, и другое. В другом месте автор говорит о суверенитете как «политической собственности на некое пространство и привязанных к нему людей». Идеальным сувереном в этой модели оказывается, таким образом, вотчинник, для которого власть над людьми является формой осуществления патримониальной собственности на землю. Но вотчинник, при том, что он, несомненно, обладает властью как собственностью, не обладает верховенством — он может быть вассалом. Является ли это препятствием его «суверенности», опять же, не вполне ясно.
Чтобы не застревать в подобных вопросах, удобнее избрать в качестве канона консолидированную феодальную власть абсолютной монархии, что и делает автор.
В вопросе о носителе суверенитета, — пишет он, — «идеальный отправной пункт представляет, конечно, монархия. И вовсе не та, где император или король мыслится олицетворением суверена-народа (как у Канта и Гегеля). Но та, где он держит власть как собственность, безразлично, полученную ли от Бога, или в вечный подарок, раз навсегда, от народа (по Гроцию), или в силу договора людей, уставших от «природного» взаимоистребления и отрекшихся от проявления политической воли в обмен на защиту, простертую над ними сувереном (Томас Гоббс)».
Наиболее существенным моментом здесь является утверждение того, что идея суверенитета сама по себе чужда идее представительства.
Зыбкость этого утверждения чувствуется уже на уровне теоретических референций. У Гоббса монарх, конечно, не является олицетворением «суверена-народа». Сувереном является он сам. Но исключительно постольку, поскольку он служит олицетворением общественного целого. В отдельных случаях, Гоббс прямо говорит о представительном характере «моделируемой» им власти. Но главное, он видит в ней форму организации общества, а не форму владения (землей или людьми). Поэтому его суверен — не феодал, а представительное лицо. Он не «суверен-собственник», а канонический носитель «боденовского» суверенитета-верховенства.[8]
Здесь можно усомниться, а так ли важны эти различия — между «суверенитетом-собственностью» и «суверенитетом-верховенством» — если они могут описывать одну и ту же (в данном примере, абсолютистскую) модель власти? Да, могут, но с принципиально разными предпосылками и последствиями.
Истолкование (в том числе, самоистолкование) власти в категориях верховенства содержит в себе одну важную логико-метафизическую процедуру. Процедуру отнесения к целостности. Только в контексте некоторой презюмируемой, гипотетической социальной целостности мы можем говорить о власти высшей, логически неподотчетной внешним инстанциям. Только под залог способности воплощать в себе эту целостность («Это больше чем согласие или единодушие. Это реальное единство, воплощенное в одном лице», — говорит о суверенной власти Гоббс) власть может утверждать свое верховенство.
Как именно власть олицетворяет «реальное единство» — посредством представительных процедур или символической репрезентации (ведь «представительствовать» может и наследственный монарх, держащий, по призыву Бодена, свой скипетр «только от Бога») — важный, но уже второй вопрос. На базовом же уровне мы можем зафиксировать, что верховенство предполагает публичное представительство, предполагает существование общества как персонифицированной, благодаря суверенитету, реальности. Т.е. идея суверенитета в данном прочтении предполагает идею субъектности общества.
Здесь мы снова обращаемся к тому, о чем уже говорили в начале. Восприятие общества как субъекта — т.е. в аспекте его способности к «самоучреждению» и «самозаконодательству», которая в концентрированном виде выражена именно в функции суверенитета — это не истина и не ложь, а «необходимый практический постулат». Это определенная «встроенная» в реальность политическая оптика, благодаря которой суверенная власть видится не как инстанция господства над обществом, а как инстанция, в лице которой общество само господствует над собою.
Такое общество, по своему понятию, является нацией. Особенно если учесть, что то социальное целое, которое явно или неявно подразумевается идеей верховной власти, не есть механическая совокупность всех живущих на планете человеческих существ, но некое качественное единство. Это единство на заре европейской истории воспринимается в категориях христианского универсализма, а затем, по мере того, как короли «похищают» верховенство у императоров и пап, — в категориях «методологического национализма» (т.е. априорного членения человечества на автономно самоопределяющиеся «общества»).
Таким образом, в идее верховной власти, даже если изначально она провозглашается от имени монарха (и особенно, если она провозглашается вопреки верховенству папы или императора), уже заложена идея суверенитета нации. Таков логический предел боденовской идеи суверенитета, к которому она не может не эволюционировать — теоретически и исторически.
Теперь проследим, каковы импликации альтернативной идеи — идеи суверенитета как собственности.
Прежде всего, собственник отнесен к своему владению как субъект к предметному миру. Грань между ними непреодолима, они принадлежат различным «рангам бытия». Соответственно, тематизация суверенитета как собственности предполагает такую политическую оптику, в которой «подвластное» общество не «субъективируется», а, напротив, «объективируется», превращается в «вещь». Этот слой метафоры лежит на поверхности.
При ближайшем рассмотрении, можно отметить, что «собственническая» власть не только гетерономна (по отношению к обществу), но и априори зависима (от внешних инстанций признания).
В понятии собственности заключено, что право, которым она обеспечена, носит внешний по отношению к ней характер. Это очевидным образом противоречит самоучредительной претензии классической идеи суверенитета (право, удостоверяющее всякий акт суверенитета, коренится в нем самом).
Разумеется, подобное противоречие не является аргументом против позиции автора, поскольку классическая идея суверенитета с ее метафизикой «самоучреждения» — это как раз то, что им отвергается. Но оно весьма важно в плане своих практических следствий.
Важнейшее правовое различение, которое делает возможным классическая идея суверенитета, есть различение между собственностью и юрисдикцией. Между непосредственным владением и тем (суверенным) пространством, внутри которого оно признано и конституировано как право. Если же сам суверенитет вдруг оказывается низведен на уровень особого рода собственности, то его прежнее место, место суверенитета-юрисдикции, занимают — некие инстанции международного порядка.
Разумеется, внешнее признание важно для государства, вне зависимости от того, как мы истолкуем его суверенитет. Но в рамках данного толкования международные структуры становятся инстанцией высшей юрисдикции, и их признание приобретает, для суверенитета государств, правообразующую силу.[9]
Автор много говорит о диалектике факта и признания, подчеркивая, что реальный суверенитет может создаваться и посредством конвертации «факта» в «признание», и «признания» — в «факт». Между тем, власти, основанной только на «факте», вообще не существует. На «факте» основывается только силовое преобладание (и как таковое оно всегда ситуативно). Власть же есть признанное полномочие (основанное на силовом потенциале, но не сводимое к нему). Тем более — государственная власть. Поэтому разграничение здесь уместнее проводить не между «фактом» и «признанием», а между внутренним признанием — и внешним. Правообразующее значение для отношений власти может быть приписано либо первому, либо второму.
Причем не в зависимости от «обстоятельств», а в зависимости от того, как участники и наблюдатели этих «обстоятельств» будут мыслить природу властных отношений.
Если государственная власть есть форма верховенства, то ее суверенитет «всего лишь» признается внешним миром (как «имманентно присущий» данному сообществу), если же она определена как некий род собственности, то ее суверенитет учреждается признанием (и в каждый момент остается — нисходящим извне).
Мне могут возразить, что разница между этими случаями не так уж велика. Что, больше того, само классическое понятие суверенитета (как верховенства) несвободно от определяющей роли внешнего признания.
В самом деле, если власть истолкована как верховенство, то ее претензия представлять общество как целое упирается в то, признано ли само это общество — легитимным пространством представительства, привилегированным носителем «общей воли». Т.е. признано ли оно нацией, народом. И разрешение этого вопроса вновь «размыкает» суверенитет, делает его заложником определяющего суждения «внешних сил».[10]
На это я могу ответить, пожалуй, лишь одно: право быть народом и считаться таковым — завоевывается. В основном, с помощью войн и революций, непосредственно манифестирующих пространство общей воли, а также с помощью специальных дискурсов, которые воссоздают пространство общей воли опосредованно, но суггестивно, в том числе, на материале войн и революций прошлого.
Несомненно, признание со стороны другого служит мерой успеха подобных практик, но в случае, если успех действительно достигнут, «учредительным актом» суверенитета служит не внешнее признание как таковое, а само завоевание, посредством которого оно добыто и обеспечено. В этом заключен парадокс: нация не может не вести борьбу за признание и, вместе с тем, не может мыслить себя иначе, чем самоучрежденной. В пределе, нация добивается внешнего признания лишь затем, чтобы объявить его несущественным.
Если это кажется вам неправдоподобным, сошлюсь на слова Наполеона, произнесенные перед заключением Кампоформийского мира: «Французская Республика так же не нуждается в признании, как не нуждается в нем солнце». В этих словах — по мнению Гегеля, который приводит их в «Философии права» — «заключается не что иное, как именно сила существования, в которой уже заключено признание без того, чтобы оно было высказано».
Но разве тем самым в круг проблем суверенитета не возвращается диалектика факта и признания, которую несколькими абзацами выше я пытался оспорить? Соглашусь, возвращается. Но в несколько ином обличье. Та неустранимая зависимость от «внешнего», которая «спрятана» в идее суверенитета, предстает здесь не как зависимость от других, а как зависимость от самой действительности, как историчность. Народ в своем притязании быть таковым подлежит не суду международных арбитров, каковы бы они ни были, а суду истории.[11]
Важно учитывать, что право быть народом отстаивается и оспаривается на этом суде не только для каждого народа в отдельности, но и в общем виде, как идеологический принцип (что, несомненно, делает национальные суверенитеты взаимно сопряженными).
Казалось бы, исход этого суда на заре современности уже был решен. Тогда не только в революционных, но и в монархических системах национальная, публично-представительная модель власти взяла верх над вотчинной. Само понятие суверенитета стало в этой борьбе орудием демонтажа феодальной философии власти. Но сегодня, судя по всему, прежний спор снова оказывается открытым. И вводя в оборот криптофеодальную идею суверенитета как собственности, Вадим Леонидович волей-неволей делает определенный ход в одной из тех игр суверенитета, о которых он ведет речь.[12]
Здесь, на столь обычном в сложных случаях признании «многообразия аспектов» можно было бы и закончить. Но это явно не соответствовало бы духу обсуждаемой статьи, которая — мы уже говорили об этом — предпринимает коренное решение рассматриваемой проблемы. Или лучше сказать — преодоление проблемы в ее прежнем виде.
Эта ревизия не может не затрагивать и внутреннее измерение суверенитета:
«Во «внутреннем» аспекте, суверенитет — это просто идея власти как чьей-то политической собственности», — гласит один из ключевых тезисов статьи. «Суверенитет как собственность» здесь вводится уже не в качестве методологической абстракции, удобной для анализа международной жизни, а в качестве концептуальной альтернативы «суверенитету как верховенству».
Базовая модель суверенитета получает при этом нарочито феодальный характер. Из приведенных слов не до конца понятно — что является предметом власти-как-собственности — земля или люди? Вероятно, и то, и другое. В другом месте автор говорит о суверенитете как «политической собственности на некое пространство и привязанных к нему людей». Идеальным сувереном в этой модели оказывается, таким образом, вотчинник, для которого власть над людьми является формой осуществления патримониальной собственности на землю. Но вотчинник, при том, что он, несомненно, обладает властью как собственностью, не обладает верховенством — он может быть вассалом. Является ли это препятствием его «суверенности», опять же, не вполне ясно.
Чтобы не застревать в подобных вопросах, удобнее избрать в качестве канона консолидированную феодальную власть абсолютной монархии, что и делает автор.
В вопросе о носителе суверенитета, — пишет он, — «идеальный отправной пункт представляет, конечно, монархия. И вовсе не та, где император или король мыслится олицетворением суверена-народа (как у Канта и Гегеля). Но та, где он держит власть как собственность, безразлично, полученную ли от Бога, или в вечный подарок, раз навсегда, от народа (по Гроцию), или в силу договора людей, уставших от «природного» взаимоистребления и отрекшихся от проявления политической воли в обмен на защиту, простертую над ними сувереном (Томас Гоббс)».
Наиболее существенным моментом здесь является утверждение того, что идея суверенитета сама по себе чужда идее представительства.
Зыбкость этого утверждения чувствуется уже на уровне теоретических референций. У Гоббса монарх, конечно, не является олицетворением «суверена-народа». Сувереном является он сам. Но исключительно постольку, поскольку он служит олицетворением общественного целого. В отдельных случаях, Гоббс прямо говорит о представительном характере «моделируемой» им власти. Но главное, он видит в ней форму организации общества, а не форму владения (землей или людьми). Поэтому его суверен — не феодал, а представительное лицо. Он не «суверен-собственник», а канонический носитель «боденовского» суверенитета-верховенства.[8]
Здесь можно усомниться, а так ли важны эти различия — между «суверенитетом-собственностью» и «суверенитетом-верховенством» — если они могут описывать одну и ту же (в данном примере, абсолютистскую) модель власти? Да, могут, но с принципиально разными предпосылками и последствиями.
Истолкование (в том числе, самоистолкование) власти в категориях верховенства содержит в себе одну важную логико-метафизическую процедуру. Процедуру отнесения к целостности. Только в контексте некоторой презюмируемой, гипотетической социальной целостности мы можем говорить о власти высшей, логически неподотчетной внешним инстанциям. Только под залог способности воплощать в себе эту целостность («Это больше чем согласие или единодушие. Это реальное единство, воплощенное в одном лице», — говорит о суверенной власти Гоббс) власть может утверждать свое верховенство.
Как именно власть олицетворяет «реальное единство» — посредством представительных процедур или символической репрезентации (ведь «представительствовать» может и наследственный монарх, держащий, по призыву Бодена, свой скипетр «только от Бога») — важный, но уже второй вопрос. На базовом же уровне мы можем зафиксировать, что верховенство предполагает публичное представительство, предполагает существование общества как персонифицированной, благодаря суверенитету, реальности. Т.е. идея суверенитета в данном прочтении предполагает идею субъектности общества.
Здесь мы снова обращаемся к тому, о чем уже говорили в начале. Восприятие общества как субъекта — т.е. в аспекте его способности к «самоучреждению» и «самозаконодательству», которая в концентрированном виде выражена именно в функции суверенитета — это не истина и не ложь, а «необходимый практический постулат». Это определенная «встроенная» в реальность политическая оптика, благодаря которой суверенная власть видится не как инстанция господства над обществом, а как инстанция, в лице которой общество само господствует над собою.
Такое общество, по своему понятию, является нацией. Особенно если учесть, что то социальное целое, которое явно или неявно подразумевается идеей верховной власти, не есть механическая совокупность всех живущих на планете человеческих существ, но некое качественное единство. Это единство на заре европейской истории воспринимается в категориях христианского универсализма, а затем, по мере того, как короли «похищают» верховенство у императоров и пап, — в категориях «методологического национализма» (т.е. априорного членения человечества на автономно самоопределяющиеся «общества»).
Таким образом, в идее верховной власти, даже если изначально она провозглашается от имени монарха (и особенно, если она провозглашается вопреки верховенству папы или императора), уже заложена идея суверенитета нации. Таков логический предел боденовской идеи суверенитета, к которому она не может не эволюционировать — теоретически и исторически.
Теперь проследим, каковы импликации альтернативной идеи — идеи суверенитета как собственности.
Прежде всего, собственник отнесен к своему владению как субъект к предметному миру. Грань между ними непреодолима, они принадлежат различным «рангам бытия». Соответственно, тематизация суверенитета как собственности предполагает такую политическую оптику, в которой «подвластное» общество не «субъективируется», а, напротив, «объективируется», превращается в «вещь». Этот слой метафоры лежит на поверхности.
При ближайшем рассмотрении, можно отметить, что «собственническая» власть не только гетерономна (по отношению к обществу), но и априори зависима (от внешних инстанций признания).
В понятии собственности заключено, что право, которым она обеспечена, носит внешний по отношению к ней характер. Это очевидным образом противоречит самоучредительной претензии классической идеи суверенитета (право, удостоверяющее всякий акт суверенитета, коренится в нем самом).
Разумеется, подобное противоречие не является аргументом против позиции автора, поскольку классическая идея суверенитета с ее метафизикой «самоучреждения» — это как раз то, что им отвергается. Но оно весьма важно в плане своих практических следствий.
Важнейшее правовое различение, которое делает возможным классическая идея суверенитета, есть различение между собственностью и юрисдикцией. Между непосредственным владением и тем (суверенным) пространством, внутри которого оно признано и конституировано как право. Если же сам суверенитет вдруг оказывается низведен на уровень особого рода собственности, то его прежнее место, место суверенитета-юрисдикции, занимают — некие инстанции международного порядка.
Разумеется, внешнее признание важно для государства, вне зависимости от того, как мы истолкуем его суверенитет. Но в рамках данного толкования международные структуры становятся инстанцией высшей юрисдикции, и их признание приобретает, для суверенитета государств, правообразующую силу.[9]
Автор много говорит о диалектике факта и признания, подчеркивая, что реальный суверенитет может создаваться и посредством конвертации «факта» в «признание», и «признания» — в «факт». Между тем, власти, основанной только на «факте», вообще не существует. На «факте» основывается только силовое преобладание (и как таковое оно всегда ситуативно). Власть же есть признанное полномочие (основанное на силовом потенциале, но не сводимое к нему). Тем более — государственная власть. Поэтому разграничение здесь уместнее проводить не между «фактом» и «признанием», а между внутренним признанием — и внешним. Правообразующее значение для отношений власти может быть приписано либо первому, либо второму.
Причем не в зависимости от «обстоятельств», а в зависимости от того, как участники и наблюдатели этих «обстоятельств» будут мыслить природу властных отношений.
Если государственная власть есть форма верховенства, то ее суверенитет «всего лишь» признается внешним миром (как «имманентно присущий» данному сообществу), если же она определена как некий род собственности, то ее суверенитет учреждается признанием (и в каждый момент остается — нисходящим извне).
Мне могут возразить, что разница между этими случаями не так уж велика. Что, больше того, само классическое понятие суверенитета (как верховенства) несвободно от определяющей роли внешнего признания.
В самом деле, если власть истолкована как верховенство, то ее претензия представлять общество как целое упирается в то, признано ли само это общество — легитимным пространством представительства, привилегированным носителем «общей воли». Т.е. признано ли оно нацией, народом. И разрешение этого вопроса вновь «размыкает» суверенитет, делает его заложником определяющего суждения «внешних сил».[10]
На это я могу ответить, пожалуй, лишь одно: право быть народом и считаться таковым — завоевывается. В основном, с помощью войн и революций, непосредственно манифестирующих пространство общей воли, а также с помощью специальных дискурсов, которые воссоздают пространство общей воли опосредованно, но суггестивно, в том числе, на материале войн и революций прошлого.
Несомненно, признание со стороны другого служит мерой успеха подобных практик, но в случае, если успех действительно достигнут, «учредительным актом» суверенитета служит не внешнее признание как таковое, а само завоевание, посредством которого оно добыто и обеспечено. В этом заключен парадокс: нация не может не вести борьбу за признание и, вместе с тем, не может мыслить себя иначе, чем самоучрежденной. В пределе, нация добивается внешнего признания лишь затем, чтобы объявить его несущественным.
Если это кажется вам неправдоподобным, сошлюсь на слова Наполеона, произнесенные перед заключением Кампоформийского мира: «Французская Республика так же не нуждается в признании, как не нуждается в нем солнце». В этих словах — по мнению Гегеля, который приводит их в «Философии права» — «заключается не что иное, как именно сила существования, в которой уже заключено признание без того, чтобы оно было высказано».
Но разве тем самым в круг проблем суверенитета не возвращается диалектика факта и признания, которую несколькими абзацами выше я пытался оспорить? Соглашусь, возвращается. Но в несколько ином обличье. Та неустранимая зависимость от «внешнего», которая «спрятана» в идее суверенитета, предстает здесь не как зависимость от других, а как зависимость от самой действительности, как историчность. Народ в своем притязании быть таковым подлежит не суду международных арбитров, каковы бы они ни были, а суду истории.[11]
Важно учитывать, что право быть народом отстаивается и оспаривается на этом суде не только для каждого народа в отдельности, но и в общем виде, как идеологический принцип (что, несомненно, делает национальные суверенитеты взаимно сопряженными).
Казалось бы, исход этого суда на заре современности уже был решен. Тогда не только в революционных, но и в монархических системах национальная, публично-представительная модель власти взяла верх над вотчинной. Само понятие суверенитета стало в этой борьбе орудием демонтажа феодальной философии власти. Но сегодня, судя по всему, прежний спор снова оказывается открытым. И вводя в оборот криптофеодальную идею суверенитета как собственности, Вадим Леонидович волей-неволей делает определенный ход в одной из тех игр суверенитета, о которых он ведет речь.[12]
Анациональный суверинитет
Здесь, наконец, мы подошли к тому, что кажется действительно важным. До сих пор речь шла в основном о теории суверенитета и методологических проблемах ее критики. Конечно, «методологическую выдержанность» я ценю не так низко, как уже упомянутый персонаж статьи («политик», не ставящий ее в «ломаный грош»), но все же и не настолько высоко, чтобы методологические разногласия могли побудить меня к полемике с классиком русской общественной мысли.
Мой настоящий мотив в этой дискуссии является политическим, и, после произведенных «теоретизаций», я могу его обозначить.
Концепция суверенитета, развиваемая Вадимом Цымбурским, является на редкость внятной и удобной для нужд государственной жизни (а также для нужд описания оной). Проблема в том, что она является — анациональной.
Здесь, наконец, мы подошли к тому, что кажется действительно важным. До сих пор речь шла в основном о теории суверенитета и методологических проблемах ее критики. Конечно, «методологическую выдержанность» я ценю не так низко, как уже упомянутый персонаж статьи («политик», не ставящий ее в «ломаный грош»), но все же и не настолько высоко, чтобы методологические разногласия могли побудить меня к полемике с классиком русской общественной мысли.
Мой настоящий мотив в этой дискуссии является политическим, и, после произведенных «теоретизаций», я могу его обозначить.
Концепция суверенитета, развиваемая Вадимом Цымбурским, является на редкость внятной и удобной для нужд государственной жизни (а также для нужд описания оной). Проблема в том, что она является — анациональной.
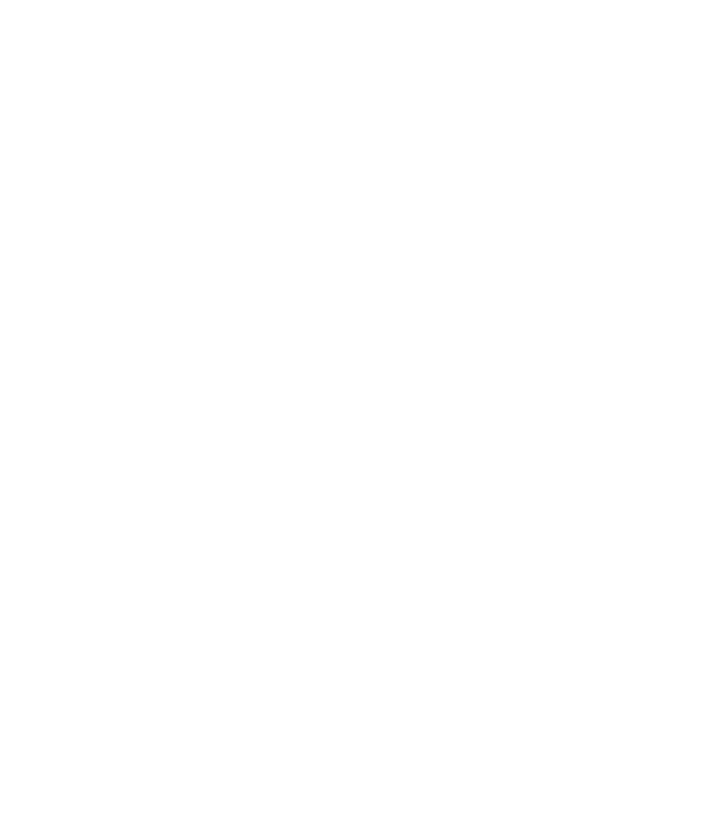
Причем сразу в двух смыслах. Во-первых, в смысле утраты определяющей взаимосвязи власти и народа во «внутренней» конструкции суверенитета. Во-вторых, в смысле утраты определяющего различия между зависимостью и независимостью государственной власти в его «внешней» конструкции.
Обе эти «утраты», насколько я могу судить, в том числе из выводов самой статьи, являются не проекцией политических предпочтений автора, как это обычно бывает в подобных вопросах, а его вполне намеренной жертвой «геополитическому реализму». Следствием того стремления переоформить «нормативное» понятие суверенитета в «позитивное», о котором мы говорили в начале.
Больше того, это стремление приводит автора к определенному внутреннему противоречию. То, что утверждается им теоретически («суверенитет есть не что иное, как политическая собственность») прямо противоположно тому, что утверждается им политически, в завершающей части статьи, где он говорит о столкновении между «политическим классом городов… и так называемой фрондой (по Шпенглеру), элитными группами, пытающимися перехватить становящееся «общенациональное» государство, переработать его в инструмент узкосословного властвования».
Ситуация, к которой отсылает нас автор, понятна и узнаваема. Понятен и его выбор в этом конфликте: обуздание «фронды», «оформление городского политического класса» (как правообладателя государства), «превращение его — говоря языком марксистов — из «класса в себе» в «класс для себя»« («Городская революция и будущее идеологий в России»). Непонятно лишь то, как сочетается этот выбор с концепцией суверенитета как политической собственности.
Ведь все дело именно в том, что если суверенитет есть «собственность», то государство может принадлежать только неофеодальной олигархии — на условиях ее признания и легитимации «международным сообществом».
Национальному большинству оно может принадлежать только в том случае, если суверенитет понят и осуществлен в качестве верховной, публичной, представительствующей власти.
Таким образом, рискну спросить, не попадает ли автор в ту ловушку противоречия между «теорией» и «практикой», которую сам же создал, начав делить философию суверенитета надвое (на безжизненно-теоретическую и позитивно-практическую часть)?
Аналогичным образом дело обстоит с другой актуальной коллизией. Коллизией узурпации суверенитета его фактическими пользователями, которая описывается в статье с помощью известного термина Андрея Фурсова — «кратократия»: «власть имущих власть»… «просто в силу того, что в некоторый решающий момент около нее оказались». Характеристика вполне исчерпывающая применительно к постсоветским режимам, которые, по определению автора, «представляют собой присвоение собственности идеального суверена пользователем».
Способность диагностировать присвоение государства правящей группой, на мой взгляд, критически важна для политической теории сегодняшнего дня. Но здесь, увы, этот политический диагноз ставится не благодаря, а вопреки теоретическому аппарату.
Проследим еще раз сделанные ходы. Автор определяет суверенитет как политическую собственность. Берет за отправную точку феодальную монархию, где личная собственность монарха на землю и прикрепленных к ней людей носит незамутненный характер. Затем — прослеживает переход этой собственности из рук монарха в руки народа и — уже в рамках модели народного суверенитета — проводит различие между «собственником» суверенитета и его «пользователями».
Таким образом, народ, в его отношении к государству, мыслится по аналогии с феодальным монархом — как новый собственник, пришедший на смену старому. Но эта аналогия оказывается уязвима в самом главном: «народу» в ней как раз и не оказывается места. Политическая категория «народ» оформляется в полемике с феодальным принципом власти — посредством истолкования власти как представительства. В политической идее народа — как самоучреждающегося, самозаконодательствующего, властвующего над собой общества — содержится радикальное отрицание идеи гетерономного господства, идеи власти как собственности.
Соответственно, если уж мы говорим о моменте перехода суверенитета (от феодального монарха к народу), то мы должны признать, что само его качество при этом радикально меняется. Возникает не просто новый суверен. Возникает новый суверенитет.
Возвращаясь к уже сделанному различению, этот суверенитет можно назвать «внутренним». В отличие от внешнего суверенитета, который, по замечанию Цымбурского, есть «политическая универсалия, хотя и открытая Новым временем, но применимая к самым разным временам и государствам», внутренний суверенитет специфически современен.
«В прежней феодальной монархии государство было суверенно во-вне, но внутри не только монарх, но и государство не было суверенно», поскольку «…особенные функции и власти государства… были частной собственностью отдельных индивидов», — говорит Гегель. (С.317) Примечательно, кстати, что, вопреки традиционалистским критикам модерна, именно современному, а не традиционному государству он приписывает свойство органичности, благодаря которому власть отдельных лиц или институтов выступает не как «нечто независимое, самостоятельное в своих целях и способах действия», а как функция общественного целого.
Искатели «позитивного знания» не замедлят уличить эту позицию в идеализме. Что ж, пусть будет так. И кстати, сам Гегель с неожиданной прямотой признается в этом, говоря о некоем жизненно необходимом «идеализме, составляющем суверенитет».(С.318) Но бывают моменты, — прибавляет он, — когда «идеализм суверенитета достигает присущей ему действительности». (там же) Это моменты мобилизации для ответа на внутренние или внешние вызовы. Моменты диктатуры целостности. И здесь сложно не заметить паса другому немцу, который спустя сто лет напишет о «решающей роли критического случая».
Кроме того, «идеализм» суверенитета, о котором говорит Гегель, обретает непосредственную действительность не только в моменты войн или революций, не только на пиках истории, но и на ее больших отрезках. В начале статьи мы уже говорили об этом: идея суверенитета обретает плоть в структурах современного общества, в институтах национального государства. Да, оно строилось «железом и кровью». Но весь бисмарковский реализм политики не стоил бы ничего без гегелевского идеализма суверенитета.
Обе эти «утраты», насколько я могу судить, в том числе из выводов самой статьи, являются не проекцией политических предпочтений автора, как это обычно бывает в подобных вопросах, а его вполне намеренной жертвой «геополитическому реализму». Следствием того стремления переоформить «нормативное» понятие суверенитета в «позитивное», о котором мы говорили в начале.
Больше того, это стремление приводит автора к определенному внутреннему противоречию. То, что утверждается им теоретически («суверенитет есть не что иное, как политическая собственность») прямо противоположно тому, что утверждается им политически, в завершающей части статьи, где он говорит о столкновении между «политическим классом городов… и так называемой фрондой (по Шпенглеру), элитными группами, пытающимися перехватить становящееся «общенациональное» государство, переработать его в инструмент узкосословного властвования».
Ситуация, к которой отсылает нас автор, понятна и узнаваема. Понятен и его выбор в этом конфликте: обуздание «фронды», «оформление городского политического класса» (как правообладателя государства), «превращение его — говоря языком марксистов — из «класса в себе» в «класс для себя»« («Городская революция и будущее идеологий в России»). Непонятно лишь то, как сочетается этот выбор с концепцией суверенитета как политической собственности.
Ведь все дело именно в том, что если суверенитет есть «собственность», то государство может принадлежать только неофеодальной олигархии — на условиях ее признания и легитимации «международным сообществом».
Национальному большинству оно может принадлежать только в том случае, если суверенитет понят и осуществлен в качестве верховной, публичной, представительствующей власти.
Таким образом, рискну спросить, не попадает ли автор в ту ловушку противоречия между «теорией» и «практикой», которую сам же создал, начав делить философию суверенитета надвое (на безжизненно-теоретическую и позитивно-практическую часть)?
Аналогичным образом дело обстоит с другой актуальной коллизией. Коллизией узурпации суверенитета его фактическими пользователями, которая описывается в статье с помощью известного термина Андрея Фурсова — «кратократия»: «власть имущих власть»… «просто в силу того, что в некоторый решающий момент около нее оказались». Характеристика вполне исчерпывающая применительно к постсоветским режимам, которые, по определению автора, «представляют собой присвоение собственности идеального суверена пользователем».
Способность диагностировать присвоение государства правящей группой, на мой взгляд, критически важна для политической теории сегодняшнего дня. Но здесь, увы, этот политический диагноз ставится не благодаря, а вопреки теоретическому аппарату.
Проследим еще раз сделанные ходы. Автор определяет суверенитет как политическую собственность. Берет за отправную точку феодальную монархию, где личная собственность монарха на землю и прикрепленных к ней людей носит незамутненный характер. Затем — прослеживает переход этой собственности из рук монарха в руки народа и — уже в рамках модели народного суверенитета — проводит различие между «собственником» суверенитета и его «пользователями».
Таким образом, народ, в его отношении к государству, мыслится по аналогии с феодальным монархом — как новый собственник, пришедший на смену старому. Но эта аналогия оказывается уязвима в самом главном: «народу» в ней как раз и не оказывается места. Политическая категория «народ» оформляется в полемике с феодальным принципом власти — посредством истолкования власти как представительства. В политической идее народа — как самоучреждающегося, самозаконодательствующего, властвующего над собой общества — содержится радикальное отрицание идеи гетерономного господства, идеи власти как собственности.
Соответственно, если уж мы говорим о моменте перехода суверенитета (от феодального монарха к народу), то мы должны признать, что само его качество при этом радикально меняется. Возникает не просто новый суверен. Возникает новый суверенитет.
Возвращаясь к уже сделанному различению, этот суверенитет можно назвать «внутренним». В отличие от внешнего суверенитета, который, по замечанию Цымбурского, есть «политическая универсалия, хотя и открытая Новым временем, но применимая к самым разным временам и государствам», внутренний суверенитет специфически современен.
«В прежней феодальной монархии государство было суверенно во-вне, но внутри не только монарх, но и государство не было суверенно», поскольку «…особенные функции и власти государства… были частной собственностью отдельных индивидов», — говорит Гегель. (С.317) Примечательно, кстати, что, вопреки традиционалистским критикам модерна, именно современному, а не традиционному государству он приписывает свойство органичности, благодаря которому власть отдельных лиц или институтов выступает не как «нечто независимое, самостоятельное в своих целях и способах действия», а как функция общественного целого.
Искатели «позитивного знания» не замедлят уличить эту позицию в идеализме. Что ж, пусть будет так. И кстати, сам Гегель с неожиданной прямотой признается в этом, говоря о некоем жизненно необходимом «идеализме, составляющем суверенитет».(С.318) Но бывают моменты, — прибавляет он, — когда «идеализм суверенитета достигает присущей ему действительности». (там же) Это моменты мобилизации для ответа на внутренние или внешние вызовы. Моменты диктатуры целостности. И здесь сложно не заметить паса другому немцу, который спустя сто лет напишет о «решающей роли критического случая».
Кроме того, «идеализм» суверенитета, о котором говорит Гегель, обретает непосредственную действительность не только в моменты войн или революций, не только на пиках истории, но и на ее больших отрезках. В начале статьи мы уже говорили об этом: идея суверенитета обретает плоть в структурах современного общества, в институтах национального государства. Да, оно строилось «железом и кровью». Но весь бисмарковский реализм политики не стоил бы ничего без гегелевского идеализма суверенитета.
Статья опубликована в Русском журнале(www.russ.ru ) 9 и 16 сентября 2009 г.
Примечания:
[1] См. статью 3 «Декларации прав человека и гражданина»: «Источником суверенной власти является нация. Никакие учреждения, ни один индивид не могут обладать властью, которая не исходит явно от нации»
[2] Простоватое выражение этой позиции дал Дж. Мур «Я не думаю, что окружающий мир или наука когда-либо ставили передо мной философские проблемы. Такими проблемами были вещи, которые говорили о мире или естествознании другие философы»
[3] Существенным для Нового времени, – говорит Хайдеггер в статье «Время картины мира» – является «не то, что человек освобождает себя… от прежней связанности, а то, что меняется вообще существо человека и человек становится субъектом. Это слово subiесtum надо понимать, конечно, как перевод греческого upoceimenon. Так называется под-лежащее, то, что как основание собирает все на себе. В этом метафизическом значении понятия субъекта нет вначале подчеркнутого отношения к человеку и тем более к Я. Если теперь человек становится первым и подлинным субъектом, то это значит: он становится тем сущим, на которое в роде своего бытия и виде своей истины опирается все сущее. Человек становится точкой отсчета для сущего как такового. Такое возможно лишь с изменением восприятия сущего в целом».
Примерно понятно, как из этого выводится специфика модерна:
«Лишь поскольку — и насколько — человек вообще и сущностно стал субъектом, перед ним как следствие неизбежно встает настоятельный вопрос, хочет ли и должен ли человек быть субъектом, — каковым в качестве новоевропейского существа он уже является, — как ограниченное своей прихотью и отпущенное на собственный произвол Я или как общественное Мы, как индивид или как общность, как лицо в обществе или как рядовой член в организации, как государство и нация и как народ или как общечеловеческий тип новоевропейского человека. Только когда человек уже есть по своей сущности субъект, возникает возможность скатиться к уродству субъективизма в смысле индивидуализма. Но и опять же только там, где человек остается субъектом, имеет смысл жестокая борьба против индивидуализма и за общество как желанный предел всех усилий и всяческой полезности».
[4]«Апелляция к суверенитету означает не описание того, что есть, но некий необходимый модус совершения действий в определенных областях политики», - фиксирует Александр Филиппов в статье, посвященной понятию суверенитета («Суверенитет» // Апология, №3, 2005). И это представляется довольно точным, с той оговоркой, что речь все же идет не только о модусе действия в политическом пространстве, а о модусе существования самого политического пространства, способе его воспроизводства. Да, об одном из возможных способов. Но политика, по своей сути, – это не просто «борьба на поле», это борьба за возможность дать полю свою разметку.
[5] Здесь оно остается бессильным, например, потому, что выносит за скобки проблематику легитимности, без которой не только решить, но даже поставить этот вопрос нельзя. В анализе международной политики эта абстракция может быть вполне оправдана, но и только.
[6] И автор демонстрирует ее эвристический потенциал, упоминая о концепции «геополитических структур согласия» как теоретической основе для анализа «того порядка, который уже семнадцать лет выстраивает мировой Центр».
[7] Точнее, мы сведем содержание «формулы» к утверждению того, что момент внешнего признания является конститутивным для идеи суверенитета. Эта мысль может быть верной, но не может служить выражением смысла интересующей нас идеи.
[8] Гоббс говорит о двух типах государств - «государствах основанных на установлении» и государствах, «основанных на приобретении». Казалось бы, в последнем случае, т.е. в случае раннефеодальных монархий, открыто ссылающихся на «право завоевания», об идее власти как представительства не может быть и речи. Однако в действительности иным здесь является лишь предмет представительства. Завоевания осуществляют не короли, а организованные сообщества воинов. И чем меньше времени прошло с момента завоевания, тем лучше это известно, и завоевателям, и завоеванным. Соответственно, подлинным хозяином «государств, основанных на приобретении», выступает некая более или менее широкая группа победителей, новая знать. Она и является тем «политическим телом», которое олицетворяет монарх в «государствах, основанных на приобретении».
[9] Именно с этим связано то принципиальное значение, которое придается в статье – концепции «геополитических структур признания», которую, в представленном виде, можно было бы назвать также концепцией распределенного суверенитета. В том смысле, что иной формы существования суверенитета, кроме распределенной, она не предполагает. Если в классической модели суверенитета функция конечной инстанции права (в широком, не только формальном смысле) и функция непосредственного контроля над пространством были необходимым образом сведены воедино, то здесь они заведомо разнесены по разным этажам. Носителем полноты суверенитета в прежнем смысле слова оказывается лишь международная система в целом, отдельные же государства характеризуются лишь разной мерой зависимости.
Автор вполне откровенно демонстрирует следствия своей модели, когда говорит о марионеточных режимах («…я не считаю, будто в случае назначения пользователей по решению мировых авторитетов местному суверенитету сразу приходит конец. Это совсем неочевидно») или когда рассматривает в качестве разновидности «геополитической структуры признания» – федерацию («через проблематику структур признания суверенитеты членов федерации входят в мировой спектр суверенитетов как предметов политологического обсуждения»).
Таким образом, качественное различие между национальным государством и вассальным княжеством или между федерацией и ее членами – упраздняется. Остаются лишь разные градации в рамках международных систем взаимозависимости. Пожалуй, это еще одно свидетельство того, что автор решает проблему суверенитета по образцу Ганса Кельзена – через ее упразднение.
[10] За указание на этот весомый аргумент я признателен Борису Межуеву.
[11] Остается лишь пожелать нам не увидеть те времена, когда одно будет неотличимо от другого.
[12] Другое возражение, которое стоит рассмотреть здесь же, состоит в том, что в своих рассуждениях о логике суверенитета как собственности я несколько исказил позицию автора, который говорит не просто о «собственности», а о «политической собственности». Однако специфически политическое качество властной «собственности» в статье никак не тематизировано. И я рискну утверждать, что в данном контексте оно вряд ли могло быть тематизировано.
Если мы снова возьмем за отправную точку емкую формулировку о природе внутреннего суверенитета: «суверенитет – это просто идея власти как чьей-то политической собственности», – то в этой формулировке дополнение «политическая» либо ничего не прибавляет к определению «собственность», либо полностью его нейтрализует. Ничего не прибавляет – в том случае, если под политическим мы будем понимать просто нечто относимое к государству и властным отношениям в нем. Полностью нейтрализует – в том случае, если под политикой мы будем понимать тот специфически современный способ воспроизводства власти, который связан с публичной репрезентацией и публичным размежеванием.
В этом узком значении политика, по удачному выражению Ю.М.Солозобова, представляет собой форму отношений людей по поводу общественного целого (именно явная или скрытая референция к целому придает общественным коммуникациям и институтам публичный характер). Собственность, думаю, мы без натяжки можем охарактеризовать как форму отношений между людьми по поводу вещей.
Что есть, в таком случае, политическая собственность? Утверждение того, что «общественное целое» есть «вещь»? Или просто указание на некую вещь, которая принадлежит общественному целому? В последнем случае, удобнее сказать «публичная собственность». Это словосочетание вполне понятно, но суверенитет не может быть определен как публичная собственность, поскольку, скорее, публичная собственность есть собственность суверена.
Примечания:
[1] См. статью 3 «Декларации прав человека и гражданина»: «Источником суверенной власти является нация. Никакие учреждения, ни один индивид не могут обладать властью, которая не исходит явно от нации»
[2] Простоватое выражение этой позиции дал Дж. Мур «Я не думаю, что окружающий мир или наука когда-либо ставили передо мной философские проблемы. Такими проблемами были вещи, которые говорили о мире или естествознании другие философы»
[3] Существенным для Нового времени, – говорит Хайдеггер в статье «Время картины мира» – является «не то, что человек освобождает себя… от прежней связанности, а то, что меняется вообще существо человека и человек становится субъектом. Это слово subiесtum надо понимать, конечно, как перевод греческого upoceimenon. Так называется под-лежащее, то, что как основание собирает все на себе. В этом метафизическом значении понятия субъекта нет вначале подчеркнутого отношения к человеку и тем более к Я. Если теперь человек становится первым и подлинным субъектом, то это значит: он становится тем сущим, на которое в роде своего бытия и виде своей истины опирается все сущее. Человек становится точкой отсчета для сущего как такового. Такое возможно лишь с изменением восприятия сущего в целом».
Примерно понятно, как из этого выводится специфика модерна:
«Лишь поскольку — и насколько — человек вообще и сущностно стал субъектом, перед ним как следствие неизбежно встает настоятельный вопрос, хочет ли и должен ли человек быть субъектом, — каковым в качестве новоевропейского существа он уже является, — как ограниченное своей прихотью и отпущенное на собственный произвол Я или как общественное Мы, как индивид или как общность, как лицо в обществе или как рядовой член в организации, как государство и нация и как народ или как общечеловеческий тип новоевропейского человека. Только когда человек уже есть по своей сущности субъект, возникает возможность скатиться к уродству субъективизма в смысле индивидуализма. Но и опять же только там, где человек остается субъектом, имеет смысл жестокая борьба против индивидуализма и за общество как желанный предел всех усилий и всяческой полезности».
[4]«Апелляция к суверенитету означает не описание того, что есть, но некий необходимый модус совершения действий в определенных областях политики», - фиксирует Александр Филиппов в статье, посвященной понятию суверенитета («Суверенитет» // Апология, №3, 2005). И это представляется довольно точным, с той оговоркой, что речь все же идет не только о модусе действия в политическом пространстве, а о модусе существования самого политического пространства, способе его воспроизводства. Да, об одном из возможных способов. Но политика, по своей сути, – это не просто «борьба на поле», это борьба за возможность дать полю свою разметку.
[5] Здесь оно остается бессильным, например, потому, что выносит за скобки проблематику легитимности, без которой не только решить, но даже поставить этот вопрос нельзя. В анализе международной политики эта абстракция может быть вполне оправдана, но и только.
[6] И автор демонстрирует ее эвристический потенциал, упоминая о концепции «геополитических структур согласия» как теоретической основе для анализа «того порядка, который уже семнадцать лет выстраивает мировой Центр».
[7] Точнее, мы сведем содержание «формулы» к утверждению того, что момент внешнего признания является конститутивным для идеи суверенитета. Эта мысль может быть верной, но не может служить выражением смысла интересующей нас идеи.
[8] Гоббс говорит о двух типах государств - «государствах основанных на установлении» и государствах, «основанных на приобретении». Казалось бы, в последнем случае, т.е. в случае раннефеодальных монархий, открыто ссылающихся на «право завоевания», об идее власти как представительства не может быть и речи. Однако в действительности иным здесь является лишь предмет представительства. Завоевания осуществляют не короли, а организованные сообщества воинов. И чем меньше времени прошло с момента завоевания, тем лучше это известно, и завоевателям, и завоеванным. Соответственно, подлинным хозяином «государств, основанных на приобретении», выступает некая более или менее широкая группа победителей, новая знать. Она и является тем «политическим телом», которое олицетворяет монарх в «государствах, основанных на приобретении».
[9] Именно с этим связано то принципиальное значение, которое придается в статье – концепции «геополитических структур признания», которую, в представленном виде, можно было бы назвать также концепцией распределенного суверенитета. В том смысле, что иной формы существования суверенитета, кроме распределенной, она не предполагает. Если в классической модели суверенитета функция конечной инстанции права (в широком, не только формальном смысле) и функция непосредственного контроля над пространством были необходимым образом сведены воедино, то здесь они заведомо разнесены по разным этажам. Носителем полноты суверенитета в прежнем смысле слова оказывается лишь международная система в целом, отдельные же государства характеризуются лишь разной мерой зависимости.
Автор вполне откровенно демонстрирует следствия своей модели, когда говорит о марионеточных режимах («…я не считаю, будто в случае назначения пользователей по решению мировых авторитетов местному суверенитету сразу приходит конец. Это совсем неочевидно») или когда рассматривает в качестве разновидности «геополитической структуры признания» – федерацию («через проблематику структур признания суверенитеты членов федерации входят в мировой спектр суверенитетов как предметов политологического обсуждения»).
Таким образом, качественное различие между национальным государством и вассальным княжеством или между федерацией и ее членами – упраздняется. Остаются лишь разные градации в рамках международных систем взаимозависимости. Пожалуй, это еще одно свидетельство того, что автор решает проблему суверенитета по образцу Ганса Кельзена – через ее упразднение.
[10] За указание на этот весомый аргумент я признателен Борису Межуеву.
[11] Остается лишь пожелать нам не увидеть те времена, когда одно будет неотличимо от другого.
[12] Другое возражение, которое стоит рассмотреть здесь же, состоит в том, что в своих рассуждениях о логике суверенитета как собственности я несколько исказил позицию автора, который говорит не просто о «собственности», а о «политической собственности». Однако специфически политическое качество властной «собственности» в статье никак не тематизировано. И я рискну утверждать, что в данном контексте оно вряд ли могло быть тематизировано.
Если мы снова возьмем за отправную точку емкую формулировку о природе внутреннего суверенитета: «суверенитет – это просто идея власти как чьей-то политической собственности», – то в этой формулировке дополнение «политическая» либо ничего не прибавляет к определению «собственность», либо полностью его нейтрализует. Ничего не прибавляет – в том случае, если под политическим мы будем понимать просто нечто относимое к государству и властным отношениям в нем. Полностью нейтрализует – в том случае, если под политикой мы будем понимать тот специфически современный способ воспроизводства власти, который связан с публичной репрезентацией и публичным размежеванием.
В этом узком значении политика, по удачному выражению Ю.М.Солозобова, представляет собой форму отношений людей по поводу общественного целого (именно явная или скрытая референция к целому придает общественным коммуникациям и институтам публичный характер). Собственность, думаю, мы без натяжки можем охарактеризовать как форму отношений между людьми по поводу вещей.
Что есть, в таком случае, политическая собственность? Утверждение того, что «общественное целое» есть «вещь»? Или просто указание на некую вещь, которая принадлежит общественному целому? В последнем случае, удобнее сказать «публичная собственность». Это словосочетание вполне понятно, но суверенитет не может быть определен как публичная собственность, поскольку, скорее, публичная собственность есть собственность суверена.