Гражданское и этническое. К типологии национализма.
Часть 1
Протесты молодежи на Манежной площади вызвали у бюрократии когнитивный шок. С тех пор она не перестает рассуждать о национальном вопросе. Как и следовало ожидать, интеллектуальный арсенал советско-постсоветской национальной политики оказался не богат и сильно изношен. Если не считать репрессивных формул вперемежку с призывами к толерантности, рефреном звучит только одна спасительная идея: культивировать общероссийскую гражданскую нацию в противовес русскому этническому национализму.
Я уже имел случай писать о том, что на практике это противопоставление лишено смысла. Или, по крайней мере, лишено того смысла, который подразумевается в рамках российского официоза. Дело в том, что формирование гражданской нации потребует, прежде всего, жесткой ассимиляционной дисциплины в отношении меньшинств, выпадающих из национальной правовой и политической культуры. Обеспечив на всей территории страны и в отношении всех ее граждан эффективный приоритет гражданских законов перед «законами гор» – т.е. обеспечив гражданское единство на деле, а не на словах, – государство реализовало бы наиболее злободневную часть повестки русского национализма.
Иными словами, общность целей «гражданской» и «этнической» версий национального проекта в России на сегодня гораздо важнее их различий.
Этот практический аргумент, однако, нуждается в теоретическом дополнении.
Чтобы избежать ситуации навязанного выбора между «гражданственностью» и «этничностью», мы должны присмотреться к самой дихотомии, проверить на прочность ее основания.
Я уже имел случай писать о том, что на практике это противопоставление лишено смысла. Или, по крайней мере, лишено того смысла, который подразумевается в рамках российского официоза. Дело в том, что формирование гражданской нации потребует, прежде всего, жесткой ассимиляционной дисциплины в отношении меньшинств, выпадающих из национальной правовой и политической культуры. Обеспечив на всей территории страны и в отношении всех ее граждан эффективный приоритет гражданских законов перед «законами гор» – т.е. обеспечив гражданское единство на деле, а не на словах, – государство реализовало бы наиболее злободневную часть повестки русского национализма.
Иными словами, общность целей «гражданской» и «этнической» версий национального проекта в России на сегодня гораздо важнее их различий.
Этот практический аргумент, однако, нуждается в теоретическом дополнении.
Чтобы избежать ситуации навязанного выбора между «гражданственностью» и «этничностью», мы должны присмотреться к самой дихотомии, проверить на прочность ее основания.
Заговор теоретиков
С подачи Ганса Кона, оппозиция «гражданского» и «этнического», «западного» и «восточного» национализма приобрела не просто популярность, но силу универсального объяснительного клише, стала частью своеобразного ритуала благонамеренности в обращении со взрывоопасными вопросами национализма. Кто-то из исследователей должен был нарушить магию этого ритуала, хотя бы из духа противоречия.
Наиболее внятную его деконструкцию произвели Бернард Якв известной статье «Миф гражданской нации» и Роджерс Брубейкер в статье «Мифы и заблуждения в изучении национализма».
С подачи Ганса Кона, оппозиция «гражданского» и «этнического», «западного» и «восточного» национализма приобрела не просто популярность, но силу универсального объяснительного клише, стала частью своеобразного ритуала благонамеренности в обращении со взрывоопасными вопросами национализма. Кто-то из исследователей должен был нарушить магию этого ритуала, хотя бы из духа противоречия.
Наиболее внятную его деконструкцию произвели Бернард Якв известной статье «Миф гражданской нации» и Роджерс Брубейкер в статье «Мифы и заблуждения в изучении национализма».
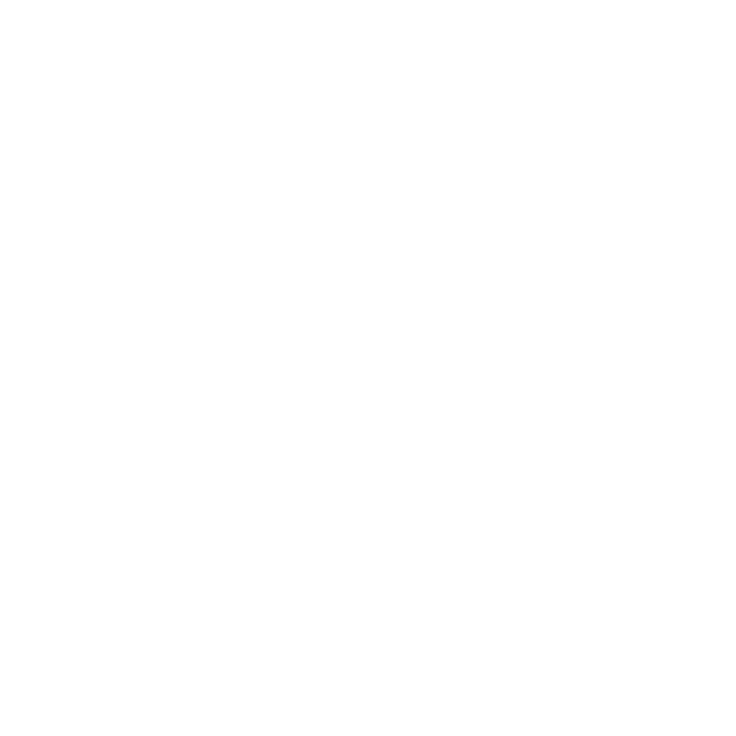
Эти статьи объединяет не только общность некоторых аргументов, но общность взгляда. Авторы выступают в жанре «критики идеологии». Причем не идеологии национализма, а исследовательской идеологии, идеологии «национализмоведения». Западные исследователи национализма, в не меньшей мере, чем сами националисты, реализуют особого рода политику идентичности, в рамках которой градация «этнического» и «гражданского» национализма выступает скорее вариантом оппозиции «мы» – «они», чем собственно научной типологией.
«Дихотомия гражданское / этническое, – пишет Бернард Як, – существует наряду с другими противопоставлениями, которые должны звучать, как набат: не только западное / восточное, но и рациональное / эмоциональное, добровольное / унаследованное, хорошее / плохое, наше / их». Все эти оппозиции воспринимаются часть единого фрейма, но при ближайшем рассмотрении он рассыпается. «Западный» национализм (например, французский) оказывается не менее «этническим», чем «гражданским», «гражданский» – не менее «иррациональным» и не более «добровольным», чем «этнический». В итоге, осью, на которую нанизываются все остальные характеристики, оказывается не какой-либо позитивный, а позиционный признак – «наше» / «их». Поэтому Бернард Як, будучи канадцем, т.е. входя в то условное «мы», которое конструируется этой эгоцентрической типологией, и характеризует ее как «несостоятельное сочетание самовосхваления и принятия желаемого за действительное».
Думается, однако, что в основе этого безотчетного заговора теоретиков – не пресловутое самодовольство западного человека, а то, что Майкл Биллинг назвал «банальным национализмом», т.е. национализмом, заключенным не в радикальных лозунгах и манифестах, а в повседневных привычках, институтах, способах восприятия действительности. Благодаря этому эффекту «банализации» национальной картины мира, разглядеть «национализм» в чужом глазу исследователям оказывается методологически проще, чем в собственном. Ведь та «иррациональность» и та «историчность», которая структурирует твой собственный взгляд, легко становится частью «естественного порядка», законов разума или природы, к которым собственно и апеллировали предтечи «хорошего», франко-американского национализма.
В этой связи Биллинг отмечает присущую «nationalism studies» тенденцию к экстернализации своего предмета, вынесению его по ту сторону линии, очерчивающей жизненный мир исследователя. Это достигается либо за счет использования узкого понятия национализма, включающего лишь его крайние идеологические формы, либо за счет введения специальных дискриминационных понятий типа «этнонационализма». Характерно, что немецкий историк Отто Данн саму концепцию «этнонационализма» многозначительно называет «англосаксонской». Роджерс Брубейкер еще более определенен. Он говорит об «ориенталистской концепции восточно-европейского национализма».
В самом деле, подобно «ориенталистскому» понятию «Востока» по Саиду, понятия «восточного» или «восточно-европейского» национализма (а они используются как синонимичные друг другу и синонимичные понятию этнического национализма), являются скорее инверсией самопрезентации Запада, чем категорией исторического понимания. В отличие от вдохновителей западной «антиколониальной» моды, подобных тому же Эдварду Саиду, я совсем не считаю, что обнаружение гегемонистских подтекстов научно-философского или культурологического дискурса является компрометирующим обстоятельством. Но одно можно сказать совершенно точно: фигурами «колониального дискурса» не стоит злоупотреблять тому, кто ими же определен как колонизованный.
Забавно, что именно это происходит с российской этнополитологией, когда она увлеченно и уверенно делит мир на «хорошие-гражданские» и «плохие-этнические» национализмы. Это увлечение сопоставимо с увлечением другой дихотомией – «демократия» / «тоталитаризм». И в этом отношении оно служит одним из проявлений интеллектуальной самоколонизации: мы принимаем как данность сфабрикованную картину мира, в рамках которой нам уготовано место в яме, занимаем это место, и начинаем из него мучительно выкарабкиваться.
Причем, в данном случае, без особенных шансов на успех.
Так, один из исследователей, верных этой типологии, Лия Гринфельд, беседуя с российским изданием о рецептах национальной политики, вполне определенно фиксирует: «Традиция русского национализма этническая и коллективистская, и вряд ли она собирается меняться». «Как можно побороть, – добавляет она, – основанные на ощущении принадлежности к этнической группе образ жизни и менталитет и создать гражданскую нацию, основанную на добровольной принадлежности независимо от происхождения? Это два совершенно разных метода восприятия реальности, и превратить одну традицию в другую крайне сложно».
В рамках жесткой дихотомии «гражданского» и «этнического» национализма (а в книге Гринфельд «Национализм. Пять путей к современности» эта дихотомия проводится жестко, даже догматически) такой скепсис абсолютно логичен. Концепция этнического национализма в руках западного исследователя призвана объяснить не только «почему мы не они», но и почему «они» не станут «нами». Или, в крайнем случае, если «они» будут настойчивы в смене традиции, это потребует весьма значительного времени и обойдется недешево.
Т.е. выбор между «добровольной» и «принудительной» национальной принадлежностью (так в догматической схеме выглядят «гражданская» и «этническая» концепции) сам, в свою очередь, отнюдь не является добровольным. Носители этой исследовательской идеологии посвящают много усилий демонстрации того, что «этнический» национализм натурализует, мифологизирует национальные различия (фиксируя их как «естественные» и «неизменные»). Но сами они заняты в точности тем же, натурализуя и мифологизируя различия между национальными моделями интеграции, «воображая» русский или немецкий национализм А) внутренне детерминированным и самотождественным, и Б) в корне отличным от французского или английского. Это весьма характерный пример торжества «банального национализма».
Еще раз хочу оговориться. Если мы напоминаем о предвзятости того или иного социального знания, то это не значит, что им следует пренебречь, это значит, что его следует использовать строго по назначению. Так вот, использовать шкалу, которая призвана (извне) маркировать нашу «извечную» инаковость в качестве шкалы для постановки собственных целей («долой этнический национализм, даешь гражданский»), по меньшей мере, нелепо.
Ловушка биологизма
Главная сложность при анализе интересующей нас оппозиции связана с определением «этничности». Точнее, даже не с определением как таковым, а с вычленением того аспекта явления, который играет роль в противопоставлении «этнического» национализма и «гражданского».
Вульгарный вариант ответа на этот вопрос состоит в сведении этнического национализма к «биологизму». Та же Лия Гринфельд принимает как данность, что в «этническом» прочтении «национальность… является как бы генетической характеристикой». Получается очень удобная манихейская схема: на одной стороне – гены («материя»), на противоположной стороне – добрая воля, сознание, социальность. В основе схемы оказывается некритичное представление об этничности как естественно-природной реальности. Понятно, что исследователь в данном случае вводит это представление не от своего имени, а от имени сообществ с «этническим» самосознанием. Т.е. вместо своего понимания этничности он предлагает нам самоописание ее наивных носителей, которое собственно и имеет решающее значение, если мы говорим о разных способах «воображения» национальной общности.
Но замена «этнического» на «генетическое» не становится от этого более корректной.
Прежде всего, неверно, что нации, скроенные по «этническим» лекалам (в контексте книги Гринфельд, это русские и немцы) «воображают» себя исключительно или преимущественно биологически. Русская идентичность долгое время была привязана к конфессиональной. Теоретики «немецкой модели» нации, такие как Гердер и Фихте, определяли национальную идентичность культуралистски и лингвистически.
Разумеется, это совсем не «наивные» носители этнического сознания. Но кто сказал, что в расчет идут только наивные? Национализм никогда не сложился бы как форма обыденного сознания (т.е. как «банальный национализм», о значении которого шла речь выше), если бы не работал как дискурсивная практика, осуществляющая рефлексию по поводу своего предмета (национальной принадлежности) и тем самым воспроизводящая свой предмет.
«Дихотомия гражданское / этническое, – пишет Бернард Як, – существует наряду с другими противопоставлениями, которые должны звучать, как набат: не только западное / восточное, но и рациональное / эмоциональное, добровольное / унаследованное, хорошее / плохое, наше / их». Все эти оппозиции воспринимаются часть единого фрейма, но при ближайшем рассмотрении он рассыпается. «Западный» национализм (например, французский) оказывается не менее «этническим», чем «гражданским», «гражданский» – не менее «иррациональным» и не более «добровольным», чем «этнический». В итоге, осью, на которую нанизываются все остальные характеристики, оказывается не какой-либо позитивный, а позиционный признак – «наше» / «их». Поэтому Бернард Як, будучи канадцем, т.е. входя в то условное «мы», которое конструируется этой эгоцентрической типологией, и характеризует ее как «несостоятельное сочетание самовосхваления и принятия желаемого за действительное».
Думается, однако, что в основе этого безотчетного заговора теоретиков – не пресловутое самодовольство западного человека, а то, что Майкл Биллинг назвал «банальным национализмом», т.е. национализмом, заключенным не в радикальных лозунгах и манифестах, а в повседневных привычках, институтах, способах восприятия действительности. Благодаря этому эффекту «банализации» национальной картины мира, разглядеть «национализм» в чужом глазу исследователям оказывается методологически проще, чем в собственном. Ведь та «иррациональность» и та «историчность», которая структурирует твой собственный взгляд, легко становится частью «естественного порядка», законов разума или природы, к которым собственно и апеллировали предтечи «хорошего», франко-американского национализма.
В этой связи Биллинг отмечает присущую «nationalism studies» тенденцию к экстернализации своего предмета, вынесению его по ту сторону линии, очерчивающей жизненный мир исследователя. Это достигается либо за счет использования узкого понятия национализма, включающего лишь его крайние идеологические формы, либо за счет введения специальных дискриминационных понятий типа «этнонационализма». Характерно, что немецкий историк Отто Данн саму концепцию «этнонационализма» многозначительно называет «англосаксонской». Роджерс Брубейкер еще более определенен. Он говорит об «ориенталистской концепции восточно-европейского национализма».
В самом деле, подобно «ориенталистскому» понятию «Востока» по Саиду, понятия «восточного» или «восточно-европейского» национализма (а они используются как синонимичные друг другу и синонимичные понятию этнического национализма), являются скорее инверсией самопрезентации Запада, чем категорией исторического понимания. В отличие от вдохновителей западной «антиколониальной» моды, подобных тому же Эдварду Саиду, я совсем не считаю, что обнаружение гегемонистских подтекстов научно-философского или культурологического дискурса является компрометирующим обстоятельством. Но одно можно сказать совершенно точно: фигурами «колониального дискурса» не стоит злоупотреблять тому, кто ими же определен как колонизованный.
Забавно, что именно это происходит с российской этнополитологией, когда она увлеченно и уверенно делит мир на «хорошие-гражданские» и «плохие-этнические» национализмы. Это увлечение сопоставимо с увлечением другой дихотомией – «демократия» / «тоталитаризм». И в этом отношении оно служит одним из проявлений интеллектуальной самоколонизации: мы принимаем как данность сфабрикованную картину мира, в рамках которой нам уготовано место в яме, занимаем это место, и начинаем из него мучительно выкарабкиваться.
Причем, в данном случае, без особенных шансов на успех.
Так, один из исследователей, верных этой типологии, Лия Гринфельд, беседуя с российским изданием о рецептах национальной политики, вполне определенно фиксирует: «Традиция русского национализма этническая и коллективистская, и вряд ли она собирается меняться». «Как можно побороть, – добавляет она, – основанные на ощущении принадлежности к этнической группе образ жизни и менталитет и создать гражданскую нацию, основанную на добровольной принадлежности независимо от происхождения? Это два совершенно разных метода восприятия реальности, и превратить одну традицию в другую крайне сложно».
В рамках жесткой дихотомии «гражданского» и «этнического» национализма (а в книге Гринфельд «Национализм. Пять путей к современности» эта дихотомия проводится жестко, даже догматически) такой скепсис абсолютно логичен. Концепция этнического национализма в руках западного исследователя призвана объяснить не только «почему мы не они», но и почему «они» не станут «нами». Или, в крайнем случае, если «они» будут настойчивы в смене традиции, это потребует весьма значительного времени и обойдется недешево.
Т.е. выбор между «добровольной» и «принудительной» национальной принадлежностью (так в догматической схеме выглядят «гражданская» и «этническая» концепции) сам, в свою очередь, отнюдь не является добровольным. Носители этой исследовательской идеологии посвящают много усилий демонстрации того, что «этнический» национализм натурализует, мифологизирует национальные различия (фиксируя их как «естественные» и «неизменные»). Но сами они заняты в точности тем же, натурализуя и мифологизируя различия между национальными моделями интеграции, «воображая» русский или немецкий национализм А) внутренне детерминированным и самотождественным, и Б) в корне отличным от французского или английского. Это весьма характерный пример торжества «банального национализма».
Еще раз хочу оговориться. Если мы напоминаем о предвзятости того или иного социального знания, то это не значит, что им следует пренебречь, это значит, что его следует использовать строго по назначению. Так вот, использовать шкалу, которая призвана (извне) маркировать нашу «извечную» инаковость в качестве шкалы для постановки собственных целей («долой этнический национализм, даешь гражданский»), по меньшей мере, нелепо.
Ловушка биологизма
Главная сложность при анализе интересующей нас оппозиции связана с определением «этничности». Точнее, даже не с определением как таковым, а с вычленением того аспекта явления, который играет роль в противопоставлении «этнического» национализма и «гражданского».
Вульгарный вариант ответа на этот вопрос состоит в сведении этнического национализма к «биологизму». Та же Лия Гринфельд принимает как данность, что в «этническом» прочтении «национальность… является как бы генетической характеристикой». Получается очень удобная манихейская схема: на одной стороне – гены («материя»), на противоположной стороне – добрая воля, сознание, социальность. В основе схемы оказывается некритичное представление об этничности как естественно-природной реальности. Понятно, что исследователь в данном случае вводит это представление не от своего имени, а от имени сообществ с «этническим» самосознанием. Т.е. вместо своего понимания этничности он предлагает нам самоописание ее наивных носителей, которое собственно и имеет решающее значение, если мы говорим о разных способах «воображения» национальной общности.
Но замена «этнического» на «генетическое» не становится от этого более корректной.
Прежде всего, неверно, что нации, скроенные по «этническим» лекалам (в контексте книги Гринфельд, это русские и немцы) «воображают» себя исключительно или преимущественно биологически. Русская идентичность долгое время была привязана к конфессиональной. Теоретики «немецкой модели» нации, такие как Гердер и Фихте, определяли национальную идентичность культуралистски и лингвистически.
Разумеется, это совсем не «наивные» носители этнического сознания. Но кто сказал, что в расчет идут только наивные? Национализм никогда не сложился бы как форма обыденного сознания (т.е. как «банальный национализм», о значении которого шла речь выше), если бы не работал как дискурсивная практика, осуществляющая рефлексию по поводу своего предмета (национальной принадлежности) и тем самым воспроизводящая свой предмет.
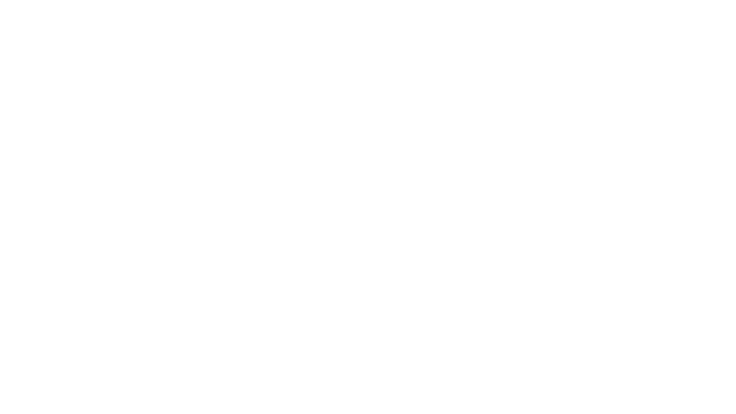
«Просвещенный» национализм в этом смысле – не какой-то размягченный и компромиссный национализм, а просто национализм адекватный сам себе, т.е. выполняющий свою работу по преобразованию действительности через самосознание и дискурс. Примером успешного выполнения этой работы являются те поколения «националистов-будителей», которые реализовывали как проект то, что их соотечественниками было принято как наследие (в сфере словесности, историографии, фольклора) и которые в традиционной типологии неизменно проходят по части «этнических».
Поэтому, если мы говорим о категории этнического в контексте типологии национализма, мы не можем сверять ее значение исключительно по обыденному словарю, где этническая принадлежность в самом деле зачастую предстает «как бы генетической характеристикой».
Тем не менее, если попытаться отнестись к этой формулировке Лии Гринфельд всерьез, ключевым словом в ней должно быть – «как бы». Смысл его в том, что даже в плоскости обыденного сознания предметом национальных отношений и национальных чувств являются не «гены» как таковые, а социальные и культурные отношения по их поводу («как бы гены»).
Весьма характерно, что для описания базовых элементов некоей, вроде бы, наиболее «инстинктивной» формы национализма мы вынуждены прибегать либо к поэтическим метафорам («кровь»), либо к названиям научных дисциплин («генетика», «биология»), т.е. к явно надстроечным когнитивным структурам. Базовой, действительно несущей конструкцией (категорией социального мышления), над которой они надстраиваются, является – родство.
Это та категория, без которой немыслим национализм (в том числе, в его гражданственных ипостасях – о чем пойдет речь в дальнейшем).
Однако мышление в категориях родства невозможно заклеймить как «биологизм», противопоставив ему нечто более «социально» или «духовно» значимое. Даже «обычное» родство (не говоря уже о национальности как «расширенном родстве») – это не просто биологический факт, это довольно сложные механизмы наделения биологических фактов социальным значением. Это система социальной и культурной связи, прежде всего, связи между поколениями. Точно так же, миф об общем происхождении, скрепляющий этнические сообщества, – это, прежде всего, культурный регулятор. «Этничность частично определяется мифами об общем происхождении, – признает Энтони Смит. – Но миф – это не биологическая реальность». Он действует как часть той культурной системы, которая (наряду с языком, историческими или эпическими преданиями, собственно этнонимом и так далее) А) обосновывает и обеспечивает связь поколений внутри сообщества, Б) отграничивает сообщество от других.
Можно задаваться вопросом, насколько миф об общем происхождении соответствует действительности.
С точки зрения реальности сообщества, это не столь важно. Реальность конструируется социально – в том числе, посредством продуктивного (самореализующегося) заблуждения. «Вся история, – отмечает Макс Вебер, – демонстрирует, как просто политическая активность может породить уверенность в кровном родстве, за исключением только тех случаев, когда этому препятствуют значительные отличия в антропологическом типе».
Т.е. в вопросе о соответствии реального и приписанного происхождения национализм вполне может занять агностическую позицию.
Однако при желании он может позволить себе и нечто большее. Например, если усилить и развернуть ту оговорку, которую делает Вебер относительно условий убедительности «генетического мифа». Именно так поступает видный представитель социобиологического подхода Пьер ван ден Берге, напоминая о том, что в миф об общем происхождении будут верить «только если члены этнической группы достаточно похожи по своей внешности и культуре, если они заключали браки друг с другом в течение времени, достаточного… для того, чтобы миф приобрел необходимую биологическую истинность».
«Невозможно построить этническую общность, – добавляет он, – на какой-то иной основе, кроме правдоподобной концепции общего происхождения…».
Иными словами, миф об общем происхождении может быть в той или иной степени истинным.
Но значение с точки зрения этнических связей имеет не его истинность, а только его действенность, за которую отвечают социо-культурные, а не генетические механизмы.
Критерием этой действенности является устойчиво воспроизводимое представление о естественной связи поколений. Утверждение о том, что «наши предки», к примеру, «приняли христианство» или «дошли до Тихого океана» не может быть подтверждено генетической экспертизой или выписками из метрических книг. И главное, оно не нуждается в таких подтверждениях, поскольку в масштабе «большого общества», которое по определению не может основываться на непосредственных связях, интеграция людей и поколений происходит за счет символов коллективной идентичности. Подобно «тотемам» в примитивных формах религиозной жизни, именно культовые образцы, а не реальные люди выполняют условную роль «общего предка».
Поэтому этническое определение нации как «сообщества происхождения» не имеет ничего общего с биологическим редукционизмом. «Сообщество происхождения» – это не «сообщество ДНК» (как в истории, так и в быту генетические родственники могут не иметь друг к другу никакого отношения, не образовывать социальной связи), а сообщество наследования групповой идентичности, закрепленной в культуре.
Разумеется, многообразие культурных самоопределений невозможно свести к этничности. Но для их опознания как этнических важен факт наследования от поколения к поколению и способность производить устойчивое различение «мы» - «они». С учетом этих оговорок, культуралистское понимание этничности можно считать базовым, в том числе, и для оппозиции этнического и гражданского национализма.
От него отталкиваются как сторонники этой оппозиции, – например, Юрген Хабермас, когда «юридическому статусу, определяемому в терминах гражданских прав» он противопоставляет «членство в культурно определяемом сообществе», – так и ее противники. Например, Бернард Як, когда он выражает «стандартный» взгляд на проблему: «Этническая идея нации, говорят нам, превозносит унаследованную культурную идентичность, примером чего служит Германия, Япония и большинство стран Восточной Европы. Гражданская идея нации, напротив, предполагает… чисто политическую идентичность участников в таких современных государствах, как Франция, Канада и Соединенные Штаты».
Поэтому, если мы говорим о категории этнического в контексте типологии национализма, мы не можем сверять ее значение исключительно по обыденному словарю, где этническая принадлежность в самом деле зачастую предстает «как бы генетической характеристикой».
Тем не менее, если попытаться отнестись к этой формулировке Лии Гринфельд всерьез, ключевым словом в ней должно быть – «как бы». Смысл его в том, что даже в плоскости обыденного сознания предметом национальных отношений и национальных чувств являются не «гены» как таковые, а социальные и культурные отношения по их поводу («как бы гены»).
Весьма характерно, что для описания базовых элементов некоей, вроде бы, наиболее «инстинктивной» формы национализма мы вынуждены прибегать либо к поэтическим метафорам («кровь»), либо к названиям научных дисциплин («генетика», «биология»), т.е. к явно надстроечным когнитивным структурам. Базовой, действительно несущей конструкцией (категорией социального мышления), над которой они надстраиваются, является – родство.
Это та категория, без которой немыслим национализм (в том числе, в его гражданственных ипостасях – о чем пойдет речь в дальнейшем).
Однако мышление в категориях родства невозможно заклеймить как «биологизм», противопоставив ему нечто более «социально» или «духовно» значимое. Даже «обычное» родство (не говоря уже о национальности как «расширенном родстве») – это не просто биологический факт, это довольно сложные механизмы наделения биологических фактов социальным значением. Это система социальной и культурной связи, прежде всего, связи между поколениями. Точно так же, миф об общем происхождении, скрепляющий этнические сообщества, – это, прежде всего, культурный регулятор. «Этничность частично определяется мифами об общем происхождении, – признает Энтони Смит. – Но миф – это не биологическая реальность». Он действует как часть той культурной системы, которая (наряду с языком, историческими или эпическими преданиями, собственно этнонимом и так далее) А) обосновывает и обеспечивает связь поколений внутри сообщества, Б) отграничивает сообщество от других.
Можно задаваться вопросом, насколько миф об общем происхождении соответствует действительности.
С точки зрения реальности сообщества, это не столь важно. Реальность конструируется социально – в том числе, посредством продуктивного (самореализующегося) заблуждения. «Вся история, – отмечает Макс Вебер, – демонстрирует, как просто политическая активность может породить уверенность в кровном родстве, за исключением только тех случаев, когда этому препятствуют значительные отличия в антропологическом типе».
Т.е. в вопросе о соответствии реального и приписанного происхождения национализм вполне может занять агностическую позицию.
Однако при желании он может позволить себе и нечто большее. Например, если усилить и развернуть ту оговорку, которую делает Вебер относительно условий убедительности «генетического мифа». Именно так поступает видный представитель социобиологического подхода Пьер ван ден Берге, напоминая о том, что в миф об общем происхождении будут верить «только если члены этнической группы достаточно похожи по своей внешности и культуре, если они заключали браки друг с другом в течение времени, достаточного… для того, чтобы миф приобрел необходимую биологическую истинность».
«Невозможно построить этническую общность, – добавляет он, – на какой-то иной основе, кроме правдоподобной концепции общего происхождения…».
Иными словами, миф об общем происхождении может быть в той или иной степени истинным.
Но значение с точки зрения этнических связей имеет не его истинность, а только его действенность, за которую отвечают социо-культурные, а не генетические механизмы.
Критерием этой действенности является устойчиво воспроизводимое представление о естественной связи поколений. Утверждение о том, что «наши предки», к примеру, «приняли христианство» или «дошли до Тихого океана» не может быть подтверждено генетической экспертизой или выписками из метрических книг. И главное, оно не нуждается в таких подтверждениях, поскольку в масштабе «большого общества», которое по определению не может основываться на непосредственных связях, интеграция людей и поколений происходит за счет символов коллективной идентичности. Подобно «тотемам» в примитивных формах религиозной жизни, именно культовые образцы, а не реальные люди выполняют условную роль «общего предка».
Поэтому этническое определение нации как «сообщества происхождения» не имеет ничего общего с биологическим редукционизмом. «Сообщество происхождения» – это не «сообщество ДНК» (как в истории, так и в быту генетические родственники могут не иметь друг к другу никакого отношения, не образовывать социальной связи), а сообщество наследования групповой идентичности, закрепленной в культуре.
Разумеется, многообразие культурных самоопределений невозможно свести к этничности. Но для их опознания как этнических важен факт наследования от поколения к поколению и способность производить устойчивое различение «мы» - «они». С учетом этих оговорок, культуралистское понимание этничности можно считать базовым, в том числе, и для оппозиции этнического и гражданского национализма.
От него отталкиваются как сторонники этой оппозиции, – например, Юрген Хабермас, когда «юридическому статусу, определяемому в терминах гражданских прав» он противопоставляет «членство в культурно определяемом сообществе», – так и ее противники. Например, Бернард Як, когда он выражает «стандартный» взгляд на проблему: «Этническая идея нации, говорят нам, превозносит унаследованную культурную идентичность, примером чего служит Германия, Япония и большинство стран Восточной Европы. Гражданская идея нации, напротив, предполагает… чисто политическую идентичность участников в таких современных государствах, как Франция, Канада и Соединенные Штаты».
Для целей дальнейшего анализа мы вполне можем принять, что дилемма этнической и гражданской нации составлена из двух ключевых оппозиций:
- культурной идентичности и политической.
- наследования идентичности и ее свободного выбора.
Рассмотрим их подробнее.
- культурной идентичности и политической.
- наследования идентичности и ее свободного выбора.
Рассмотрим их подробнее.
Принадлежность и выбор
Национализм создает напряжение в обществе – таково общее мнение. И это действительно так – он с необходимостью создает напряжение между «обществом» как описательной рамочной категорией и «обществом» как моральным сообществом, пространством «общего блага». Между «обществом» и «общностью», если использовать дихотомию Ф.Тенниса. В зазор между тем и другим могут попадать отдельные люди и категории населения. Но само это напряжение – не плод социальной агрессии, а следствие той формулы социальной интеграции, которая реализуется национализмом и благодаря которой «общество», опять же, в терминологии Тенниса, сохраняет или воспроизводит на новом уровне черты «общности».
Для гражданского национализма (для иллюстрирующих его страновых моделей) эта формула не менее верна, чем для этнического. В обоих случаях общество выступает одновременно как данность и как задание.
«Гражданская нация» в качестве «данности» имеет: население, совокупность носителей гражданских прав. В качестве «задания» – сообщество единомышленников, приверженных моральным, политическим, правовым принципам, на которых эти гражданские права основаны.
«Этническая нация» в качестве «данности» имеет совокупность носителей унаследованных культурных характеристик. В качестве «задания» – сообщество самосознания, основанное на освоении национальной культуры и соучастии в опыте совместной истории.
В одном случае в качестве технологии «переработки» общества выступает индоктринация, в другом – инкультурация. В практическом аспекте именно к этому сводится отличие «сообществ убеждения» от «сообществ происхождения», и это отличие вряд ли можно истолковать в пользу шаблонного представления о гражданской нации как «свободной» форме объединения.
Как справедливо отмечает Олег Неменский, «гражданский национализм», в тенденции, тоталитарен.
Американская, французская, а также советская модели национальной интеграции в большей или меньшей степени иллюстрируют эту тенденцию, делая условием полноценной принадлежности к нации – приверженность определенной версии революционной метафизики.
С одной стороны, членство в «гражданской нации» определяется убеждениями, по крайней мере, фасадными убеждениями (приверженностью «общей совокупности политических практик и ценностей», как поясняют адепты канона), с другой стороны, она охватывает все население государства (в глазах сторонников канона, в этом ее решающее преимущество перед «этнической»). Соответственно, убеждения оказываются далеко не частным делом. Они приписываются и предписываются гражданам с тем большей настойчивостью, что от этого зависит само существование нации.
На фоне этой систематической фальсификации убеждений – неизбежной, продиктованной граничными условиями модели, – постулировать какую-то особенную «добровольность» гражданской нации является отчаянным лицемерием.
Впрочем, дело не столько в особенных свойствах гражданской модели, сколько в общесоциологических соображениях. На определенном уровне оппозиция «добровольности» и «принудительности» заведомо несостоятельна. Через какие бы прилагательные ни определяла себя нация, все скрепляющие ее социальные институты скорее принудительны – принудительны, как само общество.
Наряду с этой оппозицией, в мифе «свободного выбора» заключена и другая оппозиция – «сознательного участия» в сообществе и «примордиальной принадлежности» к нему. Гражданский национализм апеллирует к свободной воле человека, к его способности политического и морального суждения. Тогда как этнический национализм – «всего лишь» к факту рождения в определенной среде. Даже если индоктринация и инкультурация в равной мере «навязаны» индивиду, они действуют на него по-разному: индоктринация катализирует выбор в пользу универсальных принципов, преимущество которых (для прошедших индоктринацию) очевидно. Инкультурация фиксирует принадлежность.
Однако и эта оппозиция не выдерживает критики. В ответ на представление о том, что в основе гражданских наций лежит не заведомо предписанная принадлежность, а выбор в пользу «корпуса моральных и политических принципов», Бернард Як предлагает вообразить фигуру «американского политика, спокойно меняющего политическую идентичность просто потому, что ему больше нравятся французские или канадские политические принципы». Подобная ситуация явно противоречит политической этике, которая принята в мире наций, при том, что в донациональном мире, например, античном, как отмечает Як, она куда более уместна.
Иными словами, даже при преимущественно политическом характере интеграции, национальная идентичность представляет собой то, что Клиффорд Гирц именовал «примордиальной привязанностью», т.е. такой привязанностью, которая «проистекает из «данностей» – или, точнее, социального бытия». Разумеется, для того, чтобы идентичность возникла, «данности» должны быть подтверждены на уровне самоопределения. Но последнее в равной степени верно для этнической идентичности, которая как таковая не может не быть актом сознания.
Таким образом, сознательное участие (в противовес бессознательной принадлежности) явно не может служить признаком, отличающим «гражданскую» модель интеграции от «этнической». В обоих случаях необходимо «включение» самосознания, акт самоопределения человека по отношению к предписанной ему роли. И в обоих случаях «якорем» идентичности служит определенный род социального бытия.
Возможно, и здесь ревностный сторонник канона продолжит настаивать, что, при определенном эмпирическом сходстве двух моделей интеграции, в них действуют принципиально разные регулятивные принципы, один из которых обращается к индивидуальному опыту каждого человека, другой – к совместному наследию. Именно так поступает Юрген Хабермас, когда постулирует: в первом случае (в случае гражданской модели интеграции) члены сообщества «должны воспринимать себя как союз свободных и равноправных индивидов на основе добровольного выбора», во втором случае (в «этническом варианте»), они «считают, что их объединила некая унаследованная ими форма жизни и судьбоносный опыт общей истории».
Хабермас, вероятно, отдает себе отчет в определенной контрфактичности идеализированной гражданской модели, поэтому говорит «должны воспринимать», - что, вроде бы, позволяет уйти от социологических аргументов, подобных вышеприведенным.
Но и это кантианское решение здесь не вполне срабатывает. Регулятивная идея может противоречить реальному состоянию дел, но не самой себе.
Противопоставление выбора и наследования не действует на уровне самой идеи гражданской нации – потому что в ее логике предметом наследования оказывается сам свободный выбор или, если угодно, «выбор в пользу свободы».
Американская война за независимость, французская революция – осевые события, вокруг которых выстраиваются соответствующие гражданские нации. Это действительно моменты исторического выбора, причем выбора, разрывающего «путы преемственности» и по форме противоположного актам наследования. Но для последующих поколений единственный способ быть частью гражданской нации – наследовать выбор, совершенный предшествующими поколениями. Вся архитектоника «гражданского культа» постреволюционных (т.е., вроде бы, порвавших с прежним наследием) наций говорит о том, что формирование политической идентичности на длинных исторических отрезках немыслимо вне представления о связи поколений, посредством которой выбор, совершенный в XVIII веке незнакомыми для сегодняшних французов и американцев людьми, становится значимым и обязывающим для них, становится их собственным.
Революция не могла бы стать осевым временем национальной истории, генератором идентичности (а это именно то, что делает с «революцией» совершившая ее «гражданская нация»), не став особого рода наследием, не будучи укоренена в подчас безотчетном представлении о естественной связи поколений и о создаваемом этой связью надиндивидуальном сообществе. Опыт стран, с которых писался канон гражданского национализма, это отчетливо подтверждает.
Соответственно, попутно с оппозицией «наследования» и «выбора», еще одну дежурную оппозицию – между «индивидуализмом» гражданских наций и «коллективизмом» этнических – мы также вправе дезавуировать.
Иными словами, гражданская концепция нации в не меньшей степени, чем этническая, содержит представление об общей судьбе, о «судьбоносном опыте общей истории», как выразился Хабермас. Таков, очевидно, сам жанр, в котором, пользуясь выражением Андерсона, воображаются нации.
На чем, в таком случае, основано устойчивое противопоставление между выбором и наследованием? На мой взгляд – на одном из предрассудков Просвещения, склонного абсолютизировать дистанцию между «разумом» и «традицией». Т.е. между, с одной стороны, свободным и рациональным, и с другой – бессознательным и автоматическим воспроизводством социальных институтов. Против этой абсолютизации предостерегал Гадамер, рассуждая о том, что «безусловной противоположности между традицией и разумом не существует... В действительности традиция всегда является точкой пересечения свободы и истории как таковых. Даже самая подлинная и прочная традиция формируется не просто естественным путем, благодаря способности к самосохранению того, что имеется в наличии, но требует согласия, принятия, заботы... Такое сохранение есть акт разума, отличающийся, правда, своей незаметностью».
Тема пересечения свободы и истории напоминает ренановское определение нации как постоянного плебисцита по поводу совместного прошлого и совместного будущего. Это определение обычно приводят как аргумент в пользу «волюнтаристской» («западной») концепции нации, в противовес «органической» («восточной»). Однако, если посмотреть на него сквозь призму замечания Гадамера, оно скорее свидетельствует в пользу искусственности этой оппозиции (свободного выбора и совместного наследия). Ведь при внимательном рассмотрении сама традиция (система отношений по поводу совместного наследия) предстает постоянным плебисцитом, пусть и «отличающимся своей незаметностью».
Национализм создает напряжение в обществе – таково общее мнение. И это действительно так – он с необходимостью создает напряжение между «обществом» как описательной рамочной категорией и «обществом» как моральным сообществом, пространством «общего блага». Между «обществом» и «общностью», если использовать дихотомию Ф.Тенниса. В зазор между тем и другим могут попадать отдельные люди и категории населения. Но само это напряжение – не плод социальной агрессии, а следствие той формулы социальной интеграции, которая реализуется национализмом и благодаря которой «общество», опять же, в терминологии Тенниса, сохраняет или воспроизводит на новом уровне черты «общности».
Для гражданского национализма (для иллюстрирующих его страновых моделей) эта формула не менее верна, чем для этнического. В обоих случаях общество выступает одновременно как данность и как задание.
«Гражданская нация» в качестве «данности» имеет: население, совокупность носителей гражданских прав. В качестве «задания» – сообщество единомышленников, приверженных моральным, политическим, правовым принципам, на которых эти гражданские права основаны.
«Этническая нация» в качестве «данности» имеет совокупность носителей унаследованных культурных характеристик. В качестве «задания» – сообщество самосознания, основанное на освоении национальной культуры и соучастии в опыте совместной истории.
В одном случае в качестве технологии «переработки» общества выступает индоктринация, в другом – инкультурация. В практическом аспекте именно к этому сводится отличие «сообществ убеждения» от «сообществ происхождения», и это отличие вряд ли можно истолковать в пользу шаблонного представления о гражданской нации как «свободной» форме объединения.
Как справедливо отмечает Олег Неменский, «гражданский национализм», в тенденции, тоталитарен.
Американская, французская, а также советская модели национальной интеграции в большей или меньшей степени иллюстрируют эту тенденцию, делая условием полноценной принадлежности к нации – приверженность определенной версии революционной метафизики.
С одной стороны, членство в «гражданской нации» определяется убеждениями, по крайней мере, фасадными убеждениями (приверженностью «общей совокупности политических практик и ценностей», как поясняют адепты канона), с другой стороны, она охватывает все население государства (в глазах сторонников канона, в этом ее решающее преимущество перед «этнической»). Соответственно, убеждения оказываются далеко не частным делом. Они приписываются и предписываются гражданам с тем большей настойчивостью, что от этого зависит само существование нации.
На фоне этой систематической фальсификации убеждений – неизбежной, продиктованной граничными условиями модели, – постулировать какую-то особенную «добровольность» гражданской нации является отчаянным лицемерием.
Впрочем, дело не столько в особенных свойствах гражданской модели, сколько в общесоциологических соображениях. На определенном уровне оппозиция «добровольности» и «принудительности» заведомо несостоятельна. Через какие бы прилагательные ни определяла себя нация, все скрепляющие ее социальные институты скорее принудительны – принудительны, как само общество.
Наряду с этой оппозицией, в мифе «свободного выбора» заключена и другая оппозиция – «сознательного участия» в сообществе и «примордиальной принадлежности» к нему. Гражданский национализм апеллирует к свободной воле человека, к его способности политического и морального суждения. Тогда как этнический национализм – «всего лишь» к факту рождения в определенной среде. Даже если индоктринация и инкультурация в равной мере «навязаны» индивиду, они действуют на него по-разному: индоктринация катализирует выбор в пользу универсальных принципов, преимущество которых (для прошедших индоктринацию) очевидно. Инкультурация фиксирует принадлежность.
Однако и эта оппозиция не выдерживает критики. В ответ на представление о том, что в основе гражданских наций лежит не заведомо предписанная принадлежность, а выбор в пользу «корпуса моральных и политических принципов», Бернард Як предлагает вообразить фигуру «американского политика, спокойно меняющего политическую идентичность просто потому, что ему больше нравятся французские или канадские политические принципы». Подобная ситуация явно противоречит политической этике, которая принята в мире наций, при том, что в донациональном мире, например, античном, как отмечает Як, она куда более уместна.
Иными словами, даже при преимущественно политическом характере интеграции, национальная идентичность представляет собой то, что Клиффорд Гирц именовал «примордиальной привязанностью», т.е. такой привязанностью, которая «проистекает из «данностей» – или, точнее, социального бытия». Разумеется, для того, чтобы идентичность возникла, «данности» должны быть подтверждены на уровне самоопределения. Но последнее в равной степени верно для этнической идентичности, которая как таковая не может не быть актом сознания.
Таким образом, сознательное участие (в противовес бессознательной принадлежности) явно не может служить признаком, отличающим «гражданскую» модель интеграции от «этнической». В обоих случаях необходимо «включение» самосознания, акт самоопределения человека по отношению к предписанной ему роли. И в обоих случаях «якорем» идентичности служит определенный род социального бытия.
Возможно, и здесь ревностный сторонник канона продолжит настаивать, что, при определенном эмпирическом сходстве двух моделей интеграции, в них действуют принципиально разные регулятивные принципы, один из которых обращается к индивидуальному опыту каждого человека, другой – к совместному наследию. Именно так поступает Юрген Хабермас, когда постулирует: в первом случае (в случае гражданской модели интеграции) члены сообщества «должны воспринимать себя как союз свободных и равноправных индивидов на основе добровольного выбора», во втором случае (в «этническом варианте»), они «считают, что их объединила некая унаследованная ими форма жизни и судьбоносный опыт общей истории».
Хабермас, вероятно, отдает себе отчет в определенной контрфактичности идеализированной гражданской модели, поэтому говорит «должны воспринимать», - что, вроде бы, позволяет уйти от социологических аргументов, подобных вышеприведенным.
Но и это кантианское решение здесь не вполне срабатывает. Регулятивная идея может противоречить реальному состоянию дел, но не самой себе.
Противопоставление выбора и наследования не действует на уровне самой идеи гражданской нации – потому что в ее логике предметом наследования оказывается сам свободный выбор или, если угодно, «выбор в пользу свободы».
Американская война за независимость, французская революция – осевые события, вокруг которых выстраиваются соответствующие гражданские нации. Это действительно моменты исторического выбора, причем выбора, разрывающего «путы преемственности» и по форме противоположного актам наследования. Но для последующих поколений единственный способ быть частью гражданской нации – наследовать выбор, совершенный предшествующими поколениями. Вся архитектоника «гражданского культа» постреволюционных (т.е., вроде бы, порвавших с прежним наследием) наций говорит о том, что формирование политической идентичности на длинных исторических отрезках немыслимо вне представления о связи поколений, посредством которой выбор, совершенный в XVIII веке незнакомыми для сегодняшних французов и американцев людьми, становится значимым и обязывающим для них, становится их собственным.
Революция не могла бы стать осевым временем национальной истории, генератором идентичности (а это именно то, что делает с «революцией» совершившая ее «гражданская нация»), не став особого рода наследием, не будучи укоренена в подчас безотчетном представлении о естественной связи поколений и о создаваемом этой связью надиндивидуальном сообществе. Опыт стран, с которых писался канон гражданского национализма, это отчетливо подтверждает.
Соответственно, попутно с оппозицией «наследования» и «выбора», еще одну дежурную оппозицию – между «индивидуализмом» гражданских наций и «коллективизмом» этнических – мы также вправе дезавуировать.
Иными словами, гражданская концепция нации в не меньшей степени, чем этническая, содержит представление об общей судьбе, о «судьбоносном опыте общей истории», как выразился Хабермас. Таков, очевидно, сам жанр, в котором, пользуясь выражением Андерсона, воображаются нации.
На чем, в таком случае, основано устойчивое противопоставление между выбором и наследованием? На мой взгляд – на одном из предрассудков Просвещения, склонного абсолютизировать дистанцию между «разумом» и «традицией». Т.е. между, с одной стороны, свободным и рациональным, и с другой – бессознательным и автоматическим воспроизводством социальных институтов. Против этой абсолютизации предостерегал Гадамер, рассуждая о том, что «безусловной противоположности между традицией и разумом не существует... В действительности традиция всегда является точкой пересечения свободы и истории как таковых. Даже самая подлинная и прочная традиция формируется не просто естественным путем, благодаря способности к самосохранению того, что имеется в наличии, но требует согласия, принятия, заботы... Такое сохранение есть акт разума, отличающийся, правда, своей незаметностью».
Тема пересечения свободы и истории напоминает ренановское определение нации как постоянного плебисцита по поводу совместного прошлого и совместного будущего. Это определение обычно приводят как аргумент в пользу «волюнтаристской» («западной») концепции нации, в противовес «органической» («восточной»). Однако, если посмотреть на него сквозь призму замечания Гадамера, оно скорее свидетельствует в пользу искусственности этой оппозиции (свободного выбора и совместного наследия). Ведь при внимательном рассмотрении сама традиция (система отношений по поводу совместного наследия) предстает постоянным плебисцитом, пусть и «отличающимся своей незаметностью».
Культура и политика
По мнению Брубейкера, дихотомия гражданского и этнического национализма неизбежно спотыкается о «культуру».
С одной стороны, если «акцент на общей культуре, без всякого выраженного акцента на общем происхождении» считать атрибутом «гражданского национализма», то эта категория окажется «слишком разнородной, чтобы быть полезной», а противоположная сторона оппозиции – «этнический национализм», сведенный к вопросам происхождения и «генетики», – искусственно зауженной и «малонаселенной».
С другой стороны, если интерпретировать гражданский национализм как «акультурную концепцию гражданства, четкое отделение гражданства от культурной, а равно и этнической национальности» (собственно, именно такова классическая схема), то тем самым он будет «определен как несуществующий» и все национализмы окажутся так или иначе «этническими или культурными».
«Даже парадигматические случаи гражданского национализма – Франция и Америка – добавляет Брубейкер, – перестанут считаться» таковыми, «поскольку заключают в себе критически важный культурный компонент».
Не менее определенно высказывается на этот счет Энтони Смит, который считает, что «различие между этнолингвистическим и гражданско-политическим видами национализма», хотя и «используется для прослеживания развития национализма вообще», при этом «не описывает конкретные национализмы». «Даже самые «гражданские» и «политические» национализмы при внимательном рассмотрении часто оказываются также «этническими» и «лингвистическими»; таков, несомненно, и французский национализм во время революции, не говоря уже о последующем периоде, с его обращением к «nos ancêtres les Gaulois» и единому французскому народу, а также подавлением региональных языков в пользу парижского французского».
В случае с французской нацией то значение, которое принадлежит в ее конструкции языку, литературе, историческому наследию, отсылающему отнюдь не только к революционной эпохе, но и к досовременному прошлому, – вполне очевидно. В случае с США, культурное измерение нации куда чаще остается в тени, но все же вполне может быть выведено на свет. Так, Брубейкер ссылается на исследования Си Холинджера и Майкла Линда, которые делают акцент на том, что американская нация основана не только на политической идее, но на вполне отчетливой американской культуре. В самом деле, в книге «The Next American Nation» Линд ведет речь о том, что, «подобно Франции, Германии и Японии, Америка есть одновременно правовая и политическая структура и сообщество, члены которого собраны вместе общей культурой и национальным сознанием».
Вряд ли этому здравому суждению можно что-либо возразить. Есть достаточно оснований считать, что нация не только по факту, но по определению есть политико-правовое и культурно-историческое сообщество одновременно. Поэтому в понимании и интерпретации нуждается не возможность сочетания этих двух принципов интеграции (политика и право, с одной стороны, культурное и историческое наследие – с другой), а тенденция к их противопоставлению.
Этой склонности остаются верны многие серьезные исследователи, такие, как Хабермас, в уже цитированных выше и других аналогичных пассажах, или Хобсбаум, когда он настаивает на том, что для «революционной идеи нации» – т.е. «американской» и «французской» идеи – «этнос и прочие элементы исторической традиции значения не имели, а язык был важен лишь… с практической точки зрения».
Это утверждение обладает некоторым правдоподобием лишь в том случае, если оно касается не реально существующих наций, а именно их «революционной идеи», т.е. некоего идеализированного самоописания, в котором общее наследие спрятано за фасадом общей воли. В этом отношении, впрочем, более показательна не революционная, а абсолютистская идея народа, которая еще более недвусмысленно определяет народ через государство. Характерно, что провозвестником сугубо политического понятия народа оказывается не «демократ» Руссо, который, вопреки Хобсбауму, как раз не был склонен игнорировать «этнос и прочие элементы исторической традиции»[7], а «абсолютист» Гоббс.
Именно его берет в качестве точки отсчета Борис Капустин, противопоставляя друг другу «политическую» и «культуралистскую» концепции народа.
Мнение Капустина на этот счет заслуживает особого внимания. Оно показательно именно с точки зрения того, каким образом в политико-философской традиции происходит это превращение «политической воли» и «культурного наследия» из взаимодополняющих и, отчасти, взаимно определяющих категорий в идеологические антонимы.
По мнению Брубейкера, дихотомия гражданского и этнического национализма неизбежно спотыкается о «культуру».
С одной стороны, если «акцент на общей культуре, без всякого выраженного акцента на общем происхождении» считать атрибутом «гражданского национализма», то эта категория окажется «слишком разнородной, чтобы быть полезной», а противоположная сторона оппозиции – «этнический национализм», сведенный к вопросам происхождения и «генетики», – искусственно зауженной и «малонаселенной».
С другой стороны, если интерпретировать гражданский национализм как «акультурную концепцию гражданства, четкое отделение гражданства от культурной, а равно и этнической национальности» (собственно, именно такова классическая схема), то тем самым он будет «определен как несуществующий» и все национализмы окажутся так или иначе «этническими или культурными».
«Даже парадигматические случаи гражданского национализма – Франция и Америка – добавляет Брубейкер, – перестанут считаться» таковыми, «поскольку заключают в себе критически важный культурный компонент».
Не менее определенно высказывается на этот счет Энтони Смит, который считает, что «различие между этнолингвистическим и гражданско-политическим видами национализма», хотя и «используется для прослеживания развития национализма вообще», при этом «не описывает конкретные национализмы». «Даже самые «гражданские» и «политические» национализмы при внимательном рассмотрении часто оказываются также «этническими» и «лингвистическими»; таков, несомненно, и французский национализм во время революции, не говоря уже о последующем периоде, с его обращением к «nos ancêtres les Gaulois» и единому французскому народу, а также подавлением региональных языков в пользу парижского французского».
В случае с французской нацией то значение, которое принадлежит в ее конструкции языку, литературе, историческому наследию, отсылающему отнюдь не только к революционной эпохе, но и к досовременному прошлому, – вполне очевидно. В случае с США, культурное измерение нации куда чаще остается в тени, но все же вполне может быть выведено на свет. Так, Брубейкер ссылается на исследования Си Холинджера и Майкла Линда, которые делают акцент на том, что американская нация основана не только на политической идее, но на вполне отчетливой американской культуре. В самом деле, в книге «The Next American Nation» Линд ведет речь о том, что, «подобно Франции, Германии и Японии, Америка есть одновременно правовая и политическая структура и сообщество, члены которого собраны вместе общей культурой и национальным сознанием».
Вряд ли этому здравому суждению можно что-либо возразить. Есть достаточно оснований считать, что нация не только по факту, но по определению есть политико-правовое и культурно-историческое сообщество одновременно. Поэтому в понимании и интерпретации нуждается не возможность сочетания этих двух принципов интеграции (политика и право, с одной стороны, культурное и историческое наследие – с другой), а тенденция к их противопоставлению.
Этой склонности остаются верны многие серьезные исследователи, такие, как Хабермас, в уже цитированных выше и других аналогичных пассажах, или Хобсбаум, когда он настаивает на том, что для «революционной идеи нации» – т.е. «американской» и «французской» идеи – «этнос и прочие элементы исторической традиции значения не имели, а язык был важен лишь… с практической точки зрения».
Это утверждение обладает некоторым правдоподобием лишь в том случае, если оно касается не реально существующих наций, а именно их «революционной идеи», т.е. некоего идеализированного самоописания, в котором общее наследие спрятано за фасадом общей воли. В этом отношении, впрочем, более показательна не революционная, а абсолютистская идея народа, которая еще более недвусмысленно определяет народ через государство. Характерно, что провозвестником сугубо политического понятия народа оказывается не «демократ» Руссо, который, вопреки Хобсбауму, как раз не был склонен игнорировать «этнос и прочие элементы исторической традиции»[7], а «абсолютист» Гоббс.
Именно его берет в качестве точки отсчета Борис Капустин, противопоставляя друг другу «политическую» и «культуралистскую» концепции народа.
Мнение Капустина на этот счет заслуживает особого внимания. Оно показательно именно с точки зрения того, каким образом в политико-философской традиции происходит это превращение «политической воли» и «культурного наследия» из взаимодополняющих и, отчасти, взаимно определяющих категорий в идеологические антонимы.
“
Народ есть нечто единое, - цитирует Капустин Гоббса, - он обладает единой волей, ему может быть предписано единое действие»
Очень важно иметь в виду, что такое политическое и специфически современное понимание народа, – считает Капустин, – диаметрально противоположно той органицистской, партикуляристской, обращенной в досовременное прошлое и неполитической концепции «народа», ассоциируемого прежде всего с языком и «унаследованным правом», которую наиболее отчетливо и впечатляюще представила немецкая Историческая школа права XIX в. Следует заметить, что при таком («неполитическом» – М.Р.) понимании «народа» «нация» по существу утрачивает самостоятельное категориальное содержание и отождествляется с тем же «народом», но только имеющим «государственное оформление», т.е. существующим в виде особого государства. Приведенная же гоббсовская трактовка «народа» – восходит к классическому, античному республиканскому его пониманию, фиксирующему определение народа на разумном согласии относительно устоев коллективной жизни и концепции общего блага».
В этом пассаже спрессована фактически вся логика и идеология интересующей нас оппозиции, поэтому в дальнейшем мы будем к нему возвращаться.
Прежде всего, стоит коснуться вопроса, который находится в стороне от нашей основной темы – а именно, проблемы категориального разграничения «нации» и «народа».
В рамках той традиции этнолингвистического национализма, которую критикует Капустин, для такого разграничения, несомненно, есть место. Одной из органицистских метафор, ключевых для этой традиции, является «национальное пробуждение». Это, как говорит Геллнер, «горячо любимое определение националистов». Разумеется, органицистская лексика может не удовлетворять научному вкусу; социальный органицизм, вообще – метафора. Но в рамках этой большой метафоры различие между «спящим» и «пробужденным» организмом вполне «категориально». Тот же Геллнер добавляет, развивая метафору пробуждения, что «здесь прослеживается заметная аналогия между этой идеей и марксистским разграничением между «классами в себе» и «классами для себя»». В самом деле, если на языке немецкого романтизма нация – это «пробужденный народ», то на языке немецкого классического идеализма нация – это «народ для себя».
Опять же, язык Гегеля может вызывать не больше восторга, чем язык Шлегеля. Но нельзя не признать, что на философском жаргоне это «для себя» значит достаточно много, включая и многое из того, что можно назвать политикой. И вообще, оно создает достаточно ёмкое пространство концептуализации. Т.е. это именно категориальное различение, которое позволяет считать ту же государственность не формальным атрибутом народа («флагом на башне»), а неким качественным «пороговым» значением. Это категориальное разграничение можно принимать или отвергать, как его отвергает тот же Геллнер, но нет оснований не признавать его существующим.
Что же касается диаметральной противоположности между системой мышления Гоббса и немецкой исторической школы или, шире, между абстрактной политической философией и, как сказали бы подразумеваемые Капустиным романтики, «конкретным национальным мышлением», то ее легко признали бы обе стороны. Но то, что эта противоположность превращается в противоположность «политического» и «неполитического», «современного» и «досовременного», всецело остается на совести автора. «Давно забыто, – отмечает в связи с подобными инвективами современный представитель немецкого историзма Курт Хюбнер, – что современное государство уходит своими корнями в Просвещение и романтизм». Т.е., применительно к нашей теме, в политическое (волюнтаристское) и культуралистское (органическое) понимание народа.
Ниже я предлагаю несколько аргументов в пользу того, что культурно-лингвистический национализм может быть и в некоторых редакциях является формой современного, политического и, подчас, республиканского сознания. А также, с другой стороны, в пользу того, что именно современный и республиканский (в противовес династически-феодальному или «деспотическому») стандарт политической общности делает ее неотделимой от общности культурной.
В этом пассаже спрессована фактически вся логика и идеология интересующей нас оппозиции, поэтому в дальнейшем мы будем к нему возвращаться.
Прежде всего, стоит коснуться вопроса, который находится в стороне от нашей основной темы – а именно, проблемы категориального разграничения «нации» и «народа».
В рамках той традиции этнолингвистического национализма, которую критикует Капустин, для такого разграничения, несомненно, есть место. Одной из органицистских метафор, ключевых для этой традиции, является «национальное пробуждение». Это, как говорит Геллнер, «горячо любимое определение националистов». Разумеется, органицистская лексика может не удовлетворять научному вкусу; социальный органицизм, вообще – метафора. Но в рамках этой большой метафоры различие между «спящим» и «пробужденным» организмом вполне «категориально». Тот же Геллнер добавляет, развивая метафору пробуждения, что «здесь прослеживается заметная аналогия между этой идеей и марксистским разграничением между «классами в себе» и «классами для себя»». В самом деле, если на языке немецкого романтизма нация – это «пробужденный народ», то на языке немецкого классического идеализма нация – это «народ для себя».
Опять же, язык Гегеля может вызывать не больше восторга, чем язык Шлегеля. Но нельзя не признать, что на философском жаргоне это «для себя» значит достаточно много, включая и многое из того, что можно назвать политикой. И вообще, оно создает достаточно ёмкое пространство концептуализации. Т.е. это именно категориальное различение, которое позволяет считать ту же государственность не формальным атрибутом народа («флагом на башне»), а неким качественным «пороговым» значением. Это категориальное разграничение можно принимать или отвергать, как его отвергает тот же Геллнер, но нет оснований не признавать его существующим.
Что же касается диаметральной противоположности между системой мышления Гоббса и немецкой исторической школы или, шире, между абстрактной политической философией и, как сказали бы подразумеваемые Капустиным романтики, «конкретным национальным мышлением», то ее легко признали бы обе стороны. Но то, что эта противоположность превращается в противоположность «политического» и «неполитического», «современного» и «досовременного», всецело остается на совести автора. «Давно забыто, – отмечает в связи с подобными инвективами современный представитель немецкого историзма Курт Хюбнер, – что современное государство уходит своими корнями в Просвещение и романтизм». Т.е., применительно к нашей теме, в политическое (волюнтаристское) и культуралистское (органическое) понимание народа.
Ниже я предлагаю несколько аргументов в пользу того, что культурно-лингвистический национализм может быть и в некоторых редакциях является формой современного, политического и, подчас, республиканского сознания. А также, с другой стороны, в пользу того, что именно современный и республиканский (в противовес династически-феодальному или «деспотическому») стандарт политической общности делает ее неотделимой от общности культурной.
Власть и интеллигенция
Прежде всего, вспомним то, о чем любят говорить академические критики этнического национализма – что не только культуралистское понятие народа, но и сама «культура», понятая как «национальная культура», являются проектом неких общественных сил. Проектом тех, кто «создавал» или «кодифицировал» национальные языки, реконструировал эпосы, «изобретал» традиции, ратовал за национальное просвещение. Причем делал это, зачастую, из националистических или протонационалистических мотивов. Т.е. для творцов национальной культуры и теоретиков культурной нации речь шла о реализации долгосрочного политического проекта на ранней стадии. На той стадии, когда национальная воля уже жила в них, но не располагала ни массовой поддержкой, которая появится позже, ни государственными средствами принуждения. Должны ли мы считать, что эта «длинная воля» художников и просветителей является качественно «менее политической», чем воля королей и революционеров? Если нет, то «культурную» нацию немцев можно, в самых ее основаниях, считать не менее политической, чем «революционную» нацию французов.
Т.е. различие между «немецким» и «французским» типом нации может быть сформулировано не как различие между «культурой» и «политикой», а как различие между политическими субъектами национального проекта. Как вопрос о том, чьим политическим наброском становится нация – национальной интеллигенции или государственной власти.
Причем, если говорить собственно о немецкой истории, то на ее арене этот вопрос стал темой острой социальной и политической борьбы. В частности, именно с помощью культурного национализма «ведущие слои гражданского общества», по словам Отто Дана, «впервые четко отделили себя от аристократической правящей верхушки» германских государств. Лия Гринфельд добавляет к этому, что основанная на культуре национальная идентичность «довела до конца то, что Просвещение не смогло: уравняла их («неприкрепленных интеллектуалов» и представителей образованной буржуазии – М.Р.) в человеческом отношении с любым представителем высшего класса».
Итак, становление немецкого национализма происходит на фоне конфликта двух принципов лояльности – территориального, ставшего инструментом в руках аристократической верхушки германских княжеств, и культуралистского, ставшего знаменем национальной интеллигенции. Причем территориально-государственный принцип лояльности в этом противостоянии служил как раз сдерживанию политических и гражданских свобод, о чем свидетельствует восклицание Фихте, обращенное к знати: «Вы боитесь, что нас поработит иностранная власть, и, чтобы уберечь нас от этого несчастья, вы предпочитаете поработить на сами?». Эти стремления понятны, продолжает он, непонятно лишь то, «почему мы должны желать этого так же сильно».
Точно так же непонятно, добавим мы, почему сегодня территориальный принцип лояльности воспринимается как средоточие республиканских ценностей и гражданственности, а этнический и культуралистский – как их антипод, если исторически их соотношение выглядело подчас совсем иначе.
Т.е. различие между «немецким» и «французским» типом нации может быть сформулировано не как различие между «культурой» и «политикой», а как различие между политическими субъектами национального проекта. Как вопрос о том, чьим политическим наброском становится нация – национальной интеллигенции или государственной власти.
Причем, если говорить собственно о немецкой истории, то на ее арене этот вопрос стал темой острой социальной и политической борьбы. В частности, именно с помощью культурного национализма «ведущие слои гражданского общества», по словам Отто Дана, «впервые четко отделили себя от аристократической правящей верхушки» германских государств. Лия Гринфельд добавляет к этому, что основанная на культуре национальная идентичность «довела до конца то, что Просвещение не смогло: уравняла их («неприкрепленных интеллектуалов» и представителей образованной буржуазии – М.Р.) в человеческом отношении с любым представителем высшего класса».
Итак, становление немецкого национализма происходит на фоне конфликта двух принципов лояльности – территориального, ставшего инструментом в руках аристократической верхушки германских княжеств, и культуралистского, ставшего знаменем национальной интеллигенции. Причем территориально-государственный принцип лояльности в этом противостоянии служил как раз сдерживанию политических и гражданских свобод, о чем свидетельствует восклицание Фихте, обращенное к знати: «Вы боитесь, что нас поработит иностранная власть, и, чтобы уберечь нас от этого несчастья, вы предпочитаете поработить на сами?». Эти стремления понятны, продолжает он, непонятно лишь то, «почему мы должны желать этого так же сильно».
Точно так же непонятно, добавим мы, почему сегодня территориальный принцип лояльности воспринимается как средоточие республиканских ценностей и гражданственности, а этнический и культуралистский – как их антипод, если исторически их соотношение выглядело подчас совсем иначе.
Революция и война
Еще меньше оснований говорить о «неполитическом» характере культурно-лингвистического национализма дает внешнеполитический контекст, в котором он выходит на авансцену в Германии. Я имею в виду контекст наполеоновских войн. Когда тот же Фихте в «Речах к германской нации» выводит формулы лингвистического национализма и максимы национального воспитания, то он не просто проповедует, он воюет, в доступной ему на тот момент форме. Война оказывается таким же политическим катализатором для «немецкой» модели нации, как революция – для «французской», и эта взаимосвязь не должна удивлять. Ведь культуралистский национализм – это не «служенье муз», а форма демаркации границ между сообществами. Если революция как таковая не слишком интересуется проблемой культурных границ (хотя это не значит, что революционные нации их не имеют), то война способна актуализировать этот вопрос до предела. По крайней мере, та война, которая пришла в Европу вместе с Наполеоном.
И здесь, опять же, уместен вопрос – разве не является война таким же горнилом «единой воли», как революция? И если так, то почему пробуждаемый ею национализм вдруг оказывается «диаметрально противоположен» политическому?
И здесь, опять же, уместен вопрос – разве не является война таким же горнилом «единой воли», как революция? И если так, то почему пробуждаемый ею национализм вдруг оказывается «диаметрально противоположен» политическому?
«Общая воля» и «народный дух»
Концепт «общей воли» нуждается в отдельном рассмотрении, как одна из осей того противопоставления «политической» нации и «культурной», которое нас интересует. «Культурная нация», в этой логике, основана на принципиально ином концепте, вероятнее всего – на «народном духе», который ассоциируется с исторической школой права, упоминаемой Капустиным. Так ли велико различие между этими двумя конструктами политической метафизики, чтобы определять их как нечто диаметрально противоположное и разнесенное по разные стороны политической современности? Некоторые романтики и авторы исторической школы, в самом деле, придавали «народному духу» сугубо реакционный дизайн. Однако если взять более широкий контекст культурного национализма, то в его рамках нет никакой необходимости считать «народный дух» чем-то застывшим и чем-то чуждым человеческой воле, как нет резона считать таковым гегелевский «объективный дух». Напротив, этот стиль мышления оказывается более чувствительным к диалектике формирования «общей воли», чем доктрина «общественного договора». Он прослеживает ее формирование на более глубоком уровне.
Снова сошлюсь на Фихте. Как несомненный носитель культурно-лингвистической идеи народа, он много говорит об «образовании воли». Но, в отличие от сторонников «договорной» идеи, считает решающим моментом не собственно волеизъявление, а национальное воспитание. Вот что он говорит о воспитателе и воспитуемом, держа в уме, конечно, народ: «Если ты хочешь чего-то от него добиться, ты должен сделать нечто большее, нежели только уговаривать его; ты должен сделать его, сделать таким, чтобы он вовсе не мог хотеть иначе, чем так, как ты хочешь, чтобы он хотел».
Пожалуй, это более радикальная форма волюнтаризма, чем понимание народа как «ежедневного плебисцита» или «общественного договора». И более последовательная. Ведь «общественный договор» не может быть не подписан, и на «ежедневном плебисците» не должно быть дано отрицательного ответа. Поэтому, если ты хочешь призвать к чему-то народ, сначала создай его, создай таким, чтобы он «не мог хотеть иначе».
К кому может быть обращено столь амбициозное требование?
Очевидно, к тому образованному слою, который Фихте обозначает как аудиторию своих «речей», который уже обладает выраженной идентичностью («представлением о самом себе как о немце вообще») и стремлением распространить ее вовне. Вопрос лишь в том, на каком основании этот слой может быть убежден в том, что его зрелая воля не является чужой для тех, в ком ее лишь предстоит образовать. Собственно, именно для ответа на этот вопрос культуралистскому национализму и необходим «народный дух».
Он обеспечивает что-то вроде предустановленной гармонии между «воспитателями» и «воспитуемыми», между импульсом образования общей воли и результатом, помещая национальных просветителей в контекст «национального пробуждения». Т.е. в руках национальной интеллигенции, категория «народного духа» выполняет ту же функцию, что и категория гегелевского «абсолютного духа», позволяющая сказать философу: «не я говорю о бытии, а бытие говорит через меня».
Иными словами, органицизм «народного духа» – это не в последнюю очередь способ компенсировать самоотверженный конструктивизм националистов-романтиков. За этой мнимо статической сущностью стояли радикальные преображения, которые народы Европы претерпевали на стадии «национального воспитания».
Таким образом, культурный национализм отнюдь не пренебрегает формированием общей воли, напротив, он занят именно этим, но действует на более глубоком уровне, чем собственно «политика». Возвращаясь к ренановской метафоре нации как «ежедневного плебисцита», распределение ролей можно представить следующим образом: если политика – то, что «назначает» этот каждодневный плебисцит о совместном прошлом и будущем, то культура – то, что позволяет ему завершаться каждодневным согласием.
Каждый из этих элементов в конструкции «общей воли» незаменим.
Снова сошлюсь на Фихте. Как несомненный носитель культурно-лингвистической идеи народа, он много говорит об «образовании воли». Но, в отличие от сторонников «договорной» идеи, считает решающим моментом не собственно волеизъявление, а национальное воспитание. Вот что он говорит о воспитателе и воспитуемом, держа в уме, конечно, народ: «Если ты хочешь чего-то от него добиться, ты должен сделать нечто большее, нежели только уговаривать его; ты должен сделать его, сделать таким, чтобы он вовсе не мог хотеть иначе, чем так, как ты хочешь, чтобы он хотел».
Пожалуй, это более радикальная форма волюнтаризма, чем понимание народа как «ежедневного плебисцита» или «общественного договора». И более последовательная. Ведь «общественный договор» не может быть не подписан, и на «ежедневном плебисците» не должно быть дано отрицательного ответа. Поэтому, если ты хочешь призвать к чему-то народ, сначала создай его, создай таким, чтобы он «не мог хотеть иначе».
К кому может быть обращено столь амбициозное требование?
Очевидно, к тому образованному слою, который Фихте обозначает как аудиторию своих «речей», который уже обладает выраженной идентичностью («представлением о самом себе как о немце вообще») и стремлением распространить ее вовне. Вопрос лишь в том, на каком основании этот слой может быть убежден в том, что его зрелая воля не является чужой для тех, в ком ее лишь предстоит образовать. Собственно, именно для ответа на этот вопрос культуралистскому национализму и необходим «народный дух».
Он обеспечивает что-то вроде предустановленной гармонии между «воспитателями» и «воспитуемыми», между импульсом образования общей воли и результатом, помещая национальных просветителей в контекст «национального пробуждения». Т.е. в руках национальной интеллигенции, категория «народного духа» выполняет ту же функцию, что и категория гегелевского «абсолютного духа», позволяющая сказать философу: «не я говорю о бытии, а бытие говорит через меня».
Иными словами, органицизм «народного духа» – это не в последнюю очередь способ компенсировать самоотверженный конструктивизм националистов-романтиков. За этой мнимо статической сущностью стояли радикальные преображения, которые народы Европы претерпевали на стадии «национального воспитания».
Таким образом, культурный национализм отнюдь не пренебрегает формированием общей воли, напротив, он занят именно этим, но действует на более глубоком уровне, чем собственно «политика». Возвращаясь к ренановской метафоре нации как «ежедневного плебисцита», распределение ролей можно представить следующим образом: если политика – то, что «назначает» этот каждодневный плебисцит о совместном прошлом и будущем, то культура – то, что позволяет ему завершаться каждодневным согласием.
Каждый из этих элементов в конструкции «общей воли» незаменим.
Республика и культ
Ровно то же можно сказать о «разумном согласии относительно устоев коллективной жизни и концепции общего блага», которое, вдохновляясь античным республиканизмом, современные авторы видят в качестве единственно достойного основания гражданской общности. Разумно ли противопоставлять «разумное согласие» тем более глубоким основаниям, которые делают его возможным и, можно сказать сильнее, производят его?
Разумное согласие требует совместного опыта понимания, возможность которого создается общим языком (в прямом и переносном смысле).
Разумное согласие по поводу концепции «общего блага» требует уже чего-то большего – совместного опыта побуждения. Все социальные побуждения символически опосредованы. Значит, такой опыт потребует существования символических структур, позволяющих, говоря на старомодный лад, совместно не только мыслить, но и переживать «сверхчувственное». Т.е. неких интеллигибельных мифологий, получающих огранку в религии, философии, искусстве.
Устойчивое разумное согласие по поводу концепции «общего блага» – а без устойчивости какой смысл говорить о гражданской общности? – окажется еще более требовательным. Оно не сможет обойтись без совместного опыта почитания. Т.е. без внутренне связного комплекса символов, имеющих не ситуативные, а образцовые мотивационные значения, культивируемые и передаваемые по наследству. Значит, оно потребует публичного культа.
И то, и другое, и третье составляет культуру. Причем, именно особенную культуру, отделенную от других культур границами понимания (непонимания) и культа.
Курт Хюбнер, рассуждая о национальном измерении античного республиканизма, отмечает: «Афины как городская нация изначально отличается от других не своим политическим, экономическим или военным устройством, а мифом, который вплоть до самых мелочей типически определял правила культа…».
Даже там, где мы не найдем досконально проработанных мифологий, республика все равно будет занята отправлением публичного культа – исторических событий, героев, «отцов-основателей». Это связано с самой идеей республики. Продолжая рассуждение Цицерона о республике как о сообществе, во имя которого жертвуют жизнью, Олег Хархордин отмечает: «Цицероновская формулировка подчеркивает специальный статус res publica как особого союза: именно она была единицей, производящей вечную славу… или – точнее – ареной, где эта слава могла раскрыться и быть записана в истории незабываемых деяний, тем самым приближая человека к богам».
Эта работа по «производству вечной славы» делает республику чем-то вроде «машины, творящей богов», которая не может работать лишь на шарнирах «разумного согласия».
Поэтому зафиксируем еще одну линию взаимосвязей между «гражданственностью» и «культурой».
Современная идея государства предполагает максималистский стандарт гражданской лояльности, связанный с республиканской традицией (республика как сообщество, во имя которого жертвуют жизнью).
Высокий стандарт гражданственности, в свою очередь, связан с возможностью репрезентации социального действия на арене совместной истории, присутствие на которой обладает сверхобыденным смыслом и осеняет ореолом земной вечности.
Подмостки совместной истории (без которых гражданская доблесть не имеет решительно никакого смысла) конструируются мифосимволически.
Для того, чтобы быть чем-то большим, чем мимолетная игра социального воображения, т.е. обладать устойчивостью в «пространстве» (в масштабах большого общества) и во «времени» (передача от поколения к поколению), эта коллективная мифология должна быть закреплена в структурах развитой групповой культуры (язык, предания, базовые тексты, символы коллективной идентичности).
Культура, которая обеспечивает связь между поколениями и демаркацию по линии «мы» – «они» (и то, и другое подразумевается условиями задачи), является этнической либо, если она воплощена в жанровых и коммуникационных форматах современного общества – национальной.
Таким образом, все то, что теоретики политической общности называют «общей волей», «общим благом», «общим делом», прямо или косвенно отсылает к культурным корням и культурным границам, а республиканство оказывается не антагонистом современного национализма, а одним из его важнейших источников. Причем речь идет не только об эмпирической, но и о логической связи. Вопрос лишь в желании или нежелании ее проследить.
Разумное согласие требует совместного опыта понимания, возможность которого создается общим языком (в прямом и переносном смысле).
Разумное согласие по поводу концепции «общего блага» требует уже чего-то большего – совместного опыта побуждения. Все социальные побуждения символически опосредованы. Значит, такой опыт потребует существования символических структур, позволяющих, говоря на старомодный лад, совместно не только мыслить, но и переживать «сверхчувственное». Т.е. неких интеллигибельных мифологий, получающих огранку в религии, философии, искусстве.
Устойчивое разумное согласие по поводу концепции «общего блага» – а без устойчивости какой смысл говорить о гражданской общности? – окажется еще более требовательным. Оно не сможет обойтись без совместного опыта почитания. Т.е. без внутренне связного комплекса символов, имеющих не ситуативные, а образцовые мотивационные значения, культивируемые и передаваемые по наследству. Значит, оно потребует публичного культа.
И то, и другое, и третье составляет культуру. Причем, именно особенную культуру, отделенную от других культур границами понимания (непонимания) и культа.
Курт Хюбнер, рассуждая о национальном измерении античного республиканизма, отмечает: «Афины как городская нация изначально отличается от других не своим политическим, экономическим или военным устройством, а мифом, который вплоть до самых мелочей типически определял правила культа…».
Даже там, где мы не найдем досконально проработанных мифологий, республика все равно будет занята отправлением публичного культа – исторических событий, героев, «отцов-основателей». Это связано с самой идеей республики. Продолжая рассуждение Цицерона о республике как о сообществе, во имя которого жертвуют жизнью, Олег Хархордин отмечает: «Цицероновская формулировка подчеркивает специальный статус res publica как особого союза: именно она была единицей, производящей вечную славу… или – точнее – ареной, где эта слава могла раскрыться и быть записана в истории незабываемых деяний, тем самым приближая человека к богам».
Эта работа по «производству вечной славы» делает республику чем-то вроде «машины, творящей богов», которая не может работать лишь на шарнирах «разумного согласия».
Поэтому зафиксируем еще одну линию взаимосвязей между «гражданственностью» и «культурой».
Современная идея государства предполагает максималистский стандарт гражданской лояльности, связанный с республиканской традицией (республика как сообщество, во имя которого жертвуют жизнью).
Высокий стандарт гражданственности, в свою очередь, связан с возможностью репрезентации социального действия на арене совместной истории, присутствие на которой обладает сверхобыденным смыслом и осеняет ореолом земной вечности.
Подмостки совместной истории (без которых гражданская доблесть не имеет решительно никакого смысла) конструируются мифосимволически.
Для того, чтобы быть чем-то большим, чем мимолетная игра социального воображения, т.е. обладать устойчивостью в «пространстве» (в масштабах большого общества) и во «времени» (передача от поколения к поколению), эта коллективная мифология должна быть закреплена в структурах развитой групповой культуры (язык, предания, базовые тексты, символы коллективной идентичности).
Культура, которая обеспечивает связь между поколениями и демаркацию по линии «мы» – «они» (и то, и другое подразумевается условиями задачи), является этнической либо, если она воплощена в жанровых и коммуникационных форматах современного общества – национальной.
Таким образом, все то, что теоретики политической общности называют «общей волей», «общим благом», «общим делом», прямо или косвенно отсылает к культурным корням и культурным границам, а республиканство оказывается не антагонистом современного национализма, а одним из его важнейших источников. Причем речь идет не только об эмпирической, но и о логической связи. Вопрос лишь в желании или нежелании ее проследить.
Публичность и однородность
Сказанное позволяет перейти к вопросу о «современном» или «несовременном» характере культурно-лингвистического национализма. Общим знаменателем политической идеи современности и культурной идеи нации является – значение публичных арен формирования и отправления власти.
Если в феодальной модели «…особенные функции и власти государства», были, как выражается Гегель, «частной собственностью отдельных индивидов», то современная власть является публично-представительской по своей природе. Даже не будучи процедурной демократией, она репрезентирует «народ». Это изменение тесно связано с изменением статуса культурных границ, о котором говорит Эрнст Геллнер. Аграрно-сословное общество «постоянно генерирует внутри себя культурные различия», которые «определяют общественные позиции, регулируют доступ к ним и не позволяют индивидам их покидать. Но границ общества в целом они не определяют». Напротив, современное общество «пронизано единой стандартизованной высокой культурой», которая «…очерчивает масштабную и внутренне подвижную социальную целостность, внутри которой индивиды могут свободно перемещаться…»[22]. На первый план выходят не вертикальные или горизонтальные культурные границы внутри политических единиц, но культурные границы между ними.
Сам Геллнер связывает эти изменения в культурной «картографии» общества со становлением индустриализма, т.е. с технологическим измерением современности. О ее политическом измерении в этом контексте говорит Крейг Калхун: «…именно потому, что современные государства опирались на граждан, а не на подданных, культурная политика в них была сопряжена с таким насилием». Это следствие формирования единого поля публичности. В Османской империи «жить в мире было не слишком сложно, потому что различные группы не участвовали в общем обсуждении политических и общественных вопросов…».
Иными словами, само приобретение властью политического характера («развитие институтов и арен для осуществления общей политики», менявших прежний, феодально-господский характер власти) востребует качественно новый уровень культурной однородности среди граждан и ведет к появлению соответствующих идеологий (т.е., собственно, культурно-лингвистичесокого национализма).
«Культурализация» пространства власти в этом отношении представляет собой внутреннее условие ее политического и современного качества. И напротив, попытка выделить химически чистую, «акультурную» власть создает колоссальный риск регрессии к ее досовременной и дополитической конструкции. Конструкции, которую можно назвать господской, в том смысле, что «господа», в самом деле, меньше всего склонны к какой-либо культурной идентификации с объектами своего господства.
Противопоставление двух формул интеграции общества («через власть» и «через культуру») во многом продиктовано духом гуманистической благонамеренности (стремление исключить всякую дискриминацию по культурному признаку). Есть зловещая ирония в том, что именно эта благонамеренность оборачивается реваншем архаики, реактуализируя «османскую» или, в нашем случае, скорее, «ордынскую» модель власти.
«Правители в таком обществе, – отмечает Геллнер, – не заинтересованы в том, чтобы оно становилось культурно однородным. Напротив, разнообразие им выгодно. Культурные различия удерживают людей в их социальных и географических нишах, препятствуют появлению опасных и влиятельных течений и групп, имеющих последователей». И позволяют власти, – добавим мы, – воспроизводить себя, выступая единственным модератором и арбитром в разгуле культурного многообразия.
Если в феодальной модели «…особенные функции и власти государства», были, как выражается Гегель, «частной собственностью отдельных индивидов», то современная власть является публично-представительской по своей природе. Даже не будучи процедурной демократией, она репрезентирует «народ». Это изменение тесно связано с изменением статуса культурных границ, о котором говорит Эрнст Геллнер. Аграрно-сословное общество «постоянно генерирует внутри себя культурные различия», которые «определяют общественные позиции, регулируют доступ к ним и не позволяют индивидам их покидать. Но границ общества в целом они не определяют». Напротив, современное общество «пронизано единой стандартизованной высокой культурой», которая «…очерчивает масштабную и внутренне подвижную социальную целостность, внутри которой индивиды могут свободно перемещаться…»[22]. На первый план выходят не вертикальные или горизонтальные культурные границы внутри политических единиц, но культурные границы между ними.
Сам Геллнер связывает эти изменения в культурной «картографии» общества со становлением индустриализма, т.е. с технологическим измерением современности. О ее политическом измерении в этом контексте говорит Крейг Калхун: «…именно потому, что современные государства опирались на граждан, а не на подданных, культурная политика в них была сопряжена с таким насилием». Это следствие формирования единого поля публичности. В Османской империи «жить в мире было не слишком сложно, потому что различные группы не участвовали в общем обсуждении политических и общественных вопросов…».
Иными словами, само приобретение властью политического характера («развитие институтов и арен для осуществления общей политики», менявших прежний, феодально-господский характер власти) востребует качественно новый уровень культурной однородности среди граждан и ведет к появлению соответствующих идеологий (т.е., собственно, культурно-лингвистичесокого национализма).
«Культурализация» пространства власти в этом отношении представляет собой внутреннее условие ее политического и современного качества. И напротив, попытка выделить химически чистую, «акультурную» власть создает колоссальный риск регрессии к ее досовременной и дополитической конструкции. Конструкции, которую можно назвать господской, в том смысле, что «господа», в самом деле, меньше всего склонны к какой-либо культурной идентификации с объектами своего господства.
Противопоставление двух формул интеграции общества («через власть» и «через культуру») во многом продиктовано духом гуманистической благонамеренности (стремление исключить всякую дискриминацию по культурному признаку). Есть зловещая ирония в том, что именно эта благонамеренность оборачивается реваншем архаики, реактуализируя «османскую» или, в нашем случае, скорее, «ордынскую» модель власти.
«Правители в таком обществе, – отмечает Геллнер, – не заинтересованы в том, чтобы оно становилось культурно однородным. Напротив, разнообразие им выгодно. Культурные различия удерживают людей в их социальных и географических нишах, препятствуют появлению опасных и влиятельных течений и групп, имеющих последователей». И позволяют власти, – добавим мы, – воспроизводить себя, выступая единственным модератором и арбитром в разгуле культурного многообразия.
Бегство от предмета
Итак, при ближайшем рассмотрении обе оппозиции – «наследования» идентичности и ее «свободного выбора», «культуры» и «политики» – не выдерживают той нагрузки, которая возлагается на них манихейской этнополитологией. Разумеется, это не значит, что они суть одно и то же. Но все дело в том, что эффект национального возникает не на разных полюсах этих оппозиций, а где-то в силовом поле их взаимодействия: на пересечении «выбора» и «принадлежности», «политики» и «культуры».
Как они переходят друг в друга – в этом и состоит диалектика, представляющая интерес для исследователя национализма и его идеолога.
Одна из моделей этого процесса дается Геллнером, для которого решающую роль играет «та связь между централизованным государством и литературной, нормированной, кодифицированной высокой культурой, которая и составляет суть принципа национализма».
Интерпретировать эту связь можно по-разному.
Для самого Геллнера она представляет собой важнейший атрибут индустриального общества, связанный с присущей ему формой разделения труда, предполагающей необходимость стандартизации не только технологических процессов, но и самого общества. Теоретическая модель Геллнера, кажется, уникальна тем, что повествует о «железной необходимости» национализма (он иронизирует по поводу «понимания национализма как зловещей атавистической силы», к которому обратились «западные теоретики»), не имея при этом никакого отношения к националистическому мировоззрению и фактически не интересуясь им (он меньше всего склонен воспринимать национализм «в его собственных идеологических формулировках»). Подобный взгляд может служить (и, несомненно, служит) объяснению национализма, но не его пониманию и неизбежно упускает нечто важное в идеологическом феномене. А именно, его мотивирующую силу.
В самом деле, необычайно важная функция, выполняемая национализмом в индустриальном обществе, еще ничего не говорит нам о сознании тех, кто в этом «семантическом» обществе «формирует» и «декодирует» послания национализма.
Между тем, мировоззренческая формула национализма вполне может быть сложена из тех же элементов, из которых Геллнер складывает его социологическую формулу, если посмотреть на них не (только) как на «топливо» для больших социальных машин (машина принуждения и машина массового образования), а как на элементы экзистенциальной ситуации человека. Каждый из них таковым, несомненно, является. Наследуемая высокая культура становится сверхценной жизненной атмосферой личности, создает укорененность в историческом опыте и ощущение связи поколений. Политическое единство связано с опытом интенсивного размежевания и предельной лояльности («руспублика – то, за что умирают»). Благодаря соединению того и другого шмиттовское различение «друзей» и «врагов» («политика») приобретает историческую и символическую глубину («культура»).
Если политическое единство (в форме суверенного государства, решающего вопросы мира и войны) максимально интенсивно, то культурное единство (в форме высокой национальной культуры, опосредующей узы этнической преемственности) максимально устойчиво.
Сочетание этих качеств не достигается автоматически, но в случае успеха дает уникальный социальный сплав, который и делает национализм тем, чем он является, уже не только в смысле его внешней социальной функции (унификация общества для нужд индустриализма), а в смысле его внутренней логики и мотивационной структуры (новая формула лояльности индивида сообществу).
В этом отношении, дихотомия «культурного» и «политического» национализма не столько специфицирует явление, сколько мешает понять и увидеть национализм как таковой. Т.е. выглядит как попытка искусственно изолировать друг от друга два элемента «формулы национализма» в пробирках школьных клише – вероятно, чтобы избежать той мощной цепной реакции, которая возникает при их соединении.
И здесь мы возвращаемся к тому, о чем шла речь в начале – к «исследовательским идеологиям» современного нациеведения. В случае теорий нации и национализма можно говорить о синдроме бегства исследователей от своего предмета.
Энтони Смит, говоря об «открытой враждебности» к национализму «со стороны большинства исследователей», отмечает любопытный нюанс:
Как они переходят друг в друга – в этом и состоит диалектика, представляющая интерес для исследователя национализма и его идеолога.
Одна из моделей этого процесса дается Геллнером, для которого решающую роль играет «та связь между централизованным государством и литературной, нормированной, кодифицированной высокой культурой, которая и составляет суть принципа национализма».
Интерпретировать эту связь можно по-разному.
Для самого Геллнера она представляет собой важнейший атрибут индустриального общества, связанный с присущей ему формой разделения труда, предполагающей необходимость стандартизации не только технологических процессов, но и самого общества. Теоретическая модель Геллнера, кажется, уникальна тем, что повествует о «железной необходимости» национализма (он иронизирует по поводу «понимания национализма как зловещей атавистической силы», к которому обратились «западные теоретики»), не имея при этом никакого отношения к националистическому мировоззрению и фактически не интересуясь им (он меньше всего склонен воспринимать национализм «в его собственных идеологических формулировках»). Подобный взгляд может служить (и, несомненно, служит) объяснению национализма, но не его пониманию и неизбежно упускает нечто важное в идеологическом феномене. А именно, его мотивирующую силу.
В самом деле, необычайно важная функция, выполняемая национализмом в индустриальном обществе, еще ничего не говорит нам о сознании тех, кто в этом «семантическом» обществе «формирует» и «декодирует» послания национализма.
Между тем, мировоззренческая формула национализма вполне может быть сложена из тех же элементов, из которых Геллнер складывает его социологическую формулу, если посмотреть на них не (только) как на «топливо» для больших социальных машин (машина принуждения и машина массового образования), а как на элементы экзистенциальной ситуации человека. Каждый из них таковым, несомненно, является. Наследуемая высокая культура становится сверхценной жизненной атмосферой личности, создает укорененность в историческом опыте и ощущение связи поколений. Политическое единство связано с опытом интенсивного размежевания и предельной лояльности («руспублика – то, за что умирают»). Благодаря соединению того и другого шмиттовское различение «друзей» и «врагов» («политика») приобретает историческую и символическую глубину («культура»).
Если политическое единство (в форме суверенного государства, решающего вопросы мира и войны) максимально интенсивно, то культурное единство (в форме высокой национальной культуры, опосредующей узы этнической преемственности) максимально устойчиво.
Сочетание этих качеств не достигается автоматически, но в случае успеха дает уникальный социальный сплав, который и делает национализм тем, чем он является, уже не только в смысле его внешней социальной функции (унификация общества для нужд индустриализма), а в смысле его внутренней логики и мотивационной структуры (новая формула лояльности индивида сообществу).
В этом отношении, дихотомия «культурного» и «политического» национализма не столько специфицирует явление, сколько мешает понять и увидеть национализм как таковой. Т.е. выглядит как попытка искусственно изолировать друг от друга два элемента «формулы национализма» в пробирках школьных клише – вероятно, чтобы избежать той мощной цепной реакции, которая возникает при их соединении.
И здесь мы возвращаемся к тому, о чем шла речь в начале – к «исследовательским идеологиям» современного нациеведения. В случае теорий нации и национализма можно говорить о синдроме бегства исследователей от своего предмета.
Энтони Смит, говоря об «открытой враждебности» к национализму «со стороны большинства исследователей», отмечает любопытный нюанс:
“
…вне связи с политикой сама по себе этничность как «культурное различие» вызывает определенную симпатию; а, с другой стороны, отдельные исследователи с одобрением отзываются об исключительно гражданской форме национализма. Именно фатальное сочетание этничности и национализма как «этнонационализма»… вызывает самые серьезные опасения и осуждение. Но… именно это сочетание – будь оно молчаливым и «неявным», как кое-где на Западе, или открытым и взрывоопасным, как в Восточной Европе… – больше всего требует внимания ученых и их объяснения»
Точнее было бы сказать, что, под предлогом отрицания «этнического национализма», эта исследовательская идеология упускает из виду национализм как таковой, взаимно изолируя его составные части: культурную идентичность и гражданское достоинство, политическую лояльность и представление об общности судьбы.
Гражданский национализм и мультикультурализм
Еще более двусмысленной оказывается роль уже не исследовательской, а политической идеологии «гражданского национализма», в той ее разновидности, которая противопоставляет себя «этническому национализму». Будучи, казалось бы, попыткой отстоять современное государство перед лицом конфликта этнических лояльностей, эта идеология, по мере раскрытия своих предпосылок, достигает прямо противоположных результатов.
Стремясь вывести государство из зоны конфликта культурных идентичностей, она провозглашает его культурную нейтральность. И тем самым – разрушает нации в интересах донациональных форм этнической жизни.
Последние характерны именно тем, что в них еще не установились системообразующие взаимосвязи между государством и развитой национальной культурой (часто, за отсутствием таковой). Соответственно, «разделение» культуры и государства не затрагивает основ их жизнеспособности. Напротив, для современных наций связи между доминирующей культурой и государством являются несущей конструкцией, и без них как национальная культура, так и национальное государство неизбежно теряют себя.
Культура – поскольку перестает быть основой массовой социализации и однородной ценностной, символической средой (чтобы сохранять таковую, необходима государственная система образования, работающая на доминирующую культуру). Государство – поскольку теряет сильные основания лояльности (т.е. собственно «дух гражданственности», укорененный в национальном мифе) и необходимую для демократии ценностную и языковую однородность (как мы уже говорили, без «культуры» оно проигрывает свой «каждодневный плебисцит»).
Разумеется, столь серьезные трансформации не происходят сразу – сформированное национальное государство имеет мощную инерцию. Поэтому само по себе провозглашение культурной нейтральности государства еще не разрывает множественных связей между государством и доминирующей культурой. В основном, они продолжают действовать, но оказываются «вне закона».
В этом отношении концепция культурно нейтрального государства, как и вообще любая догматически-либеральная концепция нейтрального государства, является формой ложного сознания, скрывающей особенное (в данном случае, положение доминирующей этнокультурной группы) за фасадом всеобщего (универсальный правовой порядок). Можно предположить, что это происходит в фазе зрелого национального государства, в котором системы права и политики, управления и образования срослись с доминирующей культурой достаточно глубоко, чтобы эта связь могла быть вынесена за скобки.
В самом деле, одна из распространенных интерпретаций дихотомии «гражданского» и «этнического» национализма состоит в том, что она отражает не качественное, а стадиальное различие. Нации, обладающие «своим» состоявшимся государством, могут позволить себе делать акцент на гражданской идентичности.
Гражданский национализм и мультикультурализм
Еще более двусмысленной оказывается роль уже не исследовательской, а политической идеологии «гражданского национализма», в той ее разновидности, которая противопоставляет себя «этническому национализму». Будучи, казалось бы, попыткой отстоять современное государство перед лицом конфликта этнических лояльностей, эта идеология, по мере раскрытия своих предпосылок, достигает прямо противоположных результатов.
Стремясь вывести государство из зоны конфликта культурных идентичностей, она провозглашает его культурную нейтральность. И тем самым – разрушает нации в интересах донациональных форм этнической жизни.
Последние характерны именно тем, что в них еще не установились системообразующие взаимосвязи между государством и развитой национальной культурой (часто, за отсутствием таковой). Соответственно, «разделение» культуры и государства не затрагивает основ их жизнеспособности. Напротив, для современных наций связи между доминирующей культурой и государством являются несущей конструкцией, и без них как национальная культура, так и национальное государство неизбежно теряют себя.
Культура – поскольку перестает быть основой массовой социализации и однородной ценностной, символической средой (чтобы сохранять таковую, необходима государственная система образования, работающая на доминирующую культуру). Государство – поскольку теряет сильные основания лояльности (т.е. собственно «дух гражданственности», укорененный в национальном мифе) и необходимую для демократии ценностную и языковую однородность (как мы уже говорили, без «культуры» оно проигрывает свой «каждодневный плебисцит»).
Разумеется, столь серьезные трансформации не происходят сразу – сформированное национальное государство имеет мощную инерцию. Поэтому само по себе провозглашение культурной нейтральности государства еще не разрывает множественных связей между государством и доминирующей культурой. В основном, они продолжают действовать, но оказываются «вне закона».
В этом отношении концепция культурно нейтрального государства, как и вообще любая догматически-либеральная концепция нейтрального государства, является формой ложного сознания, скрывающей особенное (в данном случае, положение доминирующей этнокультурной группы) за фасадом всеобщего (универсальный правовой порядок). Можно предположить, что это происходит в фазе зрелого национального государства, в котором системы права и политики, управления и образования срослись с доминирующей культурой достаточно глубоко, чтобы эта связь могла быть вынесена за скобки.
В самом деле, одна из распространенных интерпретаций дихотомии «гражданского» и «этнического» национализма состоит в том, что она отражает не качественное, а стадиальное различие. Нации, обладающие «своим» состоявшимся государством, могут позволить себе делать акцент на гражданской идентичности.
Нации, не добившиеся этого статуса или находящиеся в процессе государственного строительства, опираются на этнокультурную идентичность. Гражданский национализм предстает в таком случае более зрелой, стабилизационной формой национализма, актуальной для состоявшихся национальных государств.
Это представление не лишено оснований, и с ним можно было бы согласиться, если бы сами нации можно было представить как достигнутое необратимое состояние.
Это представление не лишено оснований, и с ним можно было бы согласиться, если бы сами нации можно было представить как достигнутое необратимое состояние.
Между тем, как справедливо утверждает тот же Смит, они представляют собой «долгосрочные процессы, постоянно возобновляемые и реконструируемые» (о том же пишет Отто Данн: «Процесс образования наций никогда не приходит к окончательному завершению»). Это значит, что для наций не существует такой стадии зрелости, на которой они могли бы позволить себе, без риска распада, «выключить» гравитацию тех сил, которыми они созданы – гравитацию национализма, увязывающего культурные и политические формы социальной интеграции.
Поэтому, даже если принять взгляд на гражданский национализм (в той его форме, которая противопоставляет себя этническому измерению государства, – об иных возможностях речь пойдет ниже) как на игру зрелого государственного лицемерия, призванного скорее идеологически закамуфлировать, чем устранить связь государства с доминирующей культурой, для жизнеспособности нации эта игра может быть чревата нарушением механизмов самовоспроизводства.
Существует тонкая грань, когда идеология переходит в самообман. Социальная ложь – далеко не всегда «ложь во спасение».
Нация относится к числу самореферентных общностей, т.е. общностей, воспроизводящихся через знание о себе. И это знание должно быть по возможности адекватным. Та концепция национальной общности, которая основывается на акультурном понятии гражданства, этому требованию явно не соответствует. Нация может воспроизводить свое базовое свойство – синергию политической власти и культурной однородности – лишь вопреки, а не благодаря ей. Т.е., если национальное государство, вооруженное идеологией «культурного нейтралитета», все еще существует (в качестве национального), то лишь благодаря тому, что остается непоследовательным.
Устранению этой непоследовательности служат другие, более радикальные концепции под лейблом «мультикультурализма».
«Гражданский национализм» постулирует взаимную автономию между политической интеграцией и культурной. При этом, политическая культура и институциональная структура, которые он берет за основу и которым он действительно привержен, опираются на конкретную форму унаследованной культуры (или метакультурной общности европейской цивилизации) и на достигнутый в ходе национального строительства высокий уровень ценностной, поведенческой, языковой однородности.
В этом отношении гражданские националисты напоминают моральных философов Просвещения, которые, отвергая все традиционные основания морали, остаются, как отмечает Аласдер Макинтайр, «наследниками весьма специфической и конкретной схемы моральных вер», почерпнутой в той самой, лишенной авторитета традиции. Т.е. остаются, условно говоря, «добрыми протестантами» – и того же ждут от других. Они делают приглашение к моральной свободе, рассчитывая, что на деле никто не сможет или не захочет его принять.
Ровно то же можно сказать о приглашении к культурному многообразию, которое делает гражданский национализм. Оно сделано без расчета на то, что им воспользуются.
Мультикультурализм же, в некотором роде, означает решимость принять это опрометчиво сделанное приглашение, придав публичный статус «домашним» культурам меньшинств и поместив демократическое и правовое государство в культурно разнородную среду. Разнородную – в том числе, в отношении исповедуемых культурно-религиозными группами правовых и политических ценностей.
В результате, базовые предпосылки, которыми руководствовалась акультурная концепция гражданства, подвергаются инверсии. Вместо строгого индивидуализма и приоритета гражданских прав, вступают в силу коммунитаризм и права общин. Право меньшинств быть частью нации сменяется правом оставаться в стороне от нее. Демократическая арена «общей воли» подменяется механизмом выбивания групповых преференций.
В целом, результатом попыток более последовательного, чем прежде, отделения государства от доминирующей культуры становится не сообщество «универсальных граждан», которым грезили либералы, а конгломерат «милетов» наподобие тех, что существовали в Османской империи, на фоне атомизированного и деморализованного большинства. Происходит этнизация общественного сознания, не в смысле появления более интенсивной этнокультурной лояльности, а в смысле ее спуска на догосударственный и безгосударственный уровень, что, как мы уже говорили, представляет собой удар по современным, развитым нациям, привыкшим жить в «своем» государстве.
Нельзя сказать, что все это соответствует намерениям акультурного гражданского национализма, он стремился обеспечить нечто прямо противоположное – приоритет гражданской лояльности своему государству перед иными формами публичной лояльности. Контраст столь разителен, что практики и теории мультикультурализма можно было бы счесть злейшими антагонистами национализма этого рода. Но дело обстоит гораздо хуже – они выступают его деструкторами, поскольку все неприемлемые для него выводы извлекаются ими из его собственной базовой посылки – культурно нейтрального государства.
Разумеется, вызов «этнизмов» для современного государства существует объективно, а не только в силу принятых им ложных концепций. Но в этом вызове нет ничего нового, как нет ничего нового и в основном ответе на него. Современные нации создавались, в значительной степени, за счет ассимиляции. Разумеется, полная ассимиляция меньшинств в каждый данный момент времени невозможна. Но само поддержание этого процесса есть индикатор того, что двигатель национального государства работает исправно. Причем «эталонные» гражданские нации (Франция и США) обязаны самим своим существованием этому процессу в большей мере, чем многие другие.
В этой связи, диалектику идеи культурно нейтрального государства можно подытожить следующим образом.
Будучи изначально призвана облегчить ассимиляцию и сделать ее более приемлемой для меньшинств, по мере своей реализации, она делает ее невозможной и запускает обратный процесс – культурной фрагментации и диссоциации сообщества.
Это происходит в силу того, что культурно «нейтрализованное» публичное пространство обладает даже не нулевым, а отрицательным ассимиляционным потенциалом.
Гражданское сообщество, из которого, в силу эрозии республиканских добродетелей (опасность, о которой предупреждали многие видные республиканцы) или специальной вивисекции («политкорректная» цензура школьных программ, политической лексики, массового искусства и т.д.) изгнан собственный национальный миф, не вызывает желания стать его частью. Напротив, оно вызывает у меньшинств желание заполнить возникшую пустоту своей культурой и своими этническими / религиозными мифами. А у большинства – эскапизм в субкультуры и / или абсентеизм.
Охватывающие западную цивилизацию «фундаментализмы» и «этнизмы» меньшинств, представляют собой в гораздо большей степени реакцию на эту искусственную стерилизацию публичного пространства, нежели на присутствие в нем религиозных, историко-литературных, антропологических маркеров доминирующей культуры. Сильная, пусть и чужая для меньшинств национальная культура способна обеспечить их интеграцию и / или ассимиляцию в гораздо больше мере, чем пустота, возникающая на ее месте.
Другая типология
Поэтому, даже если принять взгляд на гражданский национализм (в той его форме, которая противопоставляет себя этническому измерению государства, – об иных возможностях речь пойдет ниже) как на игру зрелого государственного лицемерия, призванного скорее идеологически закамуфлировать, чем устранить связь государства с доминирующей культурой, для жизнеспособности нации эта игра может быть чревата нарушением механизмов самовоспроизводства.
Существует тонкая грань, когда идеология переходит в самообман. Социальная ложь – далеко не всегда «ложь во спасение».
Нация относится к числу самореферентных общностей, т.е. общностей, воспроизводящихся через знание о себе. И это знание должно быть по возможности адекватным. Та концепция национальной общности, которая основывается на акультурном понятии гражданства, этому требованию явно не соответствует. Нация может воспроизводить свое базовое свойство – синергию политической власти и культурной однородности – лишь вопреки, а не благодаря ей. Т.е., если национальное государство, вооруженное идеологией «культурного нейтралитета», все еще существует (в качестве национального), то лишь благодаря тому, что остается непоследовательным.
Устранению этой непоследовательности служат другие, более радикальные концепции под лейблом «мультикультурализма».
«Гражданский национализм» постулирует взаимную автономию между политической интеграцией и культурной. При этом, политическая культура и институциональная структура, которые он берет за основу и которым он действительно привержен, опираются на конкретную форму унаследованной культуры (или метакультурной общности европейской цивилизации) и на достигнутый в ходе национального строительства высокий уровень ценностной, поведенческой, языковой однородности.
В этом отношении гражданские националисты напоминают моральных философов Просвещения, которые, отвергая все традиционные основания морали, остаются, как отмечает Аласдер Макинтайр, «наследниками весьма специфической и конкретной схемы моральных вер», почерпнутой в той самой, лишенной авторитета традиции. Т.е. остаются, условно говоря, «добрыми протестантами» – и того же ждут от других. Они делают приглашение к моральной свободе, рассчитывая, что на деле никто не сможет или не захочет его принять.
Ровно то же можно сказать о приглашении к культурному многообразию, которое делает гражданский национализм. Оно сделано без расчета на то, что им воспользуются.
Мультикультурализм же, в некотором роде, означает решимость принять это опрометчиво сделанное приглашение, придав публичный статус «домашним» культурам меньшинств и поместив демократическое и правовое государство в культурно разнородную среду. Разнородную – в том числе, в отношении исповедуемых культурно-религиозными группами правовых и политических ценностей.
В результате, базовые предпосылки, которыми руководствовалась акультурная концепция гражданства, подвергаются инверсии. Вместо строгого индивидуализма и приоритета гражданских прав, вступают в силу коммунитаризм и права общин. Право меньшинств быть частью нации сменяется правом оставаться в стороне от нее. Демократическая арена «общей воли» подменяется механизмом выбивания групповых преференций.
В целом, результатом попыток более последовательного, чем прежде, отделения государства от доминирующей культуры становится не сообщество «универсальных граждан», которым грезили либералы, а конгломерат «милетов» наподобие тех, что существовали в Османской империи, на фоне атомизированного и деморализованного большинства. Происходит этнизация общественного сознания, не в смысле появления более интенсивной этнокультурной лояльности, а в смысле ее спуска на догосударственный и безгосударственный уровень, что, как мы уже говорили, представляет собой удар по современным, развитым нациям, привыкшим жить в «своем» государстве.
Нельзя сказать, что все это соответствует намерениям акультурного гражданского национализма, он стремился обеспечить нечто прямо противоположное – приоритет гражданской лояльности своему государству перед иными формами публичной лояльности. Контраст столь разителен, что практики и теории мультикультурализма можно было бы счесть злейшими антагонистами национализма этого рода. Но дело обстоит гораздо хуже – они выступают его деструкторами, поскольку все неприемлемые для него выводы извлекаются ими из его собственной базовой посылки – культурно нейтрального государства.
Разумеется, вызов «этнизмов» для современного государства существует объективно, а не только в силу принятых им ложных концепций. Но в этом вызове нет ничего нового, как нет ничего нового и в основном ответе на него. Современные нации создавались, в значительной степени, за счет ассимиляции. Разумеется, полная ассимиляция меньшинств в каждый данный момент времени невозможна. Но само поддержание этого процесса есть индикатор того, что двигатель национального государства работает исправно. Причем «эталонные» гражданские нации (Франция и США) обязаны самим своим существованием этому процессу в большей мере, чем многие другие.
В этой связи, диалектику идеи культурно нейтрального государства можно подытожить следующим образом.
Будучи изначально призвана облегчить ассимиляцию и сделать ее более приемлемой для меньшинств, по мере своей реализации, она делает ее невозможной и запускает обратный процесс – культурной фрагментации и диссоциации сообщества.
Это происходит в силу того, что культурно «нейтрализованное» публичное пространство обладает даже не нулевым, а отрицательным ассимиляционным потенциалом.
Гражданское сообщество, из которого, в силу эрозии республиканских добродетелей (опасность, о которой предупреждали многие видные республиканцы) или специальной вивисекции («политкорректная» цензура школьных программ, политической лексики, массового искусства и т.д.) изгнан собственный национальный миф, не вызывает желания стать его частью. Напротив, оно вызывает у меньшинств желание заполнить возникшую пустоту своей культурой и своими этническими / религиозными мифами. А у большинства – эскапизм в субкультуры и / или абсентеизм.
Охватывающие западную цивилизацию «фундаментализмы» и «этнизмы» меньшинств, представляют собой в гораздо большей степени реакцию на эту искусственную стерилизацию публичного пространства, нежели на присутствие в нем религиозных, историко-литературных, антропологических маркеров доминирующей культуры. Сильная, пусть и чужая для меньшинств национальная культура способна обеспечить их интеграцию и / или ассимиляцию в гораздо больше мере, чем пустота, возникающая на ее месте.
Другая типология
Гражданская нация vs. сословная
Это верно также и потому, что каждая из высоких культур мирового уровня, с которыми связаны крупные современные нации, обладает потенциалом всеобщности, который, отметим, не может быть от нее абстрагирован (язык, открывающий доступ к цивилизационно значимым текстам разных эпох и культур; художественное наследие, гипнотически навязывающее определенные способы переживания мира и создающее референтные человеческие типы; исторический опыт, интегрированный или, точнее успешно интегрирующий себя во «всемирно-исторический нарратив», и так далее).
Гражданский национализм, несомненно, способен активизировать этот потенциал. Не случайно наибольшую ассимиляционную силу французская культура приобрела на волне революционной идеологии и революционных событий.
Однако антитезой гражданской нации революционной эпохи никогда не была этнокультурная общность как таковая. Ею было – сословное общество, разделенное по вертикали и по горизонтали множеством самых разных партикуляризмов. Правовая и культурная унификация этой феодальной «цветущей сложности» шли рука об руку, и логическим нонсенсом было бы противопоставлять их друг другу. Между тем, именно это проделывают исследователи-идеологи, образующие вокруг этих принципов две якобы противостоящие друг другу формы национализма.
Весьма странно с их стороны не замечать того простого политико-семантического факта, что корректным контрпонятием к гражданственности выступает не этничность, а сословность.
Вокруг этой более точной оппозиции строит свою типологию Отто Данн, в «Истории нации и национализма в Германии»: «В старых европейских государствах можно выделить два этапа становления нации как политического образования, а вместе с тем и две основные формы нации: сословную и современную гражданскую нацию».
Под сословной нацией подразумевается система представительства и исключительных прав господствующих сословий (так, в Речи Посполитой или германских княжествах «нация» – это именно «дворянская нация»). В противовес этому привилегированному патриотизму, «на протяжении XVIII века появилась новая концепция патриотизма, возникшая среди тех групп населения, которые не пользовались привилегиями, но в то же время считали себя частью нации: это была новая экономическая буржуазия, чиновничество, но прежде всего интеллигенция». Проповедуемая ими нация подразумевает новую форму членства – индивидуального, прямого, а не через сословия или иные подгруппы. И новую форму лояльности, за образец которой был взят «патриотизм городов-республик древнего мира» (35), вопреки феодальной этике, для которой защита отечества оставалась формой защиты коллективной земельной собственности (и, соответственно, была прерогативой лишь тех, кто имеет в ней традиционную законную долю, т.е. феодалов).
Эта новая форма лояльности заметно увеличивала мобилизационный потенциал старых государств, но была воспринята их верхушкой как протореволюционное посягательство. Хобсбаум, рассуждая о новизне национализма, упоминает о негодовании Фридриха Великого по поводу намерения жителей Берлина участвовать в защите города от русских войск и приводит характерную фразу другого монарха о новоявленных патриотах: «сегодня они защищают отечество за меня, а завтра – против меня».
Эта фраза как нельзя лучше выражает те условия, при которых этническое чувство, обостренное совместной борьбой против «чужаков», становится платформой для гражданского чувства, нетерпимого уже не только к посягательствам извне, но и к внутренней узурпации.
О другой стороне этой взаимосвязи уже шла речь выше, когда мы говорили о том, что именно культурно-лингвистическое понятие нации стало оружием «новых образованных слоев» перед лицом аристократии германских княжеств. И этот конфликт был не только конфликтом двух принципов лояльности (принадлежность к трансграничной «культурной нации» против «международно признанной» таксономии ленных прав), но конфликтом двух концепций личностного достоинства. Принадлежность к культуре и ее наследование стали для незнатных образованных горожан своего рода субститутом дворянства. Т.е., потенциально, формой всеобщего дворянства, каковой и является, в своей идее, гражданская общность.
Таким образом, обретенное благодаря выдающимся представителям национальной интеллигенции (создателям литературной версии национального языка, собирателям национального эпоса, авторам знаковых литературных текстов) культурное самосознание становится основой для индивидуального гражданского достоинства.
Понимание того, что гражданская нация утверждается как отрицание сословного порядка и выполняет эту роль не вопреки своему этническому качеству, а благодаря ему, позволяет поставить это понятие на адекватное ему место – исторически, теоретически, идеологически.
«Гражданская нация» – это измерение современной нации как таковой, которое ответственно за определение индивидуального статуса ее членов. В нем закрепляется все то, что подразумевает гражданство: прямое членство, соучастие в суверенитете, равные базовые права.
Противоречит ли этот высокий индивидуальный статус критериям этнической общности?
Если и противоречит, то лишь ее архаическим формам, в которых сильно выражены родоплеменные структуры (индивид принадлежит к этносу не напрямую, а через соответствующее «подразделение»), иерархии «родовидости» (создающие «ранговые» различия между людьми), локальные различия (усугубляющие внутренние границы). И, напротив, отсутствует или недостаточно сильна самостоятельно развитая письменная культура, которая позволила бы нивелировать эти различия и подготовить почву для современной правовой и политической культуры.
Однако нет никаких оснований для того, чтобы отождествлять этническую общность как таковую с ее архаическими формами.
Несомненно, те масштабные трансформации, которые вызывают к жизни гражданскую общность, качественно меняют и природу этничности. Решающую роль в этнической интеграции начинают играть
- высокая письменная культура вместо устной и бытовой,
- преимущественно городская культура вместо сельской,
- историография, т.е. научная историческая мифология вместо мифологии в собственном смысле слова,
- средства массовой информации вместо «глашатаев» и «сказителей»,
- формальное, институционально опосредованное образование вместо ситуативного обучения в лоне семьи и общины,
- и так далее.
Общества в результате этих и им подобных трансформаций становятся менее «этнографическими», но отнюдь не менее «этническими». «Отформатированная» матрицами модерна культура не теряет ни потенциала поддержания межпоколенческих связей, ни функции по различению «своих» и «чужих», ни способности конденсировать коллективный исторический опыт и опосредовать в символах групповую идентичность. Напротив, все эти свойства, решающие с точки зрения этнической интеграции, закрепляются и приобретают новое значение, становясь, с пришествием «века национализма», делом государственной важности.
Этническая общность, способная воспроизводить себя в формах и институтах современного общества, может быть названа национальной.
Уместно ли говорить об этничности применительно к современным нациям (т.е. использовать это понятие как родовое для разных стадиальных форм – как современных, так и досовременных) – вопрос скорее терминологический. На мой взгляд, правы те, кто решает его положительно, поскольку нужны термины для различения разных аспектов национальной общности. Но если он решается отрицательно, то это не должно быть скрытой формой табуирования самого предмета. Т.е. игнорирования современных форм этнокультурной общности. Если же, для того, чтобы подчеркнуть пороговое отличие этих форм от «архаических», мы делаем категорию «национального» их единственным обозначением, то у нас будет тем меньше оснований для сведения национального к территориально-государственному и противопоставления политической и культурной сторон национального единства.
Таким образом, современные формы этнокультурной интеграции (на основе высокой письменной культуры и массового образования) можно называть этническими или нет, но если они признаются в своей качественной специфике, а не табуируются по соображениям идеологической цензуры, то их противопоставление гражданскому статусу является абсолютным нонсенсом.
Как этническая принадлежность в ее современной форме, так и гражданская принадлежность подразумевают: прямое членство в общности и связанное с ним равенство «членского статуса», идентификацию с эталонными символами групповой идентичности, социализацию на основе формальных, специализированных институтов. Т.е. эти два вида общности вполне однотипны. С практической точки зрения, особенно важно то, что они однотипно воспроизводятся: как гражданская, так и этническая и этническая идентичности усваиваются / закрепляются в современном обществе через систему образования, ритуалы коллективной памяти, массовую культуру.
Гражданский национализм, несомненно, способен активизировать этот потенциал. Не случайно наибольшую ассимиляционную силу французская культура приобрела на волне революционной идеологии и революционных событий.
Однако антитезой гражданской нации революционной эпохи никогда не была этнокультурная общность как таковая. Ею было – сословное общество, разделенное по вертикали и по горизонтали множеством самых разных партикуляризмов. Правовая и культурная унификация этой феодальной «цветущей сложности» шли рука об руку, и логическим нонсенсом было бы противопоставлять их друг другу. Между тем, именно это проделывают исследователи-идеологи, образующие вокруг этих принципов две якобы противостоящие друг другу формы национализма.
Весьма странно с их стороны не замечать того простого политико-семантического факта, что корректным контрпонятием к гражданственности выступает не этничность, а сословность.
Вокруг этой более точной оппозиции строит свою типологию Отто Данн, в «Истории нации и национализма в Германии»: «В старых европейских государствах можно выделить два этапа становления нации как политического образования, а вместе с тем и две основные формы нации: сословную и современную гражданскую нацию».
Под сословной нацией подразумевается система представительства и исключительных прав господствующих сословий (так, в Речи Посполитой или германских княжествах «нация» – это именно «дворянская нация»). В противовес этому привилегированному патриотизму, «на протяжении XVIII века появилась новая концепция патриотизма, возникшая среди тех групп населения, которые не пользовались привилегиями, но в то же время считали себя частью нации: это была новая экономическая буржуазия, чиновничество, но прежде всего интеллигенция». Проповедуемая ими нация подразумевает новую форму членства – индивидуального, прямого, а не через сословия или иные подгруппы. И новую форму лояльности, за образец которой был взят «патриотизм городов-республик древнего мира» (35), вопреки феодальной этике, для которой защита отечества оставалась формой защиты коллективной земельной собственности (и, соответственно, была прерогативой лишь тех, кто имеет в ней традиционную законную долю, т.е. феодалов).
Эта новая форма лояльности заметно увеличивала мобилизационный потенциал старых государств, но была воспринята их верхушкой как протореволюционное посягательство. Хобсбаум, рассуждая о новизне национализма, упоминает о негодовании Фридриха Великого по поводу намерения жителей Берлина участвовать в защите города от русских войск и приводит характерную фразу другого монарха о новоявленных патриотах: «сегодня они защищают отечество за меня, а завтра – против меня».
Эта фраза как нельзя лучше выражает те условия, при которых этническое чувство, обостренное совместной борьбой против «чужаков», становится платформой для гражданского чувства, нетерпимого уже не только к посягательствам извне, но и к внутренней узурпации.
О другой стороне этой взаимосвязи уже шла речь выше, когда мы говорили о том, что именно культурно-лингвистическое понятие нации стало оружием «новых образованных слоев» перед лицом аристократии германских княжеств. И этот конфликт был не только конфликтом двух принципов лояльности (принадлежность к трансграничной «культурной нации» против «международно признанной» таксономии ленных прав), но конфликтом двух концепций личностного достоинства. Принадлежность к культуре и ее наследование стали для незнатных образованных горожан своего рода субститутом дворянства. Т.е., потенциально, формой всеобщего дворянства, каковой и является, в своей идее, гражданская общность.
Таким образом, обретенное благодаря выдающимся представителям национальной интеллигенции (создателям литературной версии национального языка, собирателям национального эпоса, авторам знаковых литературных текстов) культурное самосознание становится основой для индивидуального гражданского достоинства.
Понимание того, что гражданская нация утверждается как отрицание сословного порядка и выполняет эту роль не вопреки своему этническому качеству, а благодаря ему, позволяет поставить это понятие на адекватное ему место – исторически, теоретически, идеологически.
«Гражданская нация» – это измерение современной нации как таковой, которое ответственно за определение индивидуального статуса ее членов. В нем закрепляется все то, что подразумевает гражданство: прямое членство, соучастие в суверенитете, равные базовые права.
Противоречит ли этот высокий индивидуальный статус критериям этнической общности?
Если и противоречит, то лишь ее архаическим формам, в которых сильно выражены родоплеменные структуры (индивид принадлежит к этносу не напрямую, а через соответствующее «подразделение»), иерархии «родовидости» (создающие «ранговые» различия между людьми), локальные различия (усугубляющие внутренние границы). И, напротив, отсутствует или недостаточно сильна самостоятельно развитая письменная культура, которая позволила бы нивелировать эти различия и подготовить почву для современной правовой и политической культуры.
Однако нет никаких оснований для того, чтобы отождествлять этническую общность как таковую с ее архаическими формами.
Несомненно, те масштабные трансформации, которые вызывают к жизни гражданскую общность, качественно меняют и природу этничности. Решающую роль в этнической интеграции начинают играть
- высокая письменная культура вместо устной и бытовой,
- преимущественно городская культура вместо сельской,
- историография, т.е. научная историческая мифология вместо мифологии в собственном смысле слова,
- средства массовой информации вместо «глашатаев» и «сказителей»,
- формальное, институционально опосредованное образование вместо ситуативного обучения в лоне семьи и общины,
- и так далее.
Общества в результате этих и им подобных трансформаций становятся менее «этнографическими», но отнюдь не менее «этническими». «Отформатированная» матрицами модерна культура не теряет ни потенциала поддержания межпоколенческих связей, ни функции по различению «своих» и «чужих», ни способности конденсировать коллективный исторический опыт и опосредовать в символах групповую идентичность. Напротив, все эти свойства, решающие с точки зрения этнической интеграции, закрепляются и приобретают новое значение, становясь, с пришествием «века национализма», делом государственной важности.
Этническая общность, способная воспроизводить себя в формах и институтах современного общества, может быть названа национальной.
Уместно ли говорить об этничности применительно к современным нациям (т.е. использовать это понятие как родовое для разных стадиальных форм – как современных, так и досовременных) – вопрос скорее терминологический. На мой взгляд, правы те, кто решает его положительно, поскольку нужны термины для различения разных аспектов национальной общности. Но если он решается отрицательно, то это не должно быть скрытой формой табуирования самого предмета. Т.е. игнорирования современных форм этнокультурной общности. Если же, для того, чтобы подчеркнуть пороговое отличие этих форм от «архаических», мы делаем категорию «национального» их единственным обозначением, то у нас будет тем меньше оснований для сведения национального к территориально-государственному и противопоставления политической и культурной сторон национального единства.
Таким образом, современные формы этнокультурной интеграции (на основе высокой письменной культуры и массового образования) можно называть этническими или нет, но если они признаются в своей качественной специфике, а не табуируются по соображениям идеологической цензуры, то их противопоставление гражданскому статусу является абсолютным нонсенсом.
Как этническая принадлежность в ее современной форме, так и гражданская принадлежность подразумевают: прямое членство в общности и связанное с ним равенство «членского статуса», идентификацию с эталонными символами групповой идентичности, социализацию на основе формальных, специализированных институтов. Т.е. эти два вида общности вполне однотипны. С практической точки зрения, особенно важно то, что они однотипно воспроизводятся: как гражданская, так и этническая и этническая идентичности усваиваются / закрепляются в современном обществе через систему образования, ритуалы коллективной памяти, массовую культуру.
Этническая нация vs. территориальная
Однако повод для напряжения все же существует: они могут не совпадать по своим границам.
Гражданский статус реализуется в государстве и только в нем. А границы государства могут не совпадать и, как правило, полностью не совпадают с культурно определяемыми этническими границами.
Это дает почву для конфликта разных идеологий лояльности, одна из которых жестко привержена границам существующего государства, вне зависимости от их культурного наполнения, другая стремится к их совпадению с этническими границами.
Безусловно, реализация этого стремления на практике бывает сопряжена с немалыми трудностями и создает явное напряжение – между этнической «субстанцией» государства и формальной конфигурацией его границ. «Принцип национальности» врывается в европейскую историю как сокрушительный вызов статус-кво.
«Национальный принцип… представлял собой решительную угрозу европейской государственной системе и обнаруживал постоянное стремление подорвать баланс сил, на которых эта система покоится», – пишет Эли Кедури, имея в виду цепную реакцию перекройки границ на европейском континенте. И с этим можно согласиться, с одним существенным дополнением: ровно то же самое, только уже применительно ко внутреннему балансу сил в государстве, можно сказать и о гражданских ценностях. Ведь формой их реализации были, в числе прочего, – революции, бунты, кампании гражданского неповиновения, забастовки и так далее.
Т.е. национализм в этом плане играет ту же роль в конструкции современных государств, что и революция: он представляет собой одновременно угрозу системе и ее порождающий принцип.
И эту аналогию можно продолжить: современные государства рождаются революцией и чтут ее как момент своего рождения, но в основном не стремятся к ее повторению. Если она и продолжается, то в виде относительно рутинной борьбы за соблюдение гражданских прав. Точно так же, признание основополагающей взаимосвязи культурной и политической общности не означает перманентной перекройки границ. Этот принцип допускает и сугубо мирные формы реализации: в политике предоставления гражданства (на основе происхождения и культурной лояльности), государственной поддержке диаспоры, образовательных приоритетах и так далее.
Словом, для утверждений о том, что следование «принципу национальности» означает перманентную войну, ничуть не больше оснований, чем для утверждения, что следование принципам гражданственности означает перманентную революцию.
Еще меньше оснований считать, что этот вполне реальный в определенных обстоятельствах конфликт между этническими притязаниями и территориальным статус-кво является конфликтом «гражданского» и «этнического» национализма. Такое истолкование популярно, особенно в российском обиходе, но не корректно.
Дело в том, что идеология территориального статус-кво (приверженность границам государства, вне зависимости от их культурного наполнения) может не иметь никакого отношения к собственно гражданской форме политии и выступать на страже сословных, династических, деспотических, каких угодно еще порядков.
И напротив, этнический национализм как таковой может быть связан с ценностями гражданской эмансипации, о чем уже было много сказано.
Характерно, например, что некоторые апологеты российского «гражданского национализма», критикуя русский «этнический национализм», инкриминируют ему не что иное, как приверженность «западному» дискурсу политических прав и «революционность». Т.е. те самые качества, которые были определяющими для современной гражданской нации при ее размежевании со «старым порядком» аграрно-сословных обществ.
Наиболее явно этот парадокс воплощает С.Г. Кара-Мурза, сочетая ревностную апологию «гражданского национализма» (в противовес этническому) с традиционалистской критикой западной модели «гражданского общества» (точнее, попыток ее насаждения в России). В том же ряду, с некоторыми оговорками, можно упомянуть А.Г. Дугина (оговорки касаются того, что российский гражданский национализм кажется ему не столь привлекательным, как евразийский федерализм, но все же вполне приемлемым в качестве альтернативы русскому этническому национализму).
Конечно же, сочетание декларированного «гражданского национализма» с традиционализмом, политическим антимодернизмом выглядит несуразно. Но эта несуразность – не столько дефект позиции, сколько дефект лексики, связанный с тем, что понятие гражданской нации как совокупности граждан данного конкретного государства (вне зависимости от его состояния и устройства) может не совпадать с понятием гражданской нации как качественного, стадиального состояния национальной общности, основанного на равенстве прав и демократизации суверенитета.
Оба понятия имеют право на существование, но их должны выражать разные термины. Например, Энтони Смит использует для обозначения первого понятия термин «территориальная нация». Думаю, в сегодняшних дискуссиях о национализме в России это стоит учитывать.
В частности, следует сопоставлять проекты «русской» и «российской» нации не как, соответственно, «этнической» и «гражданской», а как «этнической» и «территориальной».
Что дает это переименование? По меньшей мере, возможность быть честными. Оно устраняет почву для ложной монополии на выражение гражданских ценностей, на культуру гражданского национализма, приписываемую одной из концепций.
Если, согласно Б.Яку, миф гражданской нации состоит в «самовосхвалении» западных демократий и «принятии желаемого за действительное», то мифом гражданской нации по-российски можно считать как раз молчаливую подмену гражданской идентичности территориальной.
Это имеет дурные следствия как для гражданского, так и, если можно так выразиться, территориального самосознания нации. С одной стороны, акцент переносится с ценностного измерения гражданства на гражданство как административно-учетную категорию. Становится несущественной разница между «гражданином» и «крепостным», приписанным к определенной юрисдикции. С другой стороны, мы лишаем себя возможности даже гипотетически ставить вопрос о соответствии юридических и исторических границ.
Иными словами, в этой подмене нация сводится к населению, не властному над тем, что оно населяет. Население, если вдуматься, – это придаток управленческих аппаратов. Не потому ли проект гражданской нации в России так часто выглядит бюрократическим, а не гражданским проектом?
Сама тема формирования «гражданской нации россиян» возникает в нашей новейшей истории не в контексте требований граждан к бюрократии, а в контексте требований бюрократии к гражданам: как попытка постсоветской номенклатуры обеспечить себе лояльность «подведомственного» населения в рамках тех границ, которые достались ей при разделе советского наследства.
Примерно то же самое можно сказать и о более ранних попытках определить народ через название государства, а не через его основной этноним (который собственно и дал название этому государству).
«Ни одно производное от официального «Россия», – отмечает Эрнст Хобсбаум – а в XVIII веке подобные слова изобретались неоднократно – так и не сумело закрепиться в качестве определения русского народа и его представителей». Можно предположить, что с самого начала «российская» идентичность – как альтернатива «русской» – выражала взгляд на народ сверху, а не взгляд народа на самого себя. Ее принятие – это акт лояльности по отношению к территориальной оформленной системе власти, а не акт самоучредительного действия народа.
Иными словами, выбор между «российским» и «русским» самоопределением нации – это не филологический вопрос. Это вопрос о том, кто кому принадлежит: народ государству или государство народу.
Думаю, нет нужды пояснять, какой из вариантов более созвучен гражданской модели.
В этом смысле на той исторической оси, о которой шла речь выше, – «сословная нация» vs. «гражданская нация» – официозная концепция российской нации больше тяготеет к «сословному» полюсу. Она способствует обособлению государственного аппарата как касты «держателей» государства и выступает сегодня своего рода клиентелистской идеей: «российская нация» как артефакт номенклатурного раздела СССР есть расширенная клиентела российской бюрократии.
Напротив, социальный профиль русского этнического национализма в наши дни является по преимуществу не бюрократическим, а гражданским. Его питательная среда — городской образованный класс, он требует лояльности не от нации по отношению к бюрократии, а от бюрократии по отношению к нации.
Разумеется, пока это всего лишь потенциал – потенциал формирования русской гражданской культуры на базе русской культуры как таковой, на базе русской этнической идентичности. Будет этот потенциал реализован или нет, зависит не в последнюю очередь от того, удастся ли самим националистам отучиться от привычки мыслить этническое в противовес гражданскому.
Гражданский статус реализуется в государстве и только в нем. А границы государства могут не совпадать и, как правило, полностью не совпадают с культурно определяемыми этническими границами.
Это дает почву для конфликта разных идеологий лояльности, одна из которых жестко привержена границам существующего государства, вне зависимости от их культурного наполнения, другая стремится к их совпадению с этническими границами.
Безусловно, реализация этого стремления на практике бывает сопряжена с немалыми трудностями и создает явное напряжение – между этнической «субстанцией» государства и формальной конфигурацией его границ. «Принцип национальности» врывается в европейскую историю как сокрушительный вызов статус-кво.
«Национальный принцип… представлял собой решительную угрозу европейской государственной системе и обнаруживал постоянное стремление подорвать баланс сил, на которых эта система покоится», – пишет Эли Кедури, имея в виду цепную реакцию перекройки границ на европейском континенте. И с этим можно согласиться, с одним существенным дополнением: ровно то же самое, только уже применительно ко внутреннему балансу сил в государстве, можно сказать и о гражданских ценностях. Ведь формой их реализации были, в числе прочего, – революции, бунты, кампании гражданского неповиновения, забастовки и так далее.
Т.е. национализм в этом плане играет ту же роль в конструкции современных государств, что и революция: он представляет собой одновременно угрозу системе и ее порождающий принцип.
И эту аналогию можно продолжить: современные государства рождаются революцией и чтут ее как момент своего рождения, но в основном не стремятся к ее повторению. Если она и продолжается, то в виде относительно рутинной борьбы за соблюдение гражданских прав. Точно так же, признание основополагающей взаимосвязи культурной и политической общности не означает перманентной перекройки границ. Этот принцип допускает и сугубо мирные формы реализации: в политике предоставления гражданства (на основе происхождения и культурной лояльности), государственной поддержке диаспоры, образовательных приоритетах и так далее.
Словом, для утверждений о том, что следование «принципу национальности» означает перманентную войну, ничуть не больше оснований, чем для утверждения, что следование принципам гражданственности означает перманентную революцию.
Еще меньше оснований считать, что этот вполне реальный в определенных обстоятельствах конфликт между этническими притязаниями и территориальным статус-кво является конфликтом «гражданского» и «этнического» национализма. Такое истолкование популярно, особенно в российском обиходе, но не корректно.
Дело в том, что идеология территориального статус-кво (приверженность границам государства, вне зависимости от их культурного наполнения) может не иметь никакого отношения к собственно гражданской форме политии и выступать на страже сословных, династических, деспотических, каких угодно еще порядков.
И напротив, этнический национализм как таковой может быть связан с ценностями гражданской эмансипации, о чем уже было много сказано.
Характерно, например, что некоторые апологеты российского «гражданского национализма», критикуя русский «этнический национализм», инкриминируют ему не что иное, как приверженность «западному» дискурсу политических прав и «революционность». Т.е. те самые качества, которые были определяющими для современной гражданской нации при ее размежевании со «старым порядком» аграрно-сословных обществ.
Наиболее явно этот парадокс воплощает С.Г. Кара-Мурза, сочетая ревностную апологию «гражданского национализма» (в противовес этническому) с традиционалистской критикой западной модели «гражданского общества» (точнее, попыток ее насаждения в России). В том же ряду, с некоторыми оговорками, можно упомянуть А.Г. Дугина (оговорки касаются того, что российский гражданский национализм кажется ему не столь привлекательным, как евразийский федерализм, но все же вполне приемлемым в качестве альтернативы русскому этническому национализму).
Конечно же, сочетание декларированного «гражданского национализма» с традиционализмом, политическим антимодернизмом выглядит несуразно. Но эта несуразность – не столько дефект позиции, сколько дефект лексики, связанный с тем, что понятие гражданской нации как совокупности граждан данного конкретного государства (вне зависимости от его состояния и устройства) может не совпадать с понятием гражданской нации как качественного, стадиального состояния национальной общности, основанного на равенстве прав и демократизации суверенитета.
Оба понятия имеют право на существование, но их должны выражать разные термины. Например, Энтони Смит использует для обозначения первого понятия термин «территориальная нация». Думаю, в сегодняшних дискуссиях о национализме в России это стоит учитывать.
В частности, следует сопоставлять проекты «русской» и «российской» нации не как, соответственно, «этнической» и «гражданской», а как «этнической» и «территориальной».
Что дает это переименование? По меньшей мере, возможность быть честными. Оно устраняет почву для ложной монополии на выражение гражданских ценностей, на культуру гражданского национализма, приписываемую одной из концепций.
Если, согласно Б.Яку, миф гражданской нации состоит в «самовосхвалении» западных демократий и «принятии желаемого за действительное», то мифом гражданской нации по-российски можно считать как раз молчаливую подмену гражданской идентичности территориальной.
Это имеет дурные следствия как для гражданского, так и, если можно так выразиться, территориального самосознания нации. С одной стороны, акцент переносится с ценностного измерения гражданства на гражданство как административно-учетную категорию. Становится несущественной разница между «гражданином» и «крепостным», приписанным к определенной юрисдикции. С другой стороны, мы лишаем себя возможности даже гипотетически ставить вопрос о соответствии юридических и исторических границ.
Иными словами, в этой подмене нация сводится к населению, не властному над тем, что оно населяет. Население, если вдуматься, – это придаток управленческих аппаратов. Не потому ли проект гражданской нации в России так часто выглядит бюрократическим, а не гражданским проектом?
Сама тема формирования «гражданской нации россиян» возникает в нашей новейшей истории не в контексте требований граждан к бюрократии, а в контексте требований бюрократии к гражданам: как попытка постсоветской номенклатуры обеспечить себе лояльность «подведомственного» населения в рамках тех границ, которые достались ей при разделе советского наследства.
Примерно то же самое можно сказать и о более ранних попытках определить народ через название государства, а не через его основной этноним (который собственно и дал название этому государству).
«Ни одно производное от официального «Россия», – отмечает Эрнст Хобсбаум – а в XVIII веке подобные слова изобретались неоднократно – так и не сумело закрепиться в качестве определения русского народа и его представителей». Можно предположить, что с самого начала «российская» идентичность – как альтернатива «русской» – выражала взгляд на народ сверху, а не взгляд народа на самого себя. Ее принятие – это акт лояльности по отношению к территориальной оформленной системе власти, а не акт самоучредительного действия народа.
Иными словами, выбор между «российским» и «русским» самоопределением нации – это не филологический вопрос. Это вопрос о том, кто кому принадлежит: народ государству или государство народу.
Думаю, нет нужды пояснять, какой из вариантов более созвучен гражданской модели.
В этом смысле на той исторической оси, о которой шла речь выше, – «сословная нация» vs. «гражданская нация» – официозная концепция российской нации больше тяготеет к «сословному» полюсу. Она способствует обособлению государственного аппарата как касты «держателей» государства и выступает сегодня своего рода клиентелистской идеей: «российская нация» как артефакт номенклатурного раздела СССР есть расширенная клиентела российской бюрократии.
Напротив, социальный профиль русского этнического национализма в наши дни является по преимуществу не бюрократическим, а гражданским. Его питательная среда — городской образованный класс, он требует лояльности не от нации по отношению к бюрократии, а от бюрократии по отношению к нации.
Разумеется, пока это всего лишь потенциал – потенциал формирования русской гражданской культуры на базе русской культуры как таковой, на базе русской этнической идентичности. Будет этот потенциал реализован или нет, зависит не в последнюю очередь от того, удастся ли самим националистам отучиться от привычки мыслить этническое в противовес гражданскому.
Опубликовано в журнале «Вопросы национализма», 15 мая 2012 года
