Битва фантомов
Начну с очевидного. Путину удалось выиграть кампанию. Не сами выборы, а именно кампанию, то есть – иметь преимущество в инициативе, контролировать повестку дня. Не последнюю роль в этом сыграла небывалая публицистическая активность политика. Хотя его статьи и казались взыскательным читателям слишком абстрактными или, напротив, погрязшими в частностях, слишком популистскими или скупыми на обещания, переусложненными или примитивными и, конечно же, неизменно запоздалыми, важен сам факт того, что все минувшие недели в информационно активных средах обсуждалось то, что говорил Путин и как говорил Путин.
Это заметно отличает президентскую кампанию от парламентской, когда первым номером играла оппозиция, а затем улица.
Сегодня «улицы», как минимум, две. И даже если одна из них, по мнению многих, «не настоящая», определенный эффект встречной мобилизацией сторонников (или лучше сказать «поклонников») Путина достигнут: противостояние переведено из острой фазы в позиционную, что допускает и даже предполагает возможность компромисса.
Определенным компромиссом можно считать сам факт того, что ни одна из сторон не готова эффективно монополизировать понятие «народа». Никто всерьез не разыгрывает сценарий «народ против тирана» или, соответственно, «национальный лидер против изменников» – т.е. сценарий который заканчивался бы реальной или символической казнью проигравшей стороны.
Вместо этого стороны явочным порядком поделили между собой «народ». Одним, как известно, досталась «большая» его часть, другим – «лучшая».
Причем поделили пока – к обоюдному удовольствию. Уличная оппозиция негласно признает за властью право представлять «социально зависимое», «патерналистское», в общем, «оффлайновое», большинство. А большинство, каково бы оно ни было, – это электоральная легитимность. Власть же скрепя сердце соглашается видеть в «лицах Болотной» представителей «прогрессивных слоев», что сулит им привилегированное положение в политической системе.
Это заметно отличает президентскую кампанию от парламентской, когда первым номером играла оппозиция, а затем улица.
Сегодня «улицы», как минимум, две. И даже если одна из них, по мнению многих, «не настоящая», определенный эффект встречной мобилизацией сторонников (или лучше сказать «поклонников») Путина достигнут: противостояние переведено из острой фазы в позиционную, что допускает и даже предполагает возможность компромисса.
Определенным компромиссом можно считать сам факт того, что ни одна из сторон не готова эффективно монополизировать понятие «народа». Никто всерьез не разыгрывает сценарий «народ против тирана» или, соответственно, «национальный лидер против изменников» – т.е. сценарий который заканчивался бы реальной или символической казнью проигравшей стороны.
Вместо этого стороны явочным порядком поделили между собой «народ». Одним, как известно, досталась «большая» его часть, другим – «лучшая».
Причем поделили пока – к обоюдному удовольствию. Уличная оппозиция негласно признает за властью право представлять «социально зависимое», «патерналистское», в общем, «оффлайновое», большинство. А большинство, каково бы оно ни было, – это электоральная легитимность. Власть же скрепя сердце соглашается видеть в «лицах Болотной» представителей «прогрессивных слоев», что сулит им привилегированное положение в политической системе.
Это почти happy end. Можно ставить точку. Если бы не одно «но». Точнее, два «но»: обе претензии, которые так удачно уравновесили друг друга, по серьезному счету, ложные.
«Остальная Россия», конечно, отличается от «болотной России». Но это не повод считать ее «поклонной Россией», своего рода территорией лоялизма. Она рассержена куда больше, чем сто тысяч рассерженных горожан.
«Остальная Россия», конечно, отличается от «болотной России». Но это не повод считать ее «поклонной Россией», своего рода территорией лоялизма. Она рассержена куда больше, чем сто тысяч рассерженных горожан.
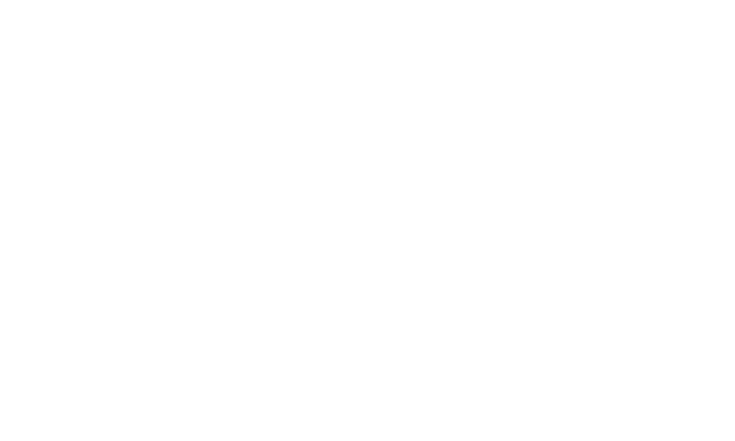
Даже если Путину удастся собрать на выборах убедительное большинство, эффект «путинского большинства» в прежнем виде невоспроизводим. В его основе лежала возможность популярного лидера дистанцироваться от непопулярной системы власти, играя на народных ожиданиях реванша против хищнических элит. Но с течением времени подобная игра становится все сложнее. Благодаря собственным успехам в консолидации власти, популярный лидер почти без остатка слился с непопулярной системой. Это привело к изменению качества поддержки (от активной лояльности к пассивно-безразличной) и к росту антирейтинга.
Сегодня заметна попытка отыграть назад, снова взять дистанцию по отношению к непопулярным институтам. Кампания строится на аллюзиях к «раннему Путину». Но время необратимо. Прежний парадоксальный эффект доверия к лидеру при очевидном и глубоко укорененном недоверии к государству уже вряд ли удастся вернуть.
Исторически, это к лучшему. Если лидер больше не в силах воспроизводить доверие к себе лично вопреки недоверию к государству, то, возможно, он будет вынужден хотя бы попытаться сделать само государство – заслуживающим доверия.
Что же касается другой стороны медали – московской протестной среды, – то считать ее флагманом модернизации так же нелепо, как считать таковым айпад в руках главы государства. Все-таки условные хипстеры – скорее расширенная богема, чем передовой отряд экономики знаний.
Двусмысленную роль в этом отношении играет концепция «креативного класса». Она ведет к зауженному представлению о социальном субъекте модернизации. Фокус внимания оказывается смещен скорее на тех, кто управляет информацией, конъюнктурой мнений, модой, а не на тех, кто создает и транслирует новые знания или обеспечивает работу сложных социальных / технологических систем. За шумным авангардом из журналистов, маркетологов, а сегодня и просто профессиональных лидеров мнений (блогеров) мы перестаем видеть опорные группы развития в лице ученых, инженеров, организаторов производства. Безусловно, нет оснований заведомо противопоставлять друг другу эти группы. Но все же, как стилистически, так и содержательно их запросы различны.
Можно говорить о двух условных полюсах образованного класса – «богема» и, используя термин Джона Кеннета Гелбрейта, «техноструктра» (совокупность тех, кто создает и поддерживает технически сложные системы, как материальные, так и социальные).
Если первый полюс хоть как-то представлен в нашей общественно-политической жизни (и откровенно говоря, даже неплохо представлен, учитывая возросшую роль медиа-элиты), то второй, увы, остается ничуть не менее молчаливым, чем пресловутое молчаливое большинство.
Но в политике, если ты молчишь, то говорят за тебя. Вот и получается, что в игре власти и протестной сетевой среды обе стороны фальсифицируют свою социальную базу. Одни – делая вид, будто модернизационный класс является «болотным классом». Другие – будто социальное большинство является «поклонным большинством».
Хипстер с белой лентой как надежда российской модернизации или токарь Трапезников как лицо рабочего класса – это откровенный парад фантомов, фиктивных сущностей. Столь же фиктивных, кстати, как и «битва», на которую намекал Владимир Путин в Лужниках.
В этом есть свои плюсы. Ущерб от борьбы вымышленных сущностей не так велик, как от борьбы настоящих. Но и опереться на них в случае реальной борьбы вряд ли возможно. Любая политическая конструкция, выстроенная на этой симметрии «хипстера» и «токаря Трапезникова», недолговечна. Это конструкция разового применения. В лучшем случае, она послужит до тех пор, пока не встанет вопрос о гневе реального большинства и о необходимости реального модернизационного класса.
Сегодня заметна попытка отыграть назад, снова взять дистанцию по отношению к непопулярным институтам. Кампания строится на аллюзиях к «раннему Путину». Но время необратимо. Прежний парадоксальный эффект доверия к лидеру при очевидном и глубоко укорененном недоверии к государству уже вряд ли удастся вернуть.
Исторически, это к лучшему. Если лидер больше не в силах воспроизводить доверие к себе лично вопреки недоверию к государству, то, возможно, он будет вынужден хотя бы попытаться сделать само государство – заслуживающим доверия.
Что же касается другой стороны медали – московской протестной среды, – то считать ее флагманом модернизации так же нелепо, как считать таковым айпад в руках главы государства. Все-таки условные хипстеры – скорее расширенная богема, чем передовой отряд экономики знаний.
Двусмысленную роль в этом отношении играет концепция «креативного класса». Она ведет к зауженному представлению о социальном субъекте модернизации. Фокус внимания оказывается смещен скорее на тех, кто управляет информацией, конъюнктурой мнений, модой, а не на тех, кто создает и транслирует новые знания или обеспечивает работу сложных социальных / технологических систем. За шумным авангардом из журналистов, маркетологов, а сегодня и просто профессиональных лидеров мнений (блогеров) мы перестаем видеть опорные группы развития в лице ученых, инженеров, организаторов производства. Безусловно, нет оснований заведомо противопоставлять друг другу эти группы. Но все же, как стилистически, так и содержательно их запросы различны.
Можно говорить о двух условных полюсах образованного класса – «богема» и, используя термин Джона Кеннета Гелбрейта, «техноструктра» (совокупность тех, кто создает и поддерживает технически сложные системы, как материальные, так и социальные).
Если первый полюс хоть как-то представлен в нашей общественно-политической жизни (и откровенно говоря, даже неплохо представлен, учитывая возросшую роль медиа-элиты), то второй, увы, остается ничуть не менее молчаливым, чем пресловутое молчаливое большинство.
Но в политике, если ты молчишь, то говорят за тебя. Вот и получается, что в игре власти и протестной сетевой среды обе стороны фальсифицируют свою социальную базу. Одни – делая вид, будто модернизационный класс является «болотным классом». Другие – будто социальное большинство является «поклонным большинством».
Хипстер с белой лентой как надежда российской модернизации или токарь Трапезников как лицо рабочего класса – это откровенный парад фантомов, фиктивных сущностей. Столь же фиктивных, кстати, как и «битва», на которую намекал Владимир Путин в Лужниках.
В этом есть свои плюсы. Ущерб от борьбы вымышленных сущностей не так велик, как от борьбы настоящих. Но и опереться на них в случае реальной борьбы вряд ли возможно. Любая политическая конструкция, выстроенная на этой симметрии «хипстера» и «токаря Трапезникова», недолговечна. Это конструкция разового применения. В лучшем случае, она послужит до тех пор, пока не встанет вопрос о гневе реального большинства и о необходимости реального модернизационного класса.
Опубликовано на портале «РИА – Новости», 24 февраля 2012 года
