Пять причин быть русскими
В стране, которая дважды распадалась по этническим границам, национальный вопрос — как веревка, о которой не говорят в доме повешенного. Но говорить все равно приходится. Пусть не на выборах, так хотя бы на высоких консилиумах, один из которых на минувшей неделе прошел в Ярославле с участием мировых светил.
Если не считать репрессивных формул вперемежку с призывами к толерантности, на всех подобных обсуждениях рефреном звучит только одна спасительная идея: культивировать общероссийскую гражданскую нацию в противовес этническому радикализму.
«Наша задача заключается в том, чтобы создать полноценную российскую нацию при сохранении идентичности всех народов, населяющих нашу страну», — заявил президент на президиуме Госсовета в Уфе, ссылаясь на советскую идею «новой исторической общности». В противном случае — это уже цитата с другого совещания — «судьба нашей страны очень печальна».
Гражданскую нацию у нас строят со времен Ельцина. Получается, что спустя двадцать лет после своего возникновения «новая Россия» по-прежнему существует как государство без нации со всеми вытекающими опасениями по поводу ее судьбы.
Здесь возникает определенный парадокс. Ставя задачу создания нации, государство, с одной стороны, признает себя не вполне состоявшимся, а с другой — примеривает на себя роль демиурга, способного творить миры. Совместить эти роли весьма непросто. «Но у других-то стран получилось», — возражает президент на уже упомянутом Госсовете в Уфе. «И мы должны это сделать».
Хрестоматийным примером нации, построенной сверху, считается Франция. Французская корона формировала французский народ (тот народ, который ее свергнет) из достаточно разнородного населения. Однако выполнить эту миссию она сумела именно потому, что имела точку опоры вне нации — в «божественном праве» королей. Интересно, есть ли у российской президентской династии подобный запас прочности? И еще: разве мы уже не проходили что-то подобное?
Русские сложились как нация, имея в качестве точки отсчета государственную власть. И на это потребовалось не двадцать лет, а несколько столетий. После столь бурной истории решимость начать «нацбилдинг» с чистого листа впечатляет. Но прежде чем с удвоенной силой взяться за строительство «новой исторической общности», давайте попробуем сравнить ее со «старой».
Если не считать репрессивных формул вперемежку с призывами к толерантности, на всех подобных обсуждениях рефреном звучит только одна спасительная идея: культивировать общероссийскую гражданскую нацию в противовес этническому радикализму.
«Наша задача заключается в том, чтобы создать полноценную российскую нацию при сохранении идентичности всех народов, населяющих нашу страну», — заявил президент на президиуме Госсовета в Уфе, ссылаясь на советскую идею «новой исторической общности». В противном случае — это уже цитата с другого совещания — «судьба нашей страны очень печальна».
Гражданскую нацию у нас строят со времен Ельцина. Получается, что спустя двадцать лет после своего возникновения «новая Россия» по-прежнему существует как государство без нации со всеми вытекающими опасениями по поводу ее судьбы.
Здесь возникает определенный парадокс. Ставя задачу создания нации, государство, с одной стороны, признает себя не вполне состоявшимся, а с другой — примеривает на себя роль демиурга, способного творить миры. Совместить эти роли весьма непросто. «Но у других-то стран получилось», — возражает президент на уже упомянутом Госсовете в Уфе. «И мы должны это сделать».
Хрестоматийным примером нации, построенной сверху, считается Франция. Французская корона формировала французский народ (тот народ, который ее свергнет) из достаточно разнородного населения. Однако выполнить эту миссию она сумела именно потому, что имела точку опоры вне нации — в «божественном праве» королей. Интересно, есть ли у российской президентской династии подобный запас прочности? И еще: разве мы уже не проходили что-то подобное?
Русские сложились как нация, имея в качестве точки отсчета государственную власть. И на это потребовалось не двадцать лет, а несколько столетий. После столь бурной истории решимость начать «нацбилдинг» с чистого листа впечатляет. Но прежде чем с удвоенной силой взяться за строительство «новой исторической общности», давайте попробуем сравнить ее со «старой».
“
Оптимисты скажут, что выбирать между «русским» и «российским» совсем не обязательно. Ведь «идентичность всех народов, населяющих нашу страну», в ходе строительства новой нации обещано сохранить. Проблема лишь в том, что для русских частью идентичности является статус субъекта российской государственности. Вне этого статуса мы, возможно, сможем сохраниться как этнос, но не сможем реализоваться как современная нация.
В чем разница между тем и другим?
В чем разница между тем и другим?
Английский исследователь Бенедикт Андерсон говорит, что современные нации созданы книгопечатным станком. Это довольно точно как метафора своего рода «промышленного» производства идентичности. Этническая общность достигает стадии нации тогда, когда располагает: а) развитыми механизмами тиражирования своей идентичности, в роли которых выступают прежде всего система массового образования и СМИ; б) самой идентичностью, закрепленной в форме высокой письменной культуры (включая развитый литературный язык, традицию в искусстве, корпус базовых текстов, формирующих самосознание, и т. д.).
Племя или народность могут воспроизводить себя «кустарным» образом — на уровне устной традиции и непосредственных контактов в семье, соседской общине. Нация — нет. Чтобы продолжать себя в поколениях, ей необходимы громоздкие (и дорогостоящие) социальные машины, действующие в основном под эгидой государства.
Применительно к нашему вопросу это значит, что если школа, СМИ, армия, государственный аппарат, массовое искусство вовсю штампуют «россиян», то это, конечно, совсем не значит, что они действительно создадут новую нацию (см. пункт «б»), но это значит, что они вполне могут разрушить старую. Это одна из весомых причин того, что мы рискуем перестать быть русской нацией по ходу строительства «нации россиян». Мы уже поняли, кем хочет видеть нас власть. Но пока не уверены, кем хотим быть сами.
Моя цель — предложить несколько аргументов в пользу одной из моделей.
1.Граждане или крепостные?
Вопреки бесконечным ссылкам на концепцию гражданской нации проект нации россиян меньше всего является гражданским проектом. Это проект бюрократии. «Российская нация» представляет собой придаток к административному аппарату РСФСР-РФ. Она не учредитель этого государства, а его «наполнитель», приложение к некоей административной конструкции, возникшей независимо от нее.
Это хорошо заметно по Конституции. «Многонациональный народ Российской Федерации» не может создать Российскую Федерацию просто потому, что он есть величина, производная от ее границ, ее юрисдикции и даже территориальной структуры (в самом своем имени наш «суверен» связан федеративной формой территориального устройства). Понятно, что конституционное право часто оперирует фикциями. Но в данном случае это полностью соответствует логике исторического процесса. Учредителем государства, в котором мы живем, выступала сначала советская номенклатура, производившая административно-территориальное деление СССР, а затем российская номенклатура, перехватившая у центра власть строго в рамках очерченных границ вместе с «доставшимся» ей населением.
Собственно, вопрос о нации встал в тот момент, когда эта номенклатура озаботилась тем, чтобы обеспечить лояльность подведомственного населения. Государство, которое может получиться из этой затеи (решения бюрократии «завести себе нацию»), трудно назвать национальным. Точно так же партия, которая, будучи правящей, решает придумать себе идеологию, явно не является идеологической партией.
Это очень показательный момент: тема «гражданской нации» возникает в нашей новейшей истории не в контексте требований граждан к бюрократии, а в контексте требований бюрократии к гражданам, что накладывает неизгладимый отпечаток на политическую судьбу создаваемой нации и разительно отличает ее от настоящих гражданских наций Нового времени.
Напротив, социальный профиль русского национализма (в данном случае речь о национализме как проекте нации, а не бытовой ксенофобии) сегодня не бюрократический, а гражданский. Его питательная среда — городской образованный класс, он требует лояльности не от нации по отношению к бюрократии, а от бюрократии по отношению к нации и является формой притязания национального большинства на свое государство.
Иными словами, если мы как нация «россияне», то мы крепостные своего государства (в буквальном смысле: мы оказались «прикреплены» к определенному куску территории при дележе советского наследства — а дележ, как уже было сказано, вершила номенклатура). Если мы «русские», то мы его потенциальные хозяева, граждане, стремящиеся вступить в свои суверенные права.
Это противоречит стереотипу об этническом национализме как антониме гражданского. Но все дело в том, что сам этот стереотип противоречит очень многому в истории наций и национализма. Например, в германских землях XIX века именно этническая (культурно-лингвистическая) идея нации стала оружием образованных горожан, стремящихся одновременно к гражданской эмансипации и к национальному единству в противостоянии со знатью германских княжеств. Последняя же, вполне в духе современной российской знати, апеллировала как раз к территориальному принципу лояльности.
2.История или инерция?
Я не утверждаю, что территориальная идентичность не может породить гражданскую. Просто для этого ей требуется нечто большее, чем назвать население гражданами.
Крупнейшие гражданские нации Нового времени — американцы, англичане, французы — стали таковыми в горниле революций. Для того чтобы создать нацию, основанную на общих ценностях, а не на этнических связях, необходимо, чтобы эти ценности были скреплены совместным историческим опытом, прежде всего опытом политической борьбы, в ходе которой граждане выходят на арену как основная историческая сила.
Какой революцией рождена «российская нация»? «Августовской революцией» 1991 года? Если это так, то она несет на себе все родимые пятна этой «революции»: провинциализм и вторичность (по отношению не только к великим историческим революциям, но и к бархатным революциям восточноевропейских соседей), анеми власти и гражданского общества (картонные диктаторы против картонных революционеров), уже упомянутый номенклатурный налет и, конечно, несмываемый налет исторического поражения и геополитической катастрофы.
«Российская нация» рождается не в виде сгустка исторической воли, а в качестве продукта распада советского строя, в качестве инерции этого распада.
Революция 1917 года тоже была связана с крупным военным поражением, которое, однако, было быстро изжито. Важнее же всего то, что многим современникам и потомкам она виделась событием всемирно-исторического масштаба. На этой базе было действительно возможно формирование «новой исторической общности», основанной на идеологии и образе жизни. И тем не менее эта общность не состоялась. Так с какой стати должна состояться «новая историческая общность» в РФ, если у нее в принципе нет сопоставимого ценностного ядра?
Племя или народность могут воспроизводить себя «кустарным» образом — на уровне устной традиции и непосредственных контактов в семье, соседской общине. Нация — нет. Чтобы продолжать себя в поколениях, ей необходимы громоздкие (и дорогостоящие) социальные машины, действующие в основном под эгидой государства.
Применительно к нашему вопросу это значит, что если школа, СМИ, армия, государственный аппарат, массовое искусство вовсю штампуют «россиян», то это, конечно, совсем не значит, что они действительно создадут новую нацию (см. пункт «б»), но это значит, что они вполне могут разрушить старую. Это одна из весомых причин того, что мы рискуем перестать быть русской нацией по ходу строительства «нации россиян». Мы уже поняли, кем хочет видеть нас власть. Но пока не уверены, кем хотим быть сами.
Моя цель — предложить несколько аргументов в пользу одной из моделей.
1.Граждане или крепостные?
Вопреки бесконечным ссылкам на концепцию гражданской нации проект нации россиян меньше всего является гражданским проектом. Это проект бюрократии. «Российская нация» представляет собой придаток к административному аппарату РСФСР-РФ. Она не учредитель этого государства, а его «наполнитель», приложение к некоей административной конструкции, возникшей независимо от нее.
Это хорошо заметно по Конституции. «Многонациональный народ Российской Федерации» не может создать Российскую Федерацию просто потому, что он есть величина, производная от ее границ, ее юрисдикции и даже территориальной структуры (в самом своем имени наш «суверен» связан федеративной формой территориального устройства). Понятно, что конституционное право часто оперирует фикциями. Но в данном случае это полностью соответствует логике исторического процесса. Учредителем государства, в котором мы живем, выступала сначала советская номенклатура, производившая административно-территориальное деление СССР, а затем российская номенклатура, перехватившая у центра власть строго в рамках очерченных границ вместе с «доставшимся» ей населением.
Собственно, вопрос о нации встал в тот момент, когда эта номенклатура озаботилась тем, чтобы обеспечить лояльность подведомственного населения. Государство, которое может получиться из этой затеи (решения бюрократии «завести себе нацию»), трудно назвать национальным. Точно так же партия, которая, будучи правящей, решает придумать себе идеологию, явно не является идеологической партией.
Это очень показательный момент: тема «гражданской нации» возникает в нашей новейшей истории не в контексте требований граждан к бюрократии, а в контексте требований бюрократии к гражданам, что накладывает неизгладимый отпечаток на политическую судьбу создаваемой нации и разительно отличает ее от настоящих гражданских наций Нового времени.
Напротив, социальный профиль русского национализма (в данном случае речь о национализме как проекте нации, а не бытовой ксенофобии) сегодня не бюрократический, а гражданский. Его питательная среда — городской образованный класс, он требует лояльности не от нации по отношению к бюрократии, а от бюрократии по отношению к нации и является формой притязания национального большинства на свое государство.
Иными словами, если мы как нация «россияне», то мы крепостные своего государства (в буквальном смысле: мы оказались «прикреплены» к определенному куску территории при дележе советского наследства — а дележ, как уже было сказано, вершила номенклатура). Если мы «русские», то мы его потенциальные хозяева, граждане, стремящиеся вступить в свои суверенные права.
Это противоречит стереотипу об этническом национализме как антониме гражданского. Но все дело в том, что сам этот стереотип противоречит очень многому в истории наций и национализма. Например, в германских землях XIX века именно этническая (культурно-лингвистическая) идея нации стала оружием образованных горожан, стремящихся одновременно к гражданской эмансипации и к национальному единству в противостоянии со знатью германских княжеств. Последняя же, вполне в духе современной российской знати, апеллировала как раз к территориальному принципу лояльности.
2.История или инерция?
Я не утверждаю, что территориальная идентичность не может породить гражданскую. Просто для этого ей требуется нечто большее, чем назвать население гражданами.
Крупнейшие гражданские нации Нового времени — американцы, англичане, французы — стали таковыми в горниле революций. Для того чтобы создать нацию, основанную на общих ценностях, а не на этнических связях, необходимо, чтобы эти ценности были скреплены совместным историческим опытом, прежде всего опытом политической борьбы, в ходе которой граждане выходят на арену как основная историческая сила.
Какой революцией рождена «российская нация»? «Августовской революцией» 1991 года? Если это так, то она несет на себе все родимые пятна этой «революции»: провинциализм и вторичность (по отношению не только к великим историческим революциям, но и к бархатным революциям восточноевропейских соседей), анеми власти и гражданского общества (картонные диктаторы против картонных революционеров), уже упомянутый номенклатурный налет и, конечно, несмываемый налет исторического поражения и геополитической катастрофы.
«Российская нация» рождается не в виде сгустка исторической воли, а в качестве продукта распада советского строя, в качестве инерции этого распада.
Революция 1917 года тоже была связана с крупным военным поражением, которое, однако, было быстро изжито. Важнее же всего то, что многим современникам и потомкам она виделась событием всемирно-исторического масштаба. На этой базе было действительно возможно формирование «новой исторической общности», основанной на идеологии и образе жизни. И тем не менее эта общность не состоялась. Так с какой стати должна состояться «новая историческая общность» в РФ, если у нее в принципе нет сопоставимого ценностного ядра?
Одним словом, если мы «нация россиян», то мы дети 1991 года. А это весьма низкая родословная. Если мы «русские», то мы наследники длинной цепи поколений — народ, прошедший закалку нескольких мировых войн и революций, сменивший несколько государственных форм и ставший тем единственным, что их связывает.
Последнее особенно важно. У нас много обсуждается проблема разорванности российской истории. Мы оказываемся не в состоянии связать между собой разные исторические эпохи как «главы» своей собственной судьбы.
Концепция российской гражданской нации усугубляет эту проблему, делая ее в корне неразрешимой. Эта нация заведомо не может рассматриваться как носитель предшествующих форм российской государственности, поскольку является производной от границ, политико-правовой формы и идеологии данного конкретного государства.
Последнее особенно важно. У нас много обсуждается проблема разорванности российской истории. Мы оказываемся не в состоянии связать между собой разные исторические эпохи как «главы» своей собственной судьбы.
Концепция российской гражданской нации усугубляет эту проблему, делая ее в корне неразрешимой. Эта нация заведомо не может рассматриваться как носитель предшествующих форм российской государственности, поскольку является производной от границ, политико-правовой формы и идеологии данного конкретного государства.
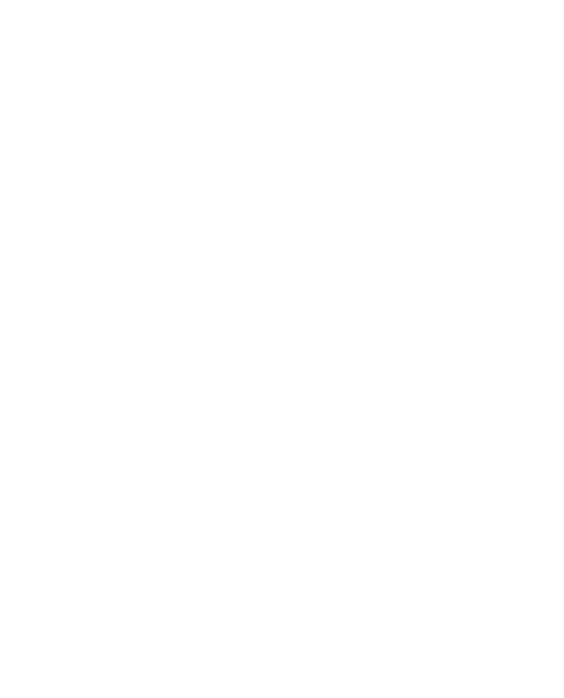
То есть тех элементов, которые менялись в нашей истории головокружительно резко. Больше того, в длинной череде государственных форм (Киевская, Московская Русь, Петербургская империя, СССР, РФ) каждое последующее государство в большей или меньшей степени основывается на отрицании предыдущих.
Один из слоганов, изготовленных в рамках госзаказа на «российскую нацию», гласит: «Народов много — страна одна». В этом благонамеренном лозунге заключен, если вдуматься, невероятный исторический нигилизм. В том-то и дело, что в историческом разрезе страна оказывается совсем не одна. «Варяжская Русь», «Московское царство», «Страна Советов» — это не просто разные территории, но совершенно разные политико-географические образы, то есть именно что разные «страны». «Страна одна» оказывается лишь в том случае, если РФ полностью заслоняет собой все предшествующее. Поэтому с точки зрения исторической преемственности уместно прямо противоположное утверждение: «Стран много — народ один».
Единственная возможность связать воедино разные «страны», оставшиеся в нашем прошлом, и сложить из них некую «вечную Россию» состоит в том, чтобы рассматривать российское государственное строительство во всех его перипетиях как часть русской этнонациональной истории. На этом уровне преемственность как раз налицо (становление общего языка и культуры, самосознания, пантеона героев и т. д.). В этом случае у разорванных российских времен появляется общий носитель. Да, весьма условный. Но национальная история — это и есть драма, построенная вокруг жанровой условности главного героя.
Тот факт, что мы воспринимаем варварского князя Владимира и советского космонавта Гагарина в качестве лиц одной и той же истории, в качестве своего рода аватар ее подразумеваемого главного героя, — неоспоримое свидетельство того, что мы живем русским этнонациональным мифом.
Миф, если верить Юнгу, — источник энергии и психического здоровья. Отчего тогда вокруг так много исторической шизофрении? Именно потому, что сознание находится в явном конфликте с бессознательным. Мы ощущаем непрерывность своей исторической личности, но не можем ее назвать.
3.Свои или чужие?
«Стран много — народ один» — не спорю, это звучит весьма провокационно как лозунг, но довольно точно как описание нашего положения. Причем не только во времени, но и в пространстве. Именно так могла бы выглядеть формула отношения к русскому населению Украины, Белоруссии, Казахстана и других новообразованных государств.
Распад СССР оставил за границами РФ более 30 млн русских (в переписи 1989 года 36,2 млн человек за пределами РСФСР назвали русский родным языком), что составляет порядка четверти русского населения РФ. Примерно таким же было соотношение численности западных и восточных немцев на момент раздела Германии.
В отличие от Западной Германии, которая, не будучи одержима территориальным реваншизмом, тем не менее никогда не отказывалась от перспективы национального единства, что выражалось и в тексте ее конституции, и в практике предоставления гражданства, «новая Россия» оставила эту четверть за бортом своего национального проекта.
Тот факт, что русские вне РФ оказались лишены каких-либо преимуществ при получении ее гражданства, не стали адресатами ее диаспоральной и переселенческой политики, всецело «заслуга» идеологов российской территориальной нации.
В логике этого проекта жители Севастополя — часть чужой нации. Зато захватчики Буденновска — своей. Эта логика, несомненно, оскорбляет национальное чувство. Но если она внедряется достаточно долго — она просто разрушает его (что, отчасти, мы и наблюдаем сегодня, когда российский патриотизм испытывает явный кризис жанра).
Другим, не менее красноречивым и многообещающим симптомом этого проекта стала концепция замещающей иммиграции. То есть концепция, в соответствии с которой отрицательный демографический баланс может и должен возмещаться «импортом населения» вне зависимости от его этнических, социокультурных, профессиональных характеристик. В этой сфере разворачивается настоящая социальная катастрофа — я имею в виду не только проблемы с интеграцией самих иммигрантов, но также люмпенизацию и архаизацию всего общества под воздействием их неограниченного притока. Люмпен-предприниматели, от ларечников до миллиардеров, могут радоваться почти бесплатному труду, но с точки зрения макросоциальных эффектов бесплатный труд бывает только в мышеловке (экономика дешевого труда для нас и в самом деле ловушка).
Но даже если бы рациональные аргументы в пользу замещающей иммиграции существовали, главной проблемой является сам подход, в логике которого бюрократия вправе «импортировать» себе другой народ, если существующий по тем или иным причинам ее не устраивает.
Если нация создается административным аппаратом и территорией, а не общей культурой, связью поколений, исторической судьбой, то эта логика оказывается возможна. Иными словами, «россияне» — нация, которая, не останавливаясь, разменивает своих на чужих. И, к сожалению, это заложено в самой ее идее.
Один из слоганов, изготовленных в рамках госзаказа на «российскую нацию», гласит: «Народов много — страна одна». В этом благонамеренном лозунге заключен, если вдуматься, невероятный исторический нигилизм. В том-то и дело, что в историческом разрезе страна оказывается совсем не одна. «Варяжская Русь», «Московское царство», «Страна Советов» — это не просто разные территории, но совершенно разные политико-географические образы, то есть именно что разные «страны». «Страна одна» оказывается лишь в том случае, если РФ полностью заслоняет собой все предшествующее. Поэтому с точки зрения исторической преемственности уместно прямо противоположное утверждение: «Стран много — народ один».
Единственная возможность связать воедино разные «страны», оставшиеся в нашем прошлом, и сложить из них некую «вечную Россию» состоит в том, чтобы рассматривать российское государственное строительство во всех его перипетиях как часть русской этнонациональной истории. На этом уровне преемственность как раз налицо (становление общего языка и культуры, самосознания, пантеона героев и т. д.). В этом случае у разорванных российских времен появляется общий носитель. Да, весьма условный. Но национальная история — это и есть драма, построенная вокруг жанровой условности главного героя.
Тот факт, что мы воспринимаем варварского князя Владимира и советского космонавта Гагарина в качестве лиц одной и той же истории, в качестве своего рода аватар ее подразумеваемого главного героя, — неоспоримое свидетельство того, что мы живем русским этнонациональным мифом.
Миф, если верить Юнгу, — источник энергии и психического здоровья. Отчего тогда вокруг так много исторической шизофрении? Именно потому, что сознание находится в явном конфликте с бессознательным. Мы ощущаем непрерывность своей исторической личности, но не можем ее назвать.
3.Свои или чужие?
«Стран много — народ один» — не спорю, это звучит весьма провокационно как лозунг, но довольно точно как описание нашего положения. Причем не только во времени, но и в пространстве. Именно так могла бы выглядеть формула отношения к русскому населению Украины, Белоруссии, Казахстана и других новообразованных государств.
Распад СССР оставил за границами РФ более 30 млн русских (в переписи 1989 года 36,2 млн человек за пределами РСФСР назвали русский родным языком), что составляет порядка четверти русского населения РФ. Примерно таким же было соотношение численности западных и восточных немцев на момент раздела Германии.
В отличие от Западной Германии, которая, не будучи одержима территориальным реваншизмом, тем не менее никогда не отказывалась от перспективы национального единства, что выражалось и в тексте ее конституции, и в практике предоставления гражданства, «новая Россия» оставила эту четверть за бортом своего национального проекта.
Тот факт, что русские вне РФ оказались лишены каких-либо преимуществ при получении ее гражданства, не стали адресатами ее диаспоральной и переселенческой политики, всецело «заслуга» идеологов российской территориальной нации.
В логике этого проекта жители Севастополя — часть чужой нации. Зато захватчики Буденновска — своей. Эта логика, несомненно, оскорбляет национальное чувство. Но если она внедряется достаточно долго — она просто разрушает его (что, отчасти, мы и наблюдаем сегодня, когда российский патриотизм испытывает явный кризис жанра).
Другим, не менее красноречивым и многообещающим симптомом этого проекта стала концепция замещающей иммиграции. То есть концепция, в соответствии с которой отрицательный демографический баланс может и должен возмещаться «импортом населения» вне зависимости от его этнических, социокультурных, профессиональных характеристик. В этой сфере разворачивается настоящая социальная катастрофа — я имею в виду не только проблемы с интеграцией самих иммигрантов, но также люмпенизацию и архаизацию всего общества под воздействием их неограниченного притока. Люмпен-предприниматели, от ларечников до миллиардеров, могут радоваться почти бесплатному труду, но с точки зрения макросоциальных эффектов бесплатный труд бывает только в мышеловке (экономика дешевого труда для нас и в самом деле ловушка).
Но даже если бы рациональные аргументы в пользу замещающей иммиграции существовали, главной проблемой является сам подход, в логике которого бюрократия вправе «импортировать» себе другой народ, если существующий по тем или иным причинам ее не устраивает.
Если нация создается административным аппаратом и территорией, а не общей культурой, связью поколений, исторической судьбой, то эта логика оказывается возможна. Иными словами, «россияне» — нация, которая, не останавливаясь, разменивает своих на чужих. И, к сожалению, это заложено в самой ее идее.
“
Русские — нация, которая объединяет всех носителей русской культуры и идентичности поверх государственных границ. Границы менялись в нашей истории слишком часто, чтобы мы определяли через них свое «я».
Это вовсе не значит, что мы не должны дорожить территорией. Совсем напротив. Просто территорию, в случае серьезных угроз, нельзя сохранить во имя территории, а юрисдикцию — во имя юрисдикции. Необходима сила, которая их одушевляет, а не просто «принимает форму сосуда».
Это вовсе не значит, что мы не должны дорожить территорией. Совсем напротив. Просто территорию, в случае серьезных угроз, нельзя сохранить во имя территории, а юрисдикцию — во имя юрисдикции. Необходима сила, которая их одушевляет, а не просто «принимает форму сосуда».
От «российской нации», в случае критической угрозы существованию РФ, будет так же мало толку, как от пролетарского интернационализма в 1941 году. Придется обращаться к русским.
Не будучи тождественна существующему государству (хотя бы в силу своей разделенности), эта нация может относиться к нему как к государству-плацдарму (каковым оказалась та же ФРГ для немцев во время холодной войны), государству-убежищу (каковым является для разбросанных по миру евреев Израиль). Для того чтобы это стало возможным, должно произойти очень многое. Но если это произойдет, за территориальную целостность и суверенитет РФ можно будет не беспокоиться.
4.Пушкин или Гельман?
В литературе по национальному вопросу часто противопоставляют друг другу «немецкую» и «французскую» модели нации, имея в виду, что в первом случае нация основывается на культурной общности, во втором — на политической. Гораздо реже обращают внимание на то, что это лишь различные отправные точки одного и того же процесса: процесса соединения государства и национальной культуры. В одном случае движение идет от культурного единства к политическому, в другом — наоборот. Соединение «политики» и «культуры» — это формула современного национального государства и, как справедливо напоминает британский философ Эрнест Геллнер, современного индустриального общества, которое нуждается в унификации населения на базе единого языкового, поведенческого, ценностного стандарта.
Многие считают, что Россия изначально складывалась принципиально иначе, как многосоставное государство. В действительности Россия не меньше, чем Франция или Германия, складывалась на основе стандарта доминирующей культуры. Что связывает между собой народы российского пространства? Стихийное «братание», о котором говорил евразиец Трубецкой? Разумеется, нет. Их связывает то, что все они в большей или меньшей степени находились под воздействием русской культуры и языка.
Конечно, под влиянием соседних народов находились и русский язык с культурой, но именно они выступали в качестве синтезирующего элемента, преобладая как количественно (по уровню распространенности), так и качественно (по уровню развития).
Благодаря этому несомненному преобладанию и длительной ассимиляции наша большая страна на удивление однородна. По крайней мере миф о небывалой мультикультурности России явно пасует перед опытом по-настоящему мультикультурных стран, таких как Папуа — Новая Гвинея, где около 6 млн человек разделены на 500–700 этноязыковых групп.
Если наш ориентир — поликультурность на душу населения, то нам есть к чему стремиться. Но если мы говорим о единой нации, то она может воспроизводиться только так, как и прежде: через ассимиляцию/интеграцию на основе русской культуры. Другой высокой культуры мирового уровня в нашем распоряжении просто нет.
Для сторонников «российского проекта» это неприемлемо. Поэтому рождаются химеры. В официальных выступлениях и документах русская культура все чаще рассматривается как некий фермент для мифической многонациональной российской культуры, «мультикультуры» (как прозвучало на одном из высоких собраний), которую мы тоже должны «создать» заодно с «новой исторической общностью». Но национальные культуры не медиапроект, который может быть изготовлен по заказу. Они создаются столетиями, синтезируя народную культуру с культурой интеллигенции и аристократии.
Создаются порой вполне сознательно. Так, Данте, Лютер или Пушкин методично осуществляли селекцию того литературного языка, на котором вслед за ними стали говорить их соотечественники. Весь XIX век был временем реализации культурных проектов европейских наций, в том числе «русского проекта», в литературе, музыке, живописи, архитектуре.
Так вот, если сегодня вновь появляется необходимость создавать некую «российскую культуру» для «российской нации», то возникает вопрос: кто ее создатели? Кто эти титаны? Олег Газманов с песней про офицеров-россиян? Никита Михалков с фильмом «12»? Марат Гельман с выставками «Россия для всех»?
Словом, «российский проект» в культуре реализуется в низких жанрах конъюнктурной пропаганды и шоу-бизнеса со всеми вытекающими последствиями для качества одноименной нации.
«Русский проект» в культуре реализовывался поколениями выдающихся представителей национальной аристократии и интеллигенции. Мне не преминут напомнить об их смешанном происхождении (собственно, в этом и состоит логика выставки «Россия для всех»), которое будто бы делает их нерусскими или не совсем русскими. Это очень важный для «официоза» аргумент. И очень саморазоблачительный. «Расизм — это свинство» — гласит социальная реклама на футбольных стадионах. Но банановый расизм фанатов блекнет на фоне расизма пропагандистов «нерусской нации». Нелепый мем о «Пушкине-эфиопе» или «турке Жуковском» возможен только на почве самых вульгарных представлений о том, что национальность — это «биология» и что человек, для которого русский язык и культура являются родными, может быть русским не на сто процентов, а лишь на ⅞ (как Пушкин) или на ½ (как Жуковский).
Расчет, вероятно, в том, что если все начнут подсчитывать доли «нерусской крови», то произойдет распыление идентичности русских, и им ничего не останется, кроме как идентифицировать себя через административный аппарат и территорию. Такая угроза действительно существует. Поэтому состоятельность проекта русской нации будет в существенной мере зависеть от того, удастся ли преодолеть этот «расистский заговор», избрав родной язык в качестве главного носителя идентичности.
5.Союз народов или конгломерат меньшинств?
Будучи лишен сильных сторон советского проекта — интегрирующего «гражданского культа», российский ремейк повторяет его слабые стороны. Я имею в виду политику в отношении национальных республик и диаспор.
Если принять всерьез идею единой гражданской нации, то первая ее аксиома будет гласить, что никаких других наций внутри этой нации нет и быть не может. Могут быть этнические группы, полностью отделенные от государства. Но в советское время они искусственно выращивались в «социалистические нации», сегодня они заняты активным строительством собственных национальных государств под «зонтиком» РФ. Где-то этот процесс идет демонстративно и вызывающе, как в Чечне, где-то более осторожно, но не менее упрямо, как в Татарстане или Якутии. Существование республиканских этнократий прямо противоречит декларируемому гражданскому единству.
Еще меньше единства на уровне общества. Мы часто забываем, что гражданская нация требует не менее интенсивной общности и даже однородности, чем этническая. Это однородность политической культуры и гражданского сознания. Есть ли она между разными частями «российской нации»? К сожалению, нет, особенно если иметь в виду ее северокавказскую часть. И речь не просто о правовом нигилизме, а об определенном кодексе убеждений, для которого альтернативные «законы» («законы шариата» или условные «законы гор» как совокупность неформальных традиционных норм) действительно выше гражданских. Этот разрыв в правовой и политической культуре не только не сокращается, а нарастает (по мере вымывания из элит горских народов остатков советской интеллигенции).
Не будучи тождественна существующему государству (хотя бы в силу своей разделенности), эта нация может относиться к нему как к государству-плацдарму (каковым оказалась та же ФРГ для немцев во время холодной войны), государству-убежищу (каковым является для разбросанных по миру евреев Израиль). Для того чтобы это стало возможным, должно произойти очень многое. Но если это произойдет, за территориальную целостность и суверенитет РФ можно будет не беспокоиться.
4.Пушкин или Гельман?
В литературе по национальному вопросу часто противопоставляют друг другу «немецкую» и «французскую» модели нации, имея в виду, что в первом случае нация основывается на культурной общности, во втором — на политической. Гораздо реже обращают внимание на то, что это лишь различные отправные точки одного и того же процесса: процесса соединения государства и национальной культуры. В одном случае движение идет от культурного единства к политическому, в другом — наоборот. Соединение «политики» и «культуры» — это формула современного национального государства и, как справедливо напоминает британский философ Эрнест Геллнер, современного индустриального общества, которое нуждается в унификации населения на базе единого языкового, поведенческого, ценностного стандарта.
Многие считают, что Россия изначально складывалась принципиально иначе, как многосоставное государство. В действительности Россия не меньше, чем Франция или Германия, складывалась на основе стандарта доминирующей культуры. Что связывает между собой народы российского пространства? Стихийное «братание», о котором говорил евразиец Трубецкой? Разумеется, нет. Их связывает то, что все они в большей или меньшей степени находились под воздействием русской культуры и языка.
Конечно, под влиянием соседних народов находились и русский язык с культурой, но именно они выступали в качестве синтезирующего элемента, преобладая как количественно (по уровню распространенности), так и качественно (по уровню развития).
Благодаря этому несомненному преобладанию и длительной ассимиляции наша большая страна на удивление однородна. По крайней мере миф о небывалой мультикультурности России явно пасует перед опытом по-настоящему мультикультурных стран, таких как Папуа — Новая Гвинея, где около 6 млн человек разделены на 500–700 этноязыковых групп.
Если наш ориентир — поликультурность на душу населения, то нам есть к чему стремиться. Но если мы говорим о единой нации, то она может воспроизводиться только так, как и прежде: через ассимиляцию/интеграцию на основе русской культуры. Другой высокой культуры мирового уровня в нашем распоряжении просто нет.
Для сторонников «российского проекта» это неприемлемо. Поэтому рождаются химеры. В официальных выступлениях и документах русская культура все чаще рассматривается как некий фермент для мифической многонациональной российской культуры, «мультикультуры» (как прозвучало на одном из высоких собраний), которую мы тоже должны «создать» заодно с «новой исторической общностью». Но национальные культуры не медиапроект, который может быть изготовлен по заказу. Они создаются столетиями, синтезируя народную культуру с культурой интеллигенции и аристократии.
Создаются порой вполне сознательно. Так, Данте, Лютер или Пушкин методично осуществляли селекцию того литературного языка, на котором вслед за ними стали говорить их соотечественники. Весь XIX век был временем реализации культурных проектов европейских наций, в том числе «русского проекта», в литературе, музыке, живописи, архитектуре.
Так вот, если сегодня вновь появляется необходимость создавать некую «российскую культуру» для «российской нации», то возникает вопрос: кто ее создатели? Кто эти титаны? Олег Газманов с песней про офицеров-россиян? Никита Михалков с фильмом «12»? Марат Гельман с выставками «Россия для всех»?
Словом, «российский проект» в культуре реализуется в низких жанрах конъюнктурной пропаганды и шоу-бизнеса со всеми вытекающими последствиями для качества одноименной нации.
«Русский проект» в культуре реализовывался поколениями выдающихся представителей национальной аристократии и интеллигенции. Мне не преминут напомнить об их смешанном происхождении (собственно, в этом и состоит логика выставки «Россия для всех»), которое будто бы делает их нерусскими или не совсем русскими. Это очень важный для «официоза» аргумент. И очень саморазоблачительный. «Расизм — это свинство» — гласит социальная реклама на футбольных стадионах. Но банановый расизм фанатов блекнет на фоне расизма пропагандистов «нерусской нации». Нелепый мем о «Пушкине-эфиопе» или «турке Жуковском» возможен только на почве самых вульгарных представлений о том, что национальность — это «биология» и что человек, для которого русский язык и культура являются родными, может быть русским не на сто процентов, а лишь на ⅞ (как Пушкин) или на ½ (как Жуковский).
Расчет, вероятно, в том, что если все начнут подсчитывать доли «нерусской крови», то произойдет распыление идентичности русских, и им ничего не останется, кроме как идентифицировать себя через административный аппарат и территорию. Такая угроза действительно существует. Поэтому состоятельность проекта русской нации будет в существенной мере зависеть от того, удастся ли преодолеть этот «расистский заговор», избрав родной язык в качестве главного носителя идентичности.
5.Союз народов или конгломерат меньшинств?
Будучи лишен сильных сторон советского проекта — интегрирующего «гражданского культа», российский ремейк повторяет его слабые стороны. Я имею в виду политику в отношении национальных республик и диаспор.
Если принять всерьез идею единой гражданской нации, то первая ее аксиома будет гласить, что никаких других наций внутри этой нации нет и быть не может. Могут быть этнические группы, полностью отделенные от государства. Но в советское время они искусственно выращивались в «социалистические нации», сегодня они заняты активным строительством собственных национальных государств под «зонтиком» РФ. Где-то этот процесс идет демонстративно и вызывающе, как в Чечне, где-то более осторожно, но не менее упрямо, как в Татарстане или Якутии. Существование республиканских этнократий прямо противоречит декларируемому гражданскому единству.
Еще меньше единства на уровне общества. Мы часто забываем, что гражданская нация требует не менее интенсивной общности и даже однородности, чем этническая. Это однородность политической культуры и гражданского сознания. Есть ли она между разными частями «российской нации»? К сожалению, нет, особенно если иметь в виду ее северокавказскую часть. И речь не просто о правовом нигилизме, а об определенном кодексе убеждений, для которого альтернативные «законы» («законы шариата» или условные «законы гор» как совокупность неформальных традиционных норм) действительно выше гражданских. Этот разрыв в правовой и политической культуре не только не сокращается, а нарастает (по мере вымывания из элит горских народов остатков советской интеллигенции).
Иными словами, проект российской гражданской нации спотыкается не о «русский вопрос», а о совокупность громко поставленных «нерусских вопросов». Именно они его перечеркивают. И это закономерно. Интеграция меньшинств оказывается невозможной, если нарушена интеграция большинства.
Мы видим это и на примере европейских государств. Они зашли достаточно далеко в попытке вынести за скобки идентичность титульных наций, запустив «политкорректную» цензуру школьных программ, политической лексики, массового искусства. Цель этой политики состояла в том, чтобы сделать интеграцию более приемлемой для меньшинств. Но она имела строго обратный эффект. Общество, из которого изъят культурный стержень, обладает даже не нулевым, а отрицательным ассимиляционным потенциалом. Оно не вызывает желания стать его частью. Напротив, оно вызывает у меньшинств желание заполнить возникшую пустоту своими этническими и религиозными мифами (отсюда такой всплеск «фундаментализмов» и «этнизмов» внутри западных обществ). А у большинства — бегство в субкультуры или апатию.
То есть сильная, пусть и чужая для меньшинств национальная культура способна обеспечить их интеграцию в гораздо большей мере, чем пустота, возникающая на ее месте. В нашем случае это верно вдвойне, если учесть, что русская культура для большей части народов России совсем не чужая.
Россия действительно складывалась как союз народов. Но именно для того, чтобы этот союз был возможен, необходимо признание его основного субъекта — русских как государствообразующей нации. Противостоять этому признанию от имени прав меньшинств нет никаких оснований. Ведь их права уже максимально реализованы — в виде собственных государств, влиятельных лобби, культурных автономий. Осталось лишь дополнить всю эту «цветущую сложность» национальным самоопределением большинства.
Рано или поздно это произойдет. Вопрос лишь в том, станет ли пространством самоопределения Российская Федерация или какая-то другая, пока неведомая страна нашего будущего.
То есть сильная, пусть и чужая для меньшинств национальная культура способна обеспечить их интеграцию в гораздо большей мере, чем пустота, возникающая на ее месте. В нашем случае это верно вдвойне, если учесть, что русская культура для большей части народов России совсем не чужая.
Россия действительно складывалась как союз народов. Но именно для того, чтобы этот союз был возможен, необходимо признание его основного субъекта — русских как государствообразующей нации. Противостоять этому признанию от имени прав меньшинств нет никаких оснований. Ведь их права уже максимально реализованы — в виде собственных государств, влиятельных лобби, культурных автономий. Осталось лишь дополнить всю эту «цветущую сложность» национальным самоопределением большинства.
Рано или поздно это произойдет. Вопрос лишь в том, станет ли пространством самоопределения Российская Федерация или какая-то другая, пока неведомая страна нашего будущего.
Опубликовано в журнале "Эксперт", 14 сентября 2011 года
