Национализм и конструктивизм
Национализм и историки
Редкий националист не сталкивался с утверждением о том, что его нации не существует. Это утверждение не стоит относить на счет исключительно местной – например, русской – специфики. Оно в высшей степени типично и характеризует восприятие национализма как такового. Национализм слывет фальсификатором и фантазером, который помнит то, чего не было, и забывает то, что было. Эту причудливую избирательность – впрочем, неизбежную для человеческой памяти, что личной, что исторической – отчасти признают и сами националисты. Нация есть сложный баланс между коллективным опытом воспоминания и коллективным опытом забвения, – говорил Эрнест Ренан. Вероятно, именно поэтому среди историков преобладает убеждение, что их исследование наций и национализмов не может не быть критическим. Даже те из них, кто не тщится атаковать сложившиеся «воспоминания», считают своим долгом патетически предъявлять забытое, кропотливо растревоживая все то, что полагалось единым.
Понятно, что сложные отношения между национальным сознанием и исторической наукой – частный случай отношений между «историей» и «жизнью», в том смысле, в каком говорил о них великий современник Ренана по другую сторону Рейна. Из более свежих источников стоит упомянуть англичанина Энтони Смита и его статью «Национализм и историки». В самом ее названии обозначен подспудный антагонизм, который по ходу изложения осторожно выводится автором на свет. Смит ставит целью воссоздать некоторые исследовательские стереотипы, применяемые к национализму, и фокусируется по преимуществу на тех из них, что присущи адептам «конструктивистского» подхода, ибо, как известно, таковых среди его коллег большинство.
Конструктивизм стал большой модой и в российском исследовательском сообществе, где он считается элементом хорошего академического и политического тона. Помню, как в статье от 93-го года Валерий Тишков знакомил неискушенного постсоветского читателя с тенденциями передового обществоведения, повествуя о двух подходах к интерпретации этнических феноменов: "Для примордиалистов существуют и как бы совершают свой независимый от субъективного восприятия путь некие объективные общности с присущими им чертами в виде территории, языка, осознаваемого членства и даже общего психического склада". Такой подход бытовал, главным образом, в советской традиции и, как не трудно догадаться, должен быть преодолен критической тенденцией конструктивизма, который рассматривает этническое чувство, не говоря уж о формулируемых в его контексте мифах и доктринах, как "интеллектуальный конструкт, как результат целенаправленных усилий верхушечного слоя".
Трудно не отметить, что с точки зрения методологии социального знания сама альтернатива выглядит несколько наносной и чем-то напоминающей псевдодилеммы «материализма» и «идеализма». По меньшей мере, для феноменологически выверенного взгляда никакого противоречия между (интер)субъективным полем значений и объективной вещностью социальных институтов не существует, на чем настаивают Бергер и Лукман во введении к «Социальному конструированию реальности»:
Редкий националист не сталкивался с утверждением о том, что его нации не существует. Это утверждение не стоит относить на счет исключительно местной – например, русской – специфики. Оно в высшей степени типично и характеризует восприятие национализма как такового. Национализм слывет фальсификатором и фантазером, который помнит то, чего не было, и забывает то, что было. Эту причудливую избирательность – впрочем, неизбежную для человеческой памяти, что личной, что исторической – отчасти признают и сами националисты. Нация есть сложный баланс между коллективным опытом воспоминания и коллективным опытом забвения, – говорил Эрнест Ренан. Вероятно, именно поэтому среди историков преобладает убеждение, что их исследование наций и национализмов не может не быть критическим. Даже те из них, кто не тщится атаковать сложившиеся «воспоминания», считают своим долгом патетически предъявлять забытое, кропотливо растревоживая все то, что полагалось единым.
Понятно, что сложные отношения между национальным сознанием и исторической наукой – частный случай отношений между «историей» и «жизнью», в том смысле, в каком говорил о них великий современник Ренана по другую сторону Рейна. Из более свежих источников стоит упомянуть англичанина Энтони Смита и его статью «Национализм и историки». В самом ее названии обозначен подспудный антагонизм, который по ходу изложения осторожно выводится автором на свет. Смит ставит целью воссоздать некоторые исследовательские стереотипы, применяемые к национализму, и фокусируется по преимуществу на тех из них, что присущи адептам «конструктивистского» подхода, ибо, как известно, таковых среди его коллег большинство.
Конструктивизм стал большой модой и в российском исследовательском сообществе, где он считается элементом хорошего академического и политического тона. Помню, как в статье от 93-го года Валерий Тишков знакомил неискушенного постсоветского читателя с тенденциями передового обществоведения, повествуя о двух подходах к интерпретации этнических феноменов: "Для примордиалистов существуют и как бы совершают свой независимый от субъективного восприятия путь некие объективные общности с присущими им чертами в виде территории, языка, осознаваемого членства и даже общего психического склада". Такой подход бытовал, главным образом, в советской традиции и, как не трудно догадаться, должен быть преодолен критической тенденцией конструктивизма, который рассматривает этническое чувство, не говоря уж о формулируемых в его контексте мифах и доктринах, как "интеллектуальный конструкт, как результат целенаправленных усилий верхушечного слоя".
Трудно не отметить, что с точки зрения методологии социального знания сама альтернатива выглядит несколько наносной и чем-то напоминающей псевдодилеммы «материализма» и «идеализма». По меньшей мере, для феноменологически выверенного взгляда никакого противоречия между (интер)субъективным полем значений и объективной вещностью социальных институтов не существует, на чем настаивают Бергер и Лукман во введении к «Социальному конструированию реальности»:
“
Именно двойственный характер общества в терминах объективной фактичности и субъективных значений придает ей характер "реальности sui generis"… И значит, главный для социологической теории вопрос может быть поставлен так: каким образом субъективные значения становятся объективной фактичностью?"
Социология освобождения
Впрочем, было бы наивно считать, будто феноменология столь простым движением снимает антагонизм, ведь ясно, что совсем не в методологии социального знания укоренена энергия конструктивистской критики. Методология вообще не повод для пафоса, но даже при беглом чтении конструктивистской литературы пафос будет обнаружен в достаточной мере. Вероятно, саму эту литературу, что, собственно, и имеет в виду Смит в своей статье об «историках», следовало бы рассмотреть как особого рода социальный факт, факт сознания определенных сообществ, богатый политическими и культурными предпосылками.
Первое, что может быть обнаружено при таком взгляде, - это, конечно, отчетливо механистический стиль мышления конструктивистов, коль скоро они и впрямь склонны рассматривать национальные и подчас даже этнические образования как «результат целенаправленных усилий» со стороны заинтересованных элит - в лице, по преимуществу, романтически настроенных интеллектуалов, цинически настроенных политических дельцов, маниакально настроенных маленьких фюреров. Если это инструменталистское воззрение и не лишено известного обаяния и наглядности, то, очевидно, лишь благодаря сегодняшней атмосфере отчуждения и аномии. В эпохи упадка самомнение «коррумпированных» элит бывает особенно высоким, и соблазн десубстанционализировать общество, сводя его к схематике манипулятивных игр, оказывается особенно велик.
Конструктивизм, сколь бы ни отталкивающим было подобное сопоставление, принадлежит в этом смысле той же выражающей дух времени тенденции, что и «гендерные исследования», стратегия которых общеизвестна: «обнаруживая», что пол является социологическим артефактом (результатом «внедренных» моделей восприятия), они незамедлительно обрастают эмансипаторским пафосом и поступают на вооружение активистов «лиги сексуальных реформ». Как на примере этнополитического конструктивизма, так и на примере гендерных исследований мы можем наблюдать действие своего рода «социологии освобождения», «раскрепощающей» индивида посредством критики тех онтологических представлений, в которые он с рождения вовлечен.
К их числу относятся представления о национальности, о поле, о родстве, и все они объединены обращенным к человеку внутренним принципом: ты сначала принадлежишь и лишь потом выбираешь. Собранные в своем жестком ядре из подобных представлений, человеческие сообщества являются великими агрегатами «крепостного права». И, без сомнения, таковыми пребудут, несмотря на все усилия эмансипаторов.
Впрочем, было бы наивно считать, будто феноменология столь простым движением снимает антагонизм, ведь ясно, что совсем не в методологии социального знания укоренена энергия конструктивистской критики. Методология вообще не повод для пафоса, но даже при беглом чтении конструктивистской литературы пафос будет обнаружен в достаточной мере. Вероятно, саму эту литературу, что, собственно, и имеет в виду Смит в своей статье об «историках», следовало бы рассмотреть как особого рода социальный факт, факт сознания определенных сообществ, богатый политическими и культурными предпосылками.
Первое, что может быть обнаружено при таком взгляде, - это, конечно, отчетливо механистический стиль мышления конструктивистов, коль скоро они и впрямь склонны рассматривать национальные и подчас даже этнические образования как «результат целенаправленных усилий» со стороны заинтересованных элит - в лице, по преимуществу, романтически настроенных интеллектуалов, цинически настроенных политических дельцов, маниакально настроенных маленьких фюреров. Если это инструменталистское воззрение и не лишено известного обаяния и наглядности, то, очевидно, лишь благодаря сегодняшней атмосфере отчуждения и аномии. В эпохи упадка самомнение «коррумпированных» элит бывает особенно высоким, и соблазн десубстанционализировать общество, сводя его к схематике манипулятивных игр, оказывается особенно велик.
Конструктивизм, сколь бы ни отталкивающим было подобное сопоставление, принадлежит в этом смысле той же выражающей дух времени тенденции, что и «гендерные исследования», стратегия которых общеизвестна: «обнаруживая», что пол является социологическим артефактом (результатом «внедренных» моделей восприятия), они незамедлительно обрастают эмансипаторским пафосом и поступают на вооружение активистов «лиги сексуальных реформ». Как на примере этнополитического конструктивизма, так и на примере гендерных исследований мы можем наблюдать действие своего рода «социологии освобождения», «раскрепощающей» индивида посредством критики тех онтологических представлений, в которые он с рождения вовлечен.
К их числу относятся представления о национальности, о поле, о родстве, и все они объединены обращенным к человеку внутренним принципом: ты сначала принадлежишь и лишь потом выбираешь. Собранные в своем жестком ядре из подобных представлений, человеческие сообщества являются великими агрегатами «крепостного права». И, без сомнения, таковыми пребудут, несмотря на все усилия эмансипаторов.
Санитары этногенеза
Однако нельзя не признать, что некоторые деформации вследствие прикладываемых усилий все же возможны, тем более что собственно политические амбиции конструктивизма не составляют секрета. Критические историки «наций и национализма», как правило, полны благонамеренной решимости содействовать прогрессу этнонациональных нравов, понимаемому в духе смягчения оных.
Однако нельзя не признать, что некоторые деформации вследствие прикладываемых усилий все же возможны, тем более что собственно политические амбиции конструктивизма не составляют секрета. Критические историки «наций и национализма», как правило, полны благонамеренной решимости содействовать прогрессу этнонациональных нравов, понимаемому в духе смягчения оных.
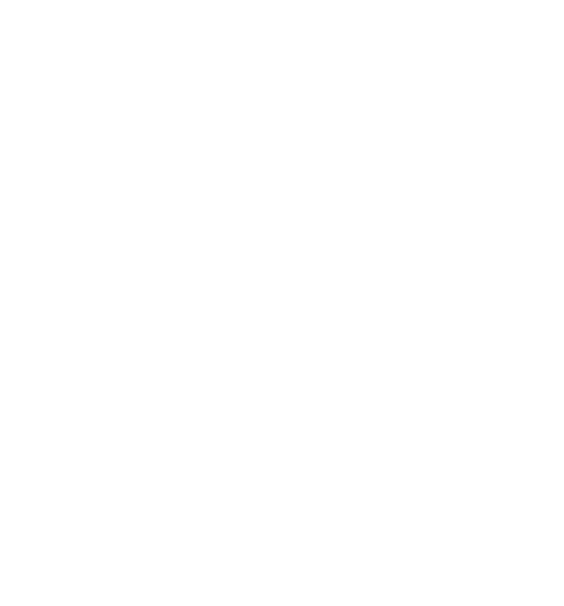
Тот же Валерий Тишков, со ссылкой на одного из зарубежных коллег, пишет: "понимание того, что этничность есть социальная конструкция, дает больше возможности через такое же сконструированное символическое действие посредничать в политических и социо-культурных взаимодействиях между и внутри этнических групп". Лозунг, как видим, гласит: Мы конструктивисты - так давайте же конструировать во благо! Или, в административном поле: так дайте же нам конструировать во благо!
Вот, казалось бы, конек критических историков этничности, однако, увы, именно его они не в силах объездить. За все последние годы дело «конструирования» искомой, то есть «безопасной», конфигурации этнонациональных идентичностей так и не пошло дальше разговоров о вреде ксенофобии. Просветительная проповедь этнического безразличия («терпимости») способна лишь усугубить апатию там, где она уже имеет место, но никак не охладить «национальные воображения» там, где они действительно разогреты и где границы «своего» и «чужого» обладают мощью жизненной очевидности.
Подобно тому, как «восстанием» историк назовет неудавшуюся революцию, конструктивист своей критикой «фиктивных идентичностей» уязвит лишь неудавшуюся нацию. Конструктивистская критика, сколь бы серьезной она ни была, настигает попытки этнонациональной символической мобилизации лишь в той мере, в какой они оказываются безуспешными и беспочвенными. То есть постольку, поскольку они не подкреплены настоящей творческой мощью коллективного воображения, и именно оттого субъективны, натянуты, манипулятивны, волюнтаристичны.
В этом смысле конструктивисты даже могут быть полезны. Полезны как избирательные «деконструктивисты». Они санитары этногенеза, помогающие «природе» отсеивать анемичные промежуточные формы. За примерами далеко ходить не будем. Можно вспомнить об активистах «Ингерманландии» или «казачьей идеи» (в ее этносепаратистском изводе) или о любых других энтузиастах альтернативной этноистории, которые сродни, если воспользоваться образом Ницше, наихудшему типу мужчин: как магнит, тянут, но вести за собой не могут.
«Изобретение» или «пробуждение»?
Иными словами, конструктивизм куда более адекватен там, где национализм дает сбой, а не там, где он действительно работает. Это бессилие перед лицом того, что, казалось бы, должно быть наиболее интересно науке – перед лицом формул исторического успеха национализма – вызвано тем, что перед нами не просто наука, но идеология, т.е. наука, оснащенная ложной претензией «преодолеть» свой предмет.
«…Хобсбаум и Рейнджер совершенно правы, говоря об изобретенном характере многих национальных традиций, – отмечает по этому поводу здравомыслящий Крейг Калхун. – Большие сомнения вызывает идея о том, что раскрытие изобретения делает традиции несостоятельными». Это касается не только отдельных традиций, но и самого их носителя – собственно нации, «рукотворный» характер которой не может служить аргументом против ее подлинности.
Известный слоган «конструктивизма» - тезис Геллнера о том, что национализм создает нации, а не наоборот, - еще не несет в себе ничего разоблачительного. Напротив, он вполне может быть истолкован в духе националистической теории. Определив нацию как приведенный к «историческому бодрствованию» народ, мы будем вправе утверждать, что именно акт действенного самосознания, каковым претендует быть национализм, и создает собственно нацию (то есть превращает нацию-в-себе в нацию-для-себя).
Вообще, национализм как таковой необходимо включает в себя конструктивистский посыл. Он «знает» о том, сколь многое он привносит в действительность «народной жизни». Сколь многое нужно в нее привнести. Это знание неотъемлемо от его заботы. Поэтому его не удивишь утверждением о том, что «создает» нации именно он.
Однако у Геллнера есть более жесткая редакция тезиса, которая прямо исключает возможность такого прочтения. "Национализм не есть пробуждение наций к самосознанию: он изобретает нации там, где их не существует," – постулировав это, историк впадает в мифологию более дурную, чем та, против которой он восстает. Ведь фиксировать «отсутствие», вообще говоря, методологически сложнее, чем фиксировать «присутствие».
Действительно, никакого внятного комплекса национальной идентификации в среде тех, кто в следующий исторический миг возопит о своем единстве, может в принципе не наблюдаться. Это с легкостью признает и националистическая теория. Но нельзя отрицать - и Геллнер не отрицает, - что «первый националист» (если согласиться вообразить такую фигуру) находит уже существующим определенный набор дифференцирующих признаков, на основе которых будет создана его перерастающая в политическое требование стилизация. Больше того, он находит уже очерченным (то есть достаточно «очевидным») круг тех, к кому он обратится со своим политическим требованием «единства», «самоуправления», «индивидуальной ответственности за общую судьбу» и т.д. Он находит, одним словом, определенную реальность, достаточно богатую для того, чтобы при благоприятном случае «ожить»: но следует ли считать ее готовым народом (бессознательной формой жизни, «нацией-в-себе») или же «строительным материалом», наподобие полена Папы-Карло? Будет ли «пришествие национализма» моментом «пробуждения» или «изобретения»?
Это лежит вне компетенции ученого.
Это вопрос не истины, а стиля - того самого, о котором говорит Бенедикт Андерсон в «Воображаемых сообществах»: "на самом деле, все сообщества крупнее первобытных деревень... - воображаемые. Сообщества следует различать не по их ложности/подлинности, а по тому стилю, в котором они воображаются". Эти слова сказаны в контексте полемики с Геллнером, но есть ощущение, что и сам Андерсон не вполне раскрывает их эпистемологический потенциал и не вполне соответствует ему.
Да, мы должны вести ориентировку по стилям, в которых работают агрегаты коллективного воображения, и это значит, в частности, что мы должны принимать сообщества такими, каковы они есть – то есть, истолковывать их в строгом соответствии с теми формами «явленности», посредством которых они себя воспроизводят. Что касается наций, они не могут «воображать» (воспроизводить) себя иначе, чем (пред)полагая себя в качестве реальных; постулируя предшествующую выбору принадлежность, предшествующую сознанию субстанциальность; предпочитая виталистические метафоры («пробуждение») механистическим («изобретение») при описании моментов собственной активизации.
Ничего не поделаешь, таков специфический стиль «национального проектирования». Таковы законы этого жанра.
На долю методологов остается лишь один вопрос: если нация – «воображаемое сообщество», то может ли ученый мыслить нацию иначе, чем воображая ее заодно со всеми? Я полагаю, что ответ может быть только отрицательным.
Вот, казалось бы, конек критических историков этничности, однако, увы, именно его они не в силах объездить. За все последние годы дело «конструирования» искомой, то есть «безопасной», конфигурации этнонациональных идентичностей так и не пошло дальше разговоров о вреде ксенофобии. Просветительная проповедь этнического безразличия («терпимости») способна лишь усугубить апатию там, где она уже имеет место, но никак не охладить «национальные воображения» там, где они действительно разогреты и где границы «своего» и «чужого» обладают мощью жизненной очевидности.
Подобно тому, как «восстанием» историк назовет неудавшуюся революцию, конструктивист своей критикой «фиктивных идентичностей» уязвит лишь неудавшуюся нацию. Конструктивистская критика, сколь бы серьезной она ни была, настигает попытки этнонациональной символической мобилизации лишь в той мере, в какой они оказываются безуспешными и беспочвенными. То есть постольку, поскольку они не подкреплены настоящей творческой мощью коллективного воображения, и именно оттого субъективны, натянуты, манипулятивны, волюнтаристичны.
В этом смысле конструктивисты даже могут быть полезны. Полезны как избирательные «деконструктивисты». Они санитары этногенеза, помогающие «природе» отсеивать анемичные промежуточные формы. За примерами далеко ходить не будем. Можно вспомнить об активистах «Ингерманландии» или «казачьей идеи» (в ее этносепаратистском изводе) или о любых других энтузиастах альтернативной этноистории, которые сродни, если воспользоваться образом Ницше, наихудшему типу мужчин: как магнит, тянут, но вести за собой не могут.
«Изобретение» или «пробуждение»?
Иными словами, конструктивизм куда более адекватен там, где национализм дает сбой, а не там, где он действительно работает. Это бессилие перед лицом того, что, казалось бы, должно быть наиболее интересно науке – перед лицом формул исторического успеха национализма – вызвано тем, что перед нами не просто наука, но идеология, т.е. наука, оснащенная ложной претензией «преодолеть» свой предмет.
«…Хобсбаум и Рейнджер совершенно правы, говоря об изобретенном характере многих национальных традиций, – отмечает по этому поводу здравомыслящий Крейг Калхун. – Большие сомнения вызывает идея о том, что раскрытие изобретения делает традиции несостоятельными». Это касается не только отдельных традиций, но и самого их носителя – собственно нации, «рукотворный» характер которой не может служить аргументом против ее подлинности.
Известный слоган «конструктивизма» - тезис Геллнера о том, что национализм создает нации, а не наоборот, - еще не несет в себе ничего разоблачительного. Напротив, он вполне может быть истолкован в духе националистической теории. Определив нацию как приведенный к «историческому бодрствованию» народ, мы будем вправе утверждать, что именно акт действенного самосознания, каковым претендует быть национализм, и создает собственно нацию (то есть превращает нацию-в-себе в нацию-для-себя).
Вообще, национализм как таковой необходимо включает в себя конструктивистский посыл. Он «знает» о том, сколь многое он привносит в действительность «народной жизни». Сколь многое нужно в нее привнести. Это знание неотъемлемо от его заботы. Поэтому его не удивишь утверждением о том, что «создает» нации именно он.
Однако у Геллнера есть более жесткая редакция тезиса, которая прямо исключает возможность такого прочтения. "Национализм не есть пробуждение наций к самосознанию: он изобретает нации там, где их не существует," – постулировав это, историк впадает в мифологию более дурную, чем та, против которой он восстает. Ведь фиксировать «отсутствие», вообще говоря, методологически сложнее, чем фиксировать «присутствие».
Действительно, никакого внятного комплекса национальной идентификации в среде тех, кто в следующий исторический миг возопит о своем единстве, может в принципе не наблюдаться. Это с легкостью признает и националистическая теория. Но нельзя отрицать - и Геллнер не отрицает, - что «первый националист» (если согласиться вообразить такую фигуру) находит уже существующим определенный набор дифференцирующих признаков, на основе которых будет создана его перерастающая в политическое требование стилизация. Больше того, он находит уже очерченным (то есть достаточно «очевидным») круг тех, к кому он обратится со своим политическим требованием «единства», «самоуправления», «индивидуальной ответственности за общую судьбу» и т.д. Он находит, одним словом, определенную реальность, достаточно богатую для того, чтобы при благоприятном случае «ожить»: но следует ли считать ее готовым народом (бессознательной формой жизни, «нацией-в-себе») или же «строительным материалом», наподобие полена Папы-Карло? Будет ли «пришествие национализма» моментом «пробуждения» или «изобретения»?
Это лежит вне компетенции ученого.
Это вопрос не истины, а стиля - того самого, о котором говорит Бенедикт Андерсон в «Воображаемых сообществах»: "на самом деле, все сообщества крупнее первобытных деревень... - воображаемые. Сообщества следует различать не по их ложности/подлинности, а по тому стилю, в котором они воображаются". Эти слова сказаны в контексте полемики с Геллнером, но есть ощущение, что и сам Андерсон не вполне раскрывает их эпистемологический потенциал и не вполне соответствует ему.
Да, мы должны вести ориентировку по стилям, в которых работают агрегаты коллективного воображения, и это значит, в частности, что мы должны принимать сообщества такими, каковы они есть – то есть, истолковывать их в строгом соответствии с теми формами «явленности», посредством которых они себя воспроизводят. Что касается наций, они не могут «воображать» (воспроизводить) себя иначе, чем (пред)полагая себя в качестве реальных; постулируя предшествующую выбору принадлежность, предшествующую сознанию субстанциальность; предпочитая виталистические метафоры («пробуждение») механистическим («изобретение») при описании моментов собственной активизации.
Ничего не поделаешь, таков специфический стиль «национального проектирования». Таковы законы этого жанра.
На долю методологов остается лишь один вопрос: если нация – «воображаемое сообщество», то может ли ученый мыслить нацию иначе, чем воображая ее заодно со всеми? Я полагаю, что ответ может быть только отрицательным.
Наука и жизнь
Но в таком случае, исследование нации как таковой оказывается возможным лишь в системе координат «методологического национализма» (если понимать под последним первичное, заложенное в донаучном опыте, членение мира в национальных категориях). И «личное мнение» ученого, каковым бы оно ни было, мало что меняет в этом факте.
Подчас, пусть и косвенно, это признают некоторые конструктивистски настроенные исследователи. Так, Владимир Малахов пишет о том, что «историцизм в исследовании национализма имплицитно националистичен» и приводит в качестве примера националистической историографии исследование Отто Данна «Нации и национализм в Германии», вся «националистичность» которого состоит в том, что его автор, максимально дистанцируясь от национализма как идеологии, тем не менее, говорит о нации как исторически становящейся реальности.
Но в таком случае, исследование нации как таковой оказывается возможным лишь в системе координат «методологического национализма» (если понимать под последним первичное, заложенное в донаучном опыте, членение мира в национальных категориях). И «личное мнение» ученого, каковым бы оно ни было, мало что меняет в этом факте.
Подчас, пусть и косвенно, это признают некоторые конструктивистски настроенные исследователи. Так, Владимир Малахов пишет о том, что «историцизм в исследовании национализма имплицитно националистичен» и приводит в качестве примера националистической историографии исследование Отто Данна «Нации и национализм в Германии», вся «националистичность» которого состоит в том, что его автор, максимально дистанцируясь от национализма как идеологии, тем не менее, говорит о нации как исторически становящейся реальности.
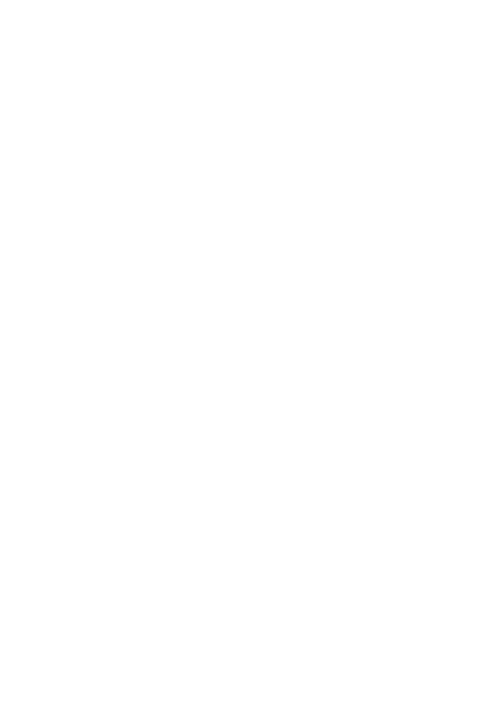
Собственно, считать свой предмет реальным вполне естественно для ученого, даже в том случае (а быть может, особенно в том случае), если он видит свою миссию в его «разоблачении». В конце концов, обыденное знание (в которое «вшито» представление о естественности национальных различий) является фоном и внутренним условием социально-научного.
Но связь между национальным сознанием и исторической наукой несколько глубже. История, как учат нас теоретики «наук о духе», пишется лишь тогда, когда мы способны отличать существенное от несущественного. "Из необозримой массы индивидуальных, т.е. разнородных, объектов, - пишет Генрих Риккерт, - историк останавливает свое внимание… только на тех, которые в своем индивидуальном своеобразии или сами воплощают в себе культурные ценности или стоят к ним в некотором отношении". Иными словами, без ответа на вопрос «что значимо?» история как наука немыслима, но этот ответ не может быть дан изнутри самой науки.
И если речь идет об историческом «нациеведении», то оно, волей-неволей, получает этот ответ изнутри национального сознания в его донаучной форме. В конце концов, что еще могло бы служить вместилищем риккертовских «культурных ценностей»?
Впрочем, на мой взгляд, точнее и честнее говорить здесь не о тех ценностях, что по-кантиански отделены от действительности, а о тех ценностях, которые погружены в самую ее сердцевину. То есть – о мифах в широком понимании. И сколь бы не стремилась наука диссоциировать мифы, они и в ней самой продолжают существовать в превращенной форме. С этой точки зрения, концепцию «воображаемых сообществ», претендующую обнажить анатомию национального мифа, можно оценить в точности так же, как Леви-Стросс оценил фрейдовскую «анатомию» мифа об Эдипе: «вот еще один из возможных пересказов этого мифа».
Тот факт, что исследователь самим актом мышления соучаствует в социальном конструировании тех реальностей, с которыми он имеет дело, должен быть по достоинству оценен.
По мере своего обнаружения, этот факт последовательно уничтожает демаркационную черту между социальной феноменологией и социальной онтологией. Своеобразный круг «самопреодоления» феноменологического подхода к обществу уже давно не составляет секрета. Социальная феноменология, как и любая другая, начинает с заключения реальности в кавычки, с требования фиксировать действительность не иначе, чем в качестве набора данностей «жизненного мира». Но довольно скоро становится ясно, что сам опыт «жизненного мира» немыслим без т.н. «естественной установки», то есть без склонности «овеществлять» этот опыт; что сама структура «данности» содержит в себе слой «некритических» допущений о структуре «действительности» - устранить которые можно лишь ценой разрушения социальных «феноменов». Поскольку без них «феноменология» сомнительна, ей не остается ничего иного, кроме как «раскавычивать» реальность обратно и выстраивать себя как онтологию.
Не значит ли это, что всякому вольно сразу начать с «онтологии»? Вряд ли. Во-первых, потому, что в этом случае «онтолог» станет легкой добычей «гносеолога» (как «наивный» националист становится легкой добычей конструктивиста). Во-вторых, потому что этот «круг» никогда не может быть пройден раз и навсегда. В каждом конкретном случае он должен быть воспроизведен заново, и пусть наблюдатель считает свой труд увенчанным всякий раз, когда с чистой совестью возвращает себе назад ту реальность, которую накануне отпустил от себя. Пусть, согласно известному выражению, он ощутит себя ее пастухом.
О чем следует молчать?
Говоря о формах национального воображения, Андерсон фиксирует лежащую на поверхности, но не оцененную в должной мере деталь: "у современной культуры национализма нет более захватывающих символов, чем монументы и могилы Неизвестного солдата... Чтобы почувствовать всю силу этой современности, достаточно представить реакцию окружающих на этакого любознательного эрудита, который бы "раскрыл" имя Неизвестного солдата или стал настойчиво требовать, чтобы в могилу положили настоящие кости".
В образе «любознательного эрудита» без труда различимы все те, кто, подобно Хобсбауму, «занудстсвует»: "национализм требует слишком большой веры в то, что явно обстоит совсем не так".
В этом отношении, могила неизвестного солдата представляет собой не только культурный символ современной нации, но ее удивительно точную эпистемологическую метафору, наглядный ответ скептикам, которые спрашивают о подлинности образующих нацию признаков или воспоминаний. Присущая нации действительность зависит не от того, лежат ли в могиле «настоящие кости», а от того, горит ли здесь вечный огонь, стоит ли на посту часовой.
Национализм, как и любая другая идеология (или «культурная система» – в терминах Андерсона), стремится к такой разметке пространства, в которой даже молчание будет значимым, как значимо молчание почетного караула. И в приводимом Андерсоном примере ему это удается. В самом деле, если в структуре этого мифа мы обнаруживаем фигуру умолчания, если возвышенный смысл вдруг оказывается пристегнут к неизвестности, к переменной «х», то подобное возможно лишь оттого, что всякая переменная должна быть задана на некоем множестве. Пафос по поводу Неизвестного солдата - это пафос по поводу безотчетного консенсуса о множестве, на котором задана переменная. (К примеру, о неизвестном солдате, лежащем у кремлевской стены, известно, по меньшей мере, что он не является солдатом союзнических войск.) Пафос по поводу того, что каждый "из нас" уже лежит на его месте. По поводу того, что не нуждается в пояснениях.
Национализм вообще наиболее силен там, где освоено искусство совместного молчания о главном. Суть дела выразил, как обычно, фронтовик Юнгер: "В неизвестных солдатах недостатка нет. Важнее та неизвестная страна, о существовании которой не нужно договариваться".
Но связь между национальным сознанием и исторической наукой несколько глубже. История, как учат нас теоретики «наук о духе», пишется лишь тогда, когда мы способны отличать существенное от несущественного. "Из необозримой массы индивидуальных, т.е. разнородных, объектов, - пишет Генрих Риккерт, - историк останавливает свое внимание… только на тех, которые в своем индивидуальном своеобразии или сами воплощают в себе культурные ценности или стоят к ним в некотором отношении". Иными словами, без ответа на вопрос «что значимо?» история как наука немыслима, но этот ответ не может быть дан изнутри самой науки.
И если речь идет об историческом «нациеведении», то оно, волей-неволей, получает этот ответ изнутри национального сознания в его донаучной форме. В конце концов, что еще могло бы служить вместилищем риккертовских «культурных ценностей»?
Впрочем, на мой взгляд, точнее и честнее говорить здесь не о тех ценностях, что по-кантиански отделены от действительности, а о тех ценностях, которые погружены в самую ее сердцевину. То есть – о мифах в широком понимании. И сколь бы не стремилась наука диссоциировать мифы, они и в ней самой продолжают существовать в превращенной форме. С этой точки зрения, концепцию «воображаемых сообществ», претендующую обнажить анатомию национального мифа, можно оценить в точности так же, как Леви-Стросс оценил фрейдовскую «анатомию» мифа об Эдипе: «вот еще один из возможных пересказов этого мифа».
Тот факт, что исследователь самим актом мышления соучаствует в социальном конструировании тех реальностей, с которыми он имеет дело, должен быть по достоинству оценен.
По мере своего обнаружения, этот факт последовательно уничтожает демаркационную черту между социальной феноменологией и социальной онтологией. Своеобразный круг «самопреодоления» феноменологического подхода к обществу уже давно не составляет секрета. Социальная феноменология, как и любая другая, начинает с заключения реальности в кавычки, с требования фиксировать действительность не иначе, чем в качестве набора данностей «жизненного мира». Но довольно скоро становится ясно, что сам опыт «жизненного мира» немыслим без т.н. «естественной установки», то есть без склонности «овеществлять» этот опыт; что сама структура «данности» содержит в себе слой «некритических» допущений о структуре «действительности» - устранить которые можно лишь ценой разрушения социальных «феноменов». Поскольку без них «феноменология» сомнительна, ей не остается ничего иного, кроме как «раскавычивать» реальность обратно и выстраивать себя как онтологию.
Не значит ли это, что всякому вольно сразу начать с «онтологии»? Вряд ли. Во-первых, потому, что в этом случае «онтолог» станет легкой добычей «гносеолога» (как «наивный» националист становится легкой добычей конструктивиста). Во-вторых, потому что этот «круг» никогда не может быть пройден раз и навсегда. В каждом конкретном случае он должен быть воспроизведен заново, и пусть наблюдатель считает свой труд увенчанным всякий раз, когда с чистой совестью возвращает себе назад ту реальность, которую накануне отпустил от себя. Пусть, согласно известному выражению, он ощутит себя ее пастухом.
О чем следует молчать?
Говоря о формах национального воображения, Андерсон фиксирует лежащую на поверхности, но не оцененную в должной мере деталь: "у современной культуры национализма нет более захватывающих символов, чем монументы и могилы Неизвестного солдата... Чтобы почувствовать всю силу этой современности, достаточно представить реакцию окружающих на этакого любознательного эрудита, который бы "раскрыл" имя Неизвестного солдата или стал настойчиво требовать, чтобы в могилу положили настоящие кости".
В образе «любознательного эрудита» без труда различимы все те, кто, подобно Хобсбауму, «занудстсвует»: "национализм требует слишком большой веры в то, что явно обстоит совсем не так".
В этом отношении, могила неизвестного солдата представляет собой не только культурный символ современной нации, но ее удивительно точную эпистемологическую метафору, наглядный ответ скептикам, которые спрашивают о подлинности образующих нацию признаков или воспоминаний. Присущая нации действительность зависит не от того, лежат ли в могиле «настоящие кости», а от того, горит ли здесь вечный огонь, стоит ли на посту часовой.
Национализм, как и любая другая идеология (или «культурная система» – в терминах Андерсона), стремится к такой разметке пространства, в которой даже молчание будет значимым, как значимо молчание почетного караула. И в приводимом Андерсоном примере ему это удается. В самом деле, если в структуре этого мифа мы обнаруживаем фигуру умолчания, если возвышенный смысл вдруг оказывается пристегнут к неизвестности, к переменной «х», то подобное возможно лишь оттого, что всякая переменная должна быть задана на некоем множестве. Пафос по поводу Неизвестного солдата - это пафос по поводу безотчетного консенсуса о множестве, на котором задана переменная. (К примеру, о неизвестном солдате, лежащем у кремлевской стены, известно, по меньшей мере, что он не является солдатом союзнических войск.) Пафос по поводу того, что каждый "из нас" уже лежит на его месте. По поводу того, что не нуждается в пояснениях.
Национализм вообще наиболее силен там, где освоено искусство совместного молчания о главном. Суть дела выразил, как обычно, фронтовик Юнгер: "В неизвестных солдатах недостатка нет. Важнее та неизвестная страна, о существовании которой не нужно договариваться".
Опубликовано на портале apn.ru, 29 апреля 2010 года
