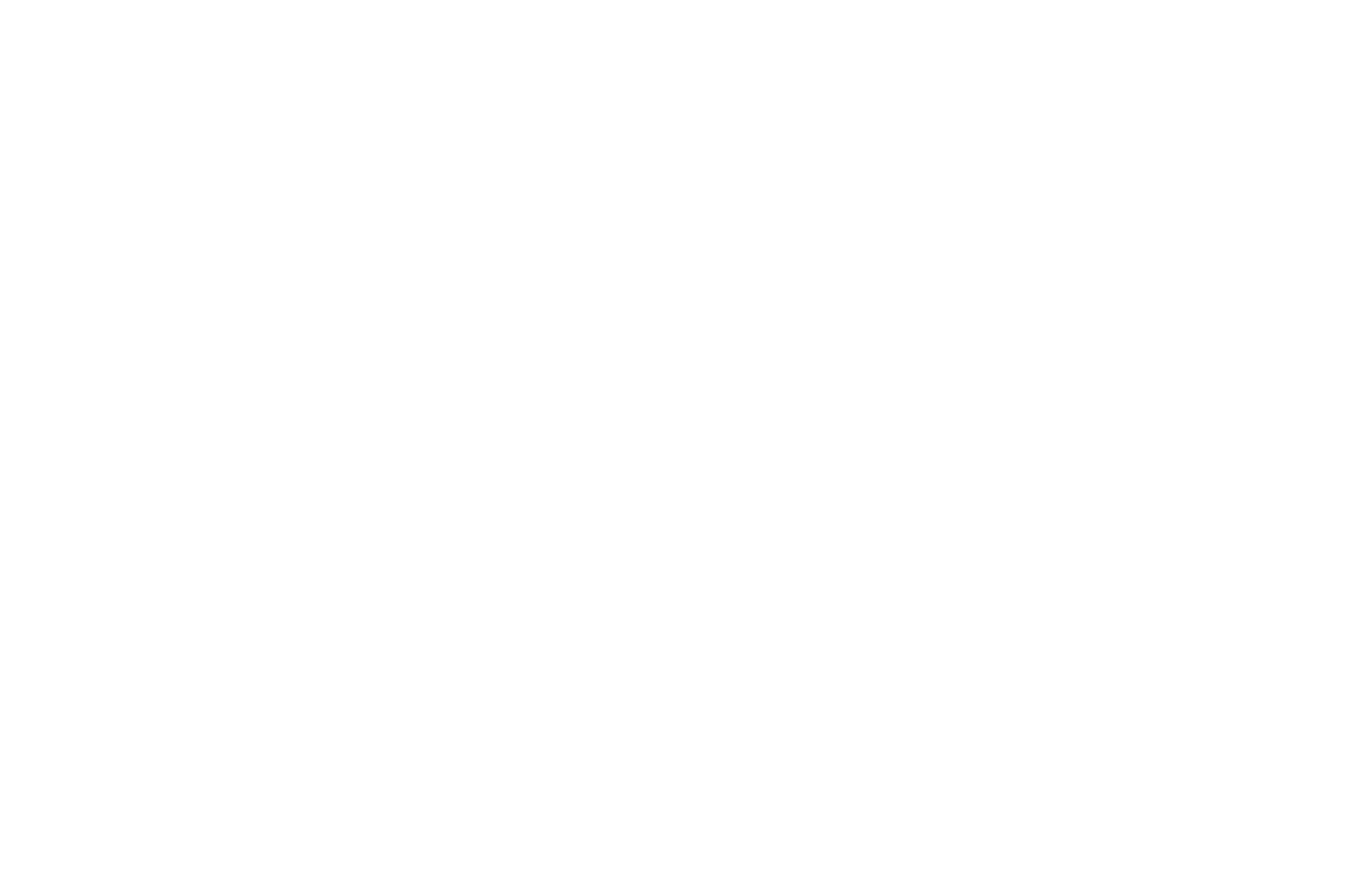Триумф безволия
Инновационный призыв Кремля пока не побудил нашу общественную мысль мечтать вслух о городе солнца, зато вызвал очередную волну дискуссии между сторонниками «авторитарной» и «демократической» модернизации. Вероятно, все решили, что устремляться помыслами в будущее, не разобравшись с оппонентами, значило бы опрометчиво оголять тылы. И это резонно. С оппонентами действительно стоило бы разобраться. Причем, по возможности, с обеими сторонами разом.
Дело в том, что в некоторых ключевых моментах идеологи обеих платформ оказываются друг к другу значительно ближе, чем… к модернизации.
Показать это было бы проще всего на примере их программных деклараций. Ведь именно там, где идеолог излагает свое кредо – в форме рекомендаций, требований, утопических реконструкций или в любой другой форме – он наиболее уязвим. Манифест ИНСОРа, несколько беспомощный в своей конструктивной (как «утопической», так и «рекомендательной») части, показал это со всей возможной наглядностью. Сарказма на этот счет было более чем достаточно, и вряд ли стоит его умножать.
Поскольку модернизация сегодняшней России – дело вообще крайне проблематичное, показать «объективную невозможность», «утопичность», «непродуманность» любой модернизационной программы – что «авторитарной», что «демократической» – слишком просто. И, соответственно, не слишком полезно.
К тому же, ключевые симптомы, фигуры саморазоблачения идеологии проявляются не в ее слабых, а в ее сильных сторонах.
Поэтому я усложню себе задачу. Я возьму для примера не «апологетические тексты» с изложением модернизационной платформы «демократов» и «авторитаристов», а тексты, содержащие их критику в отношении друг друга.
С одной стороны, это, например, серия статей Владислава Иноземцева с резкой критикой «демократических иллюзий» (в том числе, ИНСОРовского доклада). С другой – обстоятельное эссе Владимира Гельмана под многообещающим названием «Тупик авторитарной модернизации».
Дело в том, что в некоторых ключевых моментах идеологи обеих платформ оказываются друг к другу значительно ближе, чем… к модернизации.
Показать это было бы проще всего на примере их программных деклараций. Ведь именно там, где идеолог излагает свое кредо – в форме рекомендаций, требований, утопических реконструкций или в любой другой форме – он наиболее уязвим. Манифест ИНСОРа, несколько беспомощный в своей конструктивной (как «утопической», так и «рекомендательной») части, показал это со всей возможной наглядностью. Сарказма на этот счет было более чем достаточно, и вряд ли стоит его умножать.
Поскольку модернизация сегодняшней России – дело вообще крайне проблематичное, показать «объективную невозможность», «утопичность», «непродуманность» любой модернизационной программы – что «авторитарной», что «демократической» – слишком просто. И, соответственно, не слишком полезно.
К тому же, ключевые симптомы, фигуры саморазоблачения идеологии проявляются не в ее слабых, а в ее сильных сторонах.
Поэтому я усложню себе задачу. Я возьму для примера не «апологетические тексты» с изложением модернизационной платформы «демократов» и «авторитаристов», а тексты, содержащие их критику в отношении друг друга.
С одной стороны, это, например, серия статей Владислава Иноземцева с резкой критикой «демократических иллюзий» (в том числе, ИНСОРовского доклада). С другой – обстоятельное эссе Владимира Гельмана под многообещающим названием «Тупик авторитарной модернизации».
| Начнем с критиков «демократической платформы». Они утверждают, - что только хозяйственный прогресс создаст устойчивую демократию, - что демократизация не влечет сама по себе экономических успехов, - что в отсутствие таковых демократизация непременно даст обратный эффект (болезненного авторитарного отката), - что критически важным для развития и роста экономики является фактор «правопорядка», а не «демократии» как таковой (довод, подтверждаемый фундаментальным исследованием В.Полтеровича и В.Попова...). На мой взгляд, с этими тезисами трудно не согласиться. Но тем интереснее, что из надежных посылок, явно или по умолчанию, делается весьма сомнительный вывод о том, что политические трансформации – не более чем последующая надстройка над базисом экономического развития. «Российская модернизация, если она вообще произойдёт, начнётся с экономики, а не с политических перемен,» - подытоживает в одной из статей Владислав Иноземцев. |
Этот вывод может следовать из вышеприведенных посылок лишь в том случае, если подразумевать под «политическими переменами» и вообще под «политикой» ровно то, что понимают под ней догматические либерал-демократы: свободную выборную конкуренцию, и не более того. Если сводить политическую модернизацию к имитации западной политической системы, в ее абстрактно-усредненном восприятии.
Иными словами, сторонники «авторитарной модернизации» отодвигают в неопределенное будущее политические перемены лишь потому, что по умолчанию принимают взгляд своих оппонентов на их логику, цели и содержание. Между тем, этот взгляд как раз и стоило бы отвергнуть. Следует вести речь не о «модернизации политической системы» в смысле ее подгонки под западный стандарт, а о создании политической системы, пригодной для модернизации. Т.е. способной к запуску и реализации комплексного, планомерного, форсированного проекта развития.
Такая политическая система у нас уже наличествует? Если нет, то разве она может быть создана иначе, чем посредством «политических перемен»?
Кстати, одна из таких перемен уже произошла, что, пожалуй, является одним из главных событий первых двух лет президента Медведева. Я имею в виду признание президентом того, что инерционная модель развития уже в обозримом будущем чревата неприемлемым ущербом для нас как страны и государства. Этот «негативный» политический консенсус – своего рода «точка входа» в модернизацию.
Мы пока, увы, не миновали этот стартовый рубеж: слова президента о том, что смена модели развития – «вопрос выживания», еще не стали политическим консенсусом правящего класса. Как отметил Игорь Шувалов на красноярском форуме, «главное нам до 2020 года продолжить такую жизнь, какую мы прожили за последние 15 лет. Вот что такое модернизация».
Убедить правящую бюрократию в том, что ей предстоит не «продолжить такую жизнь», а «начать новую» – весьма нетривиальная политическая задача стартового этапа модернизации.
И это только первый шаг, за которым должно последовать нечто более сложное. Например, то, о чем говорит в интервью «Ведомостям» Владислав Сурков:
- консолидация правящей элиты вокруг «больших целей» и созидательных «амбиций»,
- «перевоспитание» постсоветского крупного бизнеса в некоторое подобие национального капитала,
- легитимация итогов приватизации на базе политики развития, названная «гармонизацией» отношений бизнеса с обществом,
- новый подход к самому обществу как источнику «созидательной энергии»...
Решение этих и им подобных задач представляло бы собой политику на порядок более сложную, более интенсивную и более, я бы сказал, радикальную, чем самые смелые мечты на тему «политической реформы».
Представить себе, что все это или нечто подобное будет реализовано, весьма сложно. Но представить себе, что модернизация обойдется без этой политической основы, еще сложнее.
И дело в данном случае не в конкретном перечне задач, а в понимании того, что запуск модернизации как своего рода масштабного «нового курса» есть по определению политический процесс. И даже если мы лишены рекомендуемой Сурковым «дерзости» и не мечтаем ни о чем большем, кроме как «дать дорогу технократам», то силами и средствами самих технократов эта задача не может быть не то, что решена, но даже поставлена.
***
Мировой опыт модернизаций это демонстрирует со всей наглядностью. Малайзия в период правления Мохатхира Мохаммада, Тайвань после утверждения у власти Гоминьдана, деголлевская Франция – во всех этих и многих других случаях соответствующие лидеры или партии, возглавившие модернизационный рывок, выступили не просто экономическими реформаторами, но политическими отцами-основателями.
Пожалуй, это относится и к Китаю времен правления Ден Сяопина, чей новый экономический курс стал возможным лишь на базе нового политического курса – «социализма с китайской спецификой», а, по сути, – на базе перехода от коммунизма к китайскому национализму.
Эти и им подобные модернизации важны для истории не тем, что они были «догоняющими» (по отношению к лидирующим странам), а тем, что они носили учредительный характер – для соответствующих государств и даже, отчасти, наций.
Именно такая – «учредительная» – модернизация актуальна для сегодняшней России, как все еще не сложившейся нации, не нашедшей себя (после болезненного распада) страны, не научившегося «владеть собой» государства.
Привести государственный аппарат к ответственности перед политическим руководством страны, консолидировать правящую элиту и нацию вокруг базовых ценностей и первоочередных задач, определить место России в мире, переломить дух апатии и морального разложения – все это и есть политическая сторона модернизации, без которой все остальное, как минимум, не даст нужного эффекта.
И мне сложно представить себе, что эта политическая работа может быть выполнена на базе того идеологического минимализма, который сквозит в манифесте Иноземцева – Титова – Явлинского.
Верхняя планка амбиций, фиксируемая авторами, немногим отличается от илларионовского «догнать Португалию»: они заклинают Россию стать нормальной европейской страной. В качестве образа будущего этот манифест, в точности, как и манифест ИНСОРа, не готов предложить обществу ничего, кроме «всего лишь соблюдения правил, по которым живет цивилизованный мир».
«Нормальность» и «соблюдение правил» – прекрасные буржуазные добродетели, но плохие проводники в будущее. Особенно когда «цивилизованный мир» мучительно вырабатывает новые правила и с беспокойством следит за мутацией всевозможных норм. Но дело не в пресловутом «глобальном кризисе».
Просто, если угодно, отличие «цивилизованного мира» от «нецивилизованного» состоит именно в том, что он воспринимает собственные стандарты не пассивно, как навязанную извне данность, а активно, как продукт собственной – открытой – истории. Как определенный диапазон проблем и решений, диалог «вызовов» и «ответов» с непредрешенным финалом.
Иными словами, сторонники «авторитарной модернизации» отодвигают в неопределенное будущее политические перемены лишь потому, что по умолчанию принимают взгляд своих оппонентов на их логику, цели и содержание. Между тем, этот взгляд как раз и стоило бы отвергнуть. Следует вести речь не о «модернизации политической системы» в смысле ее подгонки под западный стандарт, а о создании политической системы, пригодной для модернизации. Т.е. способной к запуску и реализации комплексного, планомерного, форсированного проекта развития.
Такая политическая система у нас уже наличествует? Если нет, то разве она может быть создана иначе, чем посредством «политических перемен»?
Кстати, одна из таких перемен уже произошла, что, пожалуй, является одним из главных событий первых двух лет президента Медведева. Я имею в виду признание президентом того, что инерционная модель развития уже в обозримом будущем чревата неприемлемым ущербом для нас как страны и государства. Этот «негативный» политический консенсус – своего рода «точка входа» в модернизацию.
Мы пока, увы, не миновали этот стартовый рубеж: слова президента о том, что смена модели развития – «вопрос выживания», еще не стали политическим консенсусом правящего класса. Как отметил Игорь Шувалов на красноярском форуме, «главное нам до 2020 года продолжить такую жизнь, какую мы прожили за последние 15 лет. Вот что такое модернизация».
Убедить правящую бюрократию в том, что ей предстоит не «продолжить такую жизнь», а «начать новую» – весьма нетривиальная политическая задача стартового этапа модернизации.
И это только первый шаг, за которым должно последовать нечто более сложное. Например, то, о чем говорит в интервью «Ведомостям» Владислав Сурков:
- консолидация правящей элиты вокруг «больших целей» и созидательных «амбиций»,
- «перевоспитание» постсоветского крупного бизнеса в некоторое подобие национального капитала,
- легитимация итогов приватизации на базе политики развития, названная «гармонизацией» отношений бизнеса с обществом,
- новый подход к самому обществу как источнику «созидательной энергии»...
Решение этих и им подобных задач представляло бы собой политику на порядок более сложную, более интенсивную и более, я бы сказал, радикальную, чем самые смелые мечты на тему «политической реформы».
Представить себе, что все это или нечто подобное будет реализовано, весьма сложно. Но представить себе, что модернизация обойдется без этой политической основы, еще сложнее.
И дело в данном случае не в конкретном перечне задач, а в понимании того, что запуск модернизации как своего рода масштабного «нового курса» есть по определению политический процесс. И даже если мы лишены рекомендуемой Сурковым «дерзости» и не мечтаем ни о чем большем, кроме как «дать дорогу технократам», то силами и средствами самих технократов эта задача не может быть не то, что решена, но даже поставлена.
***
Мировой опыт модернизаций это демонстрирует со всей наглядностью. Малайзия в период правления Мохатхира Мохаммада, Тайвань после утверждения у власти Гоминьдана, деголлевская Франция – во всех этих и многих других случаях соответствующие лидеры или партии, возглавившие модернизационный рывок, выступили не просто экономическими реформаторами, но политическими отцами-основателями.
Пожалуй, это относится и к Китаю времен правления Ден Сяопина, чей новый экономический курс стал возможным лишь на базе нового политического курса – «социализма с китайской спецификой», а, по сути, – на базе перехода от коммунизма к китайскому национализму.
Эти и им подобные модернизации важны для истории не тем, что они были «догоняющими» (по отношению к лидирующим странам), а тем, что они носили учредительный характер – для соответствующих государств и даже, отчасти, наций.
Именно такая – «учредительная» – модернизация актуальна для сегодняшней России, как все еще не сложившейся нации, не нашедшей себя (после болезненного распада) страны, не научившегося «владеть собой» государства.
Привести государственный аппарат к ответственности перед политическим руководством страны, консолидировать правящую элиту и нацию вокруг базовых ценностей и первоочередных задач, определить место России в мире, переломить дух апатии и морального разложения – все это и есть политическая сторона модернизации, без которой все остальное, как минимум, не даст нужного эффекта.
И мне сложно представить себе, что эта политическая работа может быть выполнена на базе того идеологического минимализма, который сквозит в манифесте Иноземцева – Титова – Явлинского.
Верхняя планка амбиций, фиксируемая авторами, немногим отличается от илларионовского «догнать Португалию»: они заклинают Россию стать нормальной европейской страной. В качестве образа будущего этот манифест, в точности, как и манифест ИНСОРа, не готов предложить обществу ничего, кроме «всего лишь соблюдения правил, по которым живет цивилизованный мир».
«Нормальность» и «соблюдение правил» – прекрасные буржуазные добродетели, но плохие проводники в будущее. Особенно когда «цивилизованный мир» мучительно вырабатывает новые правила и с беспокойством следит за мутацией всевозможных норм. Но дело не в пресловутом «глобальном кризисе».
Просто, если угодно, отличие «цивилизованного мира» от «нецивилизованного» состоит именно в том, что он воспринимает собственные стандарты не пассивно, как навязанную извне данность, а активно, как продукт собственной – открытой – истории. Как определенный диапазон проблем и решений, диалог «вызовов» и «ответов» с непредрешенным финалом.
В этом и только в этом качестве «цивилизованный человек» рассматривает все т.н. «западные стандарты» - будь то «демократия», «права человека» или «рыночная экономика»: находясь внутри соответствующей культуры, он видит ее разнообразие, антиномичность, изменчивость. Единый же и незыблемый «западный стандарт» существует только в сознании туземцев, для которых все европейское – на одно лицо. В роли таких туземцев и выступают подчас российские западники разных мастей.
Несомненно, благодаря своему успеху, они стали больше походить на Запад, в полном соответствии с советом Эдварда Шилза: «модернизироваться значит становиться западными без бремени зависимости от Запада». Вероятно, даже для того, чтобы «стать нормальными», нужно стремиться к чему-то большему.
***
Здесь самое время перейти к доводам другой стороны. Статья Владимира Гельмана хороша как раз тем, что критикует российскую систему власти не за ее несоответствие абстрактным стандартам, а за ее фатальную неоснащенность – инструментами, «приводными ремнями» модернизации.
В качестве таковых он упоминает, на выбор:
- эффективную бюрократию, как у Ли Кван Ю в Сингапуре,
- просвещенных «силовиков», как у Пиночета в Чили (пример Пиночета как модернизатора, на мой взгляд, крайне сомнителен, гораздо уместнее было бы вспомнить о модернизационной роли турецких военных при Ататюрке и его преемниках),
- доминирующую партию, как в современном Китае или Мексике времен правления ИРП.
В каждом случае, автору не составляет труда показать неспособность соответствующих институтов в их нынешнем состоянии быть опорной силой авторитарной модернизации в России.
Бюрократия «в отсутствие политической подотчетности» «заинтересована в сохранении статус-кво, а не модернизации». Иллюзии по поводу модернизационного потенциала наших «силовиков» давно развеялись даже у самых стойких романтиков «милитократии». Что касается «Единой России», то она – и автор говорит об этом на удивление деликатно – «не обладает необходимой для проведения политического курса автономией».
Со всем этим не поспоришь. Но вывод, опять же, возникает из ниоткуда. Автор считает самоочевидным, что «отсутствие у российских властей инструментов для авторитарной социально-экономической модернизации делает подобные попытки бессмысленными».
Делать модернизацию без «инструментов», в самом деле, не с руки. Не буду спрашивать, почему бы «российским властям» не создать недостающие «инструменты», раз таковых нет в наличии. Вероятно, автору будет несложно ответить на этот вопрос, раз уж мы мыслим и действуем в презумпции коллективной безуспешности, о чем уже было сказано выше.
Поэтому вопрос не в том, почему автор считает создание инструментов модернизации делом невозможным, а в том, почему он считает эту невозможность аргументом – именно против авторитаризма?
Ведь демократическая модернизация, если добросовестно представить себе таковую, в ничуть не меньшей степени требует подобных инструментов. Более того, в ситуации сменяемости правящих команд вопрос о субъекте стратегии (способном на длинных отрезках времени ставить и выполнять задачи развития) стоит еще более остро.
Эту роль, по идее, призваны выполнять элитные консорции разного рода, которые могут именоваться «эффективной бюрократией», «национальным капиталом», «партийным активом» или как-то еще и, которые, в самом деле, являются потенциальными субъектами модернизации. Разумеется, в том случае, если они, во-первых, достаточно сильны (поскольку в противном случае о столь обременительном деле не стоит помышлять) и, во-вторых, достаточно лояльны своему обществу (потому что в противном случае всерьез помышлять об этом просто незачем).
Быть может, автор считает, что при демократии подобные агенты формируются автоматически? Но это, во-первых, неочевидно (например, «эффективная бюрократия» – проблема в равной мере сложная, но также и в равной мере решаемая как для демократического, так и для авторитарного режима). Во-вторых, никаких утверждений на этот счет в статье не содержится.
Но если сложность модернизации как таковой оказывается, по определению, сложностью лишь авторитарной модернизации, то не значит ли это, что о демократической модернизации ее сторонники всерьез и не помышляют? Что «демократизация» в их модернизационной концепции играет примерно ту же роль, что стакан молока в анекдоте о контрацепции: не до, не после, а вместо.
***
Как видим, обе платформы оказываются достойны друг друга. Ведь в главном идея о том, что технократы «сами все сделают» вполне аналогична идее, что «невидимая рука» свободных выборов «все расставит по местам». В обоих случаях их сторонники снимают с себя – и с президента, к которому они, как правило, обращаются, – ответственность за решение самого «нерешаемого» вопроса модернизации – о ее политических субъектах.
Неудивительно, что в итоге запуск модернизации буксует.
Выход возможен на двух путях. Либо «авторитарная платформа» преодолевает технократическую утопию и уделяет должное внимание политическим предпосылкам эффективного управления. Либо «демократическая платформа» отказывается от утопии невидимой руки политического рынка и переносит акцент на создание инструментов развития. Демократии, как было сказано, не меньше, чем авторитаризму, нужны «инструменты». А авторитаризму, не меньше, чем демократии, нужна «политика».
Потому что политика есть лишь во вторую очередь способ оформления отношений между правящей элитой и населением. В первую очередь, она есть способ существования и сборки самой правящей элиты.
И если надлежащее «оформление отношений» еще может подождать некоторое время, то «внутренняя сборка» совершенно безотлагательна. Это вопрос наличия той самой «воли», без которой не стоит думать о «чуде».
Кстати, если уж говорить о высоком, «чудом» было бы не заставить цвести собранный вручную сад инноваций. Чудом было бы – создать опорные институты модернизации по ходу модернизационного процесса. Наполеон, когда говорил «ввяжемся в бой, а там посмотрим», по крайней мере, имел армию.
***
Здесь самое время перейти к доводам другой стороны. Статья Владимира Гельмана хороша как раз тем, что критикует российскую систему власти не за ее несоответствие абстрактным стандартам, а за ее фатальную неоснащенность – инструментами, «приводными ремнями» модернизации.
В качестве таковых он упоминает, на выбор:
- эффективную бюрократию, как у Ли Кван Ю в Сингапуре,
- просвещенных «силовиков», как у Пиночета в Чили (пример Пиночета как модернизатора, на мой взгляд, крайне сомнителен, гораздо уместнее было бы вспомнить о модернизационной роли турецких военных при Ататюрке и его преемниках),
- доминирующую партию, как в современном Китае или Мексике времен правления ИРП.
В каждом случае, автору не составляет труда показать неспособность соответствующих институтов в их нынешнем состоянии быть опорной силой авторитарной модернизации в России.
Бюрократия «в отсутствие политической подотчетности» «заинтересована в сохранении статус-кво, а не модернизации». Иллюзии по поводу модернизационного потенциала наших «силовиков» давно развеялись даже у самых стойких романтиков «милитократии». Что касается «Единой России», то она – и автор говорит об этом на удивление деликатно – «не обладает необходимой для проведения политического курса автономией».
Со всем этим не поспоришь. Но вывод, опять же, возникает из ниоткуда. Автор считает самоочевидным, что «отсутствие у российских властей инструментов для авторитарной социально-экономической модернизации делает подобные попытки бессмысленными».
Делать модернизацию без «инструментов», в самом деле, не с руки. Не буду спрашивать, почему бы «российским властям» не создать недостающие «инструменты», раз таковых нет в наличии. Вероятно, автору будет несложно ответить на этот вопрос, раз уж мы мыслим и действуем в презумпции коллективной безуспешности, о чем уже было сказано выше.
Поэтому вопрос не в том, почему автор считает создание инструментов модернизации делом невозможным, а в том, почему он считает эту невозможность аргументом – именно против авторитаризма?
Ведь демократическая модернизация, если добросовестно представить себе таковую, в ничуть не меньшей степени требует подобных инструментов. Более того, в ситуации сменяемости правящих команд вопрос о субъекте стратегии (способном на длинных отрезках времени ставить и выполнять задачи развития) стоит еще более остро.
Эту роль, по идее, призваны выполнять элитные консорции разного рода, которые могут именоваться «эффективной бюрократией», «национальным капиталом», «партийным активом» или как-то еще и, которые, в самом деле, являются потенциальными субъектами модернизации. Разумеется, в том случае, если они, во-первых, достаточно сильны (поскольку в противном случае о столь обременительном деле не стоит помышлять) и, во-вторых, достаточно лояльны своему обществу (потому что в противном случае всерьез помышлять об этом просто незачем).
Быть может, автор считает, что при демократии подобные агенты формируются автоматически? Но это, во-первых, неочевидно (например, «эффективная бюрократия» – проблема в равной мере сложная, но также и в равной мере решаемая как для демократического, так и для авторитарного режима). Во-вторых, никаких утверждений на этот счет в статье не содержится.
Но если сложность модернизации как таковой оказывается, по определению, сложностью лишь авторитарной модернизации, то не значит ли это, что о демократической модернизации ее сторонники всерьез и не помышляют? Что «демократизация» в их модернизационной концепции играет примерно ту же роль, что стакан молока в анекдоте о контрацепции: не до, не после, а вместо.
***
Как видим, обе платформы оказываются достойны друг друга. Ведь в главном идея о том, что технократы «сами все сделают» вполне аналогична идее, что «невидимая рука» свободных выборов «все расставит по местам». В обоих случаях их сторонники снимают с себя – и с президента, к которому они, как правило, обращаются, – ответственность за решение самого «нерешаемого» вопроса модернизации – о ее политических субъектах.
Неудивительно, что в итоге запуск модернизации буксует.
Выход возможен на двух путях. Либо «авторитарная платформа» преодолевает технократическую утопию и уделяет должное внимание политическим предпосылкам эффективного управления. Либо «демократическая платформа» отказывается от утопии невидимой руки политического рынка и переносит акцент на создание инструментов развития. Демократии, как было сказано, не меньше, чем авторитаризму, нужны «инструменты». А авторитаризму, не меньше, чем демократии, нужна «политика».
Потому что политика есть лишь во вторую очередь способ оформления отношений между правящей элитой и населением. В первую очередь, она есть способ существования и сборки самой правящей элиты.
И если надлежащее «оформление отношений» еще может подождать некоторое время, то «внутренняя сборка» совершенно безотлагательна. Это вопрос наличия той самой «воли», без которой не стоит думать о «чуде».
Кстати, если уж говорить о высоком, «чудом» было бы не заставить цвести собранный вручную сад инноваций. Чудом было бы – создать опорные институты модернизации по ходу модернизационного процесса. Наполеон, когда говорил «ввяжемся в бой, а там посмотрим», по крайней мере, имел армию.
Опубликовано в издании «Русский журнал», 5 марта 2010 года