Еще раз об умном большинстве
Тезисы выступления на форуме Стратегия-2020 (26.01.2010)
Главным вектором эволюции политической системы признано повышение качества представительства. В самом деле, представительство является самой сутью политики и политической власти. Усиление механизмов политического представительства – единственный для современного государства способ контроля нации над бюрократией.
Однако как понимать эту задачу применительно к сложившейся в России политической системе? Сегодня повышение качества представительства понимается как повышение представительства «политических меньшинств». Это не маловажно. Однако главный недостаток сложившейся системы состоит не в ущемлении меньшинств, а в ущемлении большинства. И если мы не видим этого ущемления, то лишь потому, что давно к нему привыкли.
Российская политическая система работает не как система представительства большинства, а как система его сдерживания. Вероятно, этот режим сдерживания сложился еще в 1990-е гг., когда «реформистское меньшинство» общества отчетливо противопоставляло себя «реформируемому большинству», которому приписывались свойства, которым нет места в светлом постсоветском будущем: «совковость», патернализм, недоверие к новой демократической государственности, неготовность к «демократии и рынку» и т.д.
С приходом к власти Владимира Путина положение изменилось. С большинством стали больше считаться и его перестали унижать. Но модель разделения на «реформистское меньшинство», олицетворяемое, прежде всего, либеральной командой Владимира Путина в первый срок его президентства, и «косной», великодержавно-ностальгической, патерналистской базой поддержки президента – эта модель никуда не делась. Она лишь стала более функциональной и совершенной, благодаря тому, что у меньшинства появилось мощное оружие сдерживания большинства – рейтинг и авторитет Владимира Путина.
Однако как понимать эту задачу применительно к сложившейся в России политической системе? Сегодня повышение качества представительства понимается как повышение представительства «политических меньшинств». Это не маловажно. Однако главный недостаток сложившейся системы состоит не в ущемлении меньшинств, а в ущемлении большинства. И если мы не видим этого ущемления, то лишь потому, что давно к нему привыкли.
Российская политическая система работает не как система представительства большинства, а как система его сдерживания. Вероятно, этот режим сдерживания сложился еще в 1990-е гг., когда «реформистское меньшинство» общества отчетливо противопоставляло себя «реформируемому большинству», которому приписывались свойства, которым нет места в светлом постсоветском будущем: «совковость», патернализм, недоверие к новой демократической государственности, неготовность к «демократии и рынку» и т.д.
С приходом к власти Владимира Путина положение изменилось. С большинством стали больше считаться и его перестали унижать. Но модель разделения на «реформистское меньшинство», олицетворяемое, прежде всего, либеральной командой Владимира Путина в первый срок его президентства, и «косной», великодержавно-ностальгической, патерналистской базой поддержки президента – эта модель никуда не делась. Она лишь стала более функциональной и совершенной, благодаря тому, что у меньшинства появилось мощное оружие сдерживания большинства – рейтинг и авторитет Владимира Путина.
С точки зрения критиков, это могло выглядеть как «обман народа», но с точки зрения архитекторов системы, это выглядело как технология сохранения государства (напомню, сдерживаемое большинство не без оснований считалось a priori оппозиционным постсоветской государственности РФ).
Моя задача в данном случае – не расстановка моральных акцентов, а попытка реконструкции.
«Путинское оружие сдерживания» показало себя чрезвычайно эффективным. На его основе была достигнута та устойчивость и стабильность государства, о которой впоследствии так много говорили.
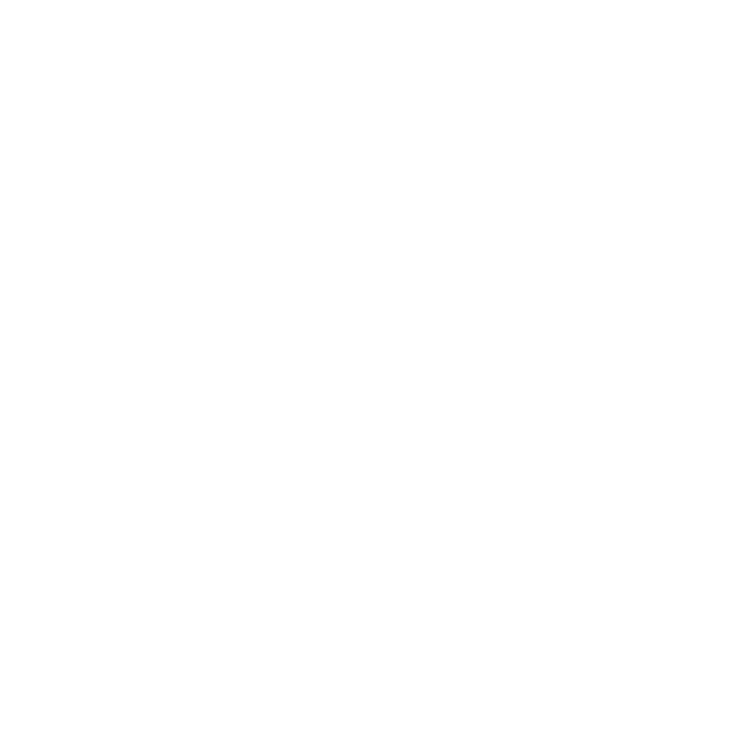
Сегодня, насколько я могу судить, многим хотелось бы по этой же модели «делать модернизацию». С той разницей, что теперь оружием сдерживания «косного большинства» в целях и интересах «прогрессивного меньшинства» является не лично Владимир Путин как харизматик и медиа-герой, а выстроенная им большая политическая машина – «Единая Россия».
Именно эта идея прямо или косвенно высказана в докладе «Консервативная модернизация – 2010», авторы которого, как мне кажется, вполне адекватно воссоздали логику системы, в соответствии с которой «консерваторы» из Единой России должны выполнить сверхважную миссию сдерживания «консерваторов» из народа, чтобы те не мешали «реформаторам» из истеблишмента.
Еще раз повторю, в этой логике, миссия политической системы – миссия сдерживания, а не представительства.
На мой взгляд, воссозданная авторами доклада диалектика взаимоотношений «консервативного большинства» и «прогрессивного меньшинства» вполне адекватна существующему положению вещей, но, увы, совсем не адекватна задачам модернизации.
Неадекватна, как с точки зрения оценки большинства, так и с точки зрения оценки меньшинства.
К сожалению, с точки зрения своих объективных, социально-классовых интересов «модернизационное меньшинство» гораздо меньше заинтересовано в модернизации, чем его мнимый антагонист – «консервативное большинство».
Для этого меньшинства (под которым подразумевается высший слой бизнеса, бюрократии и «примкнувшая к ним» часть креативного класса) модернизация не является условием выживания. Несколько утрируя, можно сказать, что все, что ему нужно – для жизни или технологического обслуживания сырьевого сектора – оно может импортировать. По крайней мере, пока.
Есть, правда, одна вещь, которую импортировать нельзя – власть, ее престиж и авторитет. Это должно быть произведено внутри страны. И есть ощущение, что на основе сырьевой модели производить это становится все проблематичнее. Отсюда, как представляется, нешуточная заинтересованность главы государства в модернизационном проекте. Отсюда и те надежды, которые фокусируются на обитателе Кремля, кто бы им ни был. Я имею в виду надежды на то, что его интересы не полностью тождественны интересам окружающей его элиты, и содержат в себе некую важную политическую потребность, которая не может быть реализована в рамках «экономики вывоза».
И это то немногое, что действительно сближает первое лицо с большинством, поскольку базовые потребности последнего в рамках экономики вывоза в принципе не реализуемы.
Норвежский экономист Эрик Райнерт, недавно выступавший в Москве на «Русских чтениях», справедливо напомнил о тупике развития аграрных и сырьевых экономик, которые, по мере исчерпания почв или месторождений, вынуждены работать со все меньшей отдачей и все большими издержками. Капитал, однако, не склонен снижать свою норму прибыли, поэтому ужиматься приходится большинству. В рамках рентной экономики это большинство лишнее, у него нет будущего.
Его единственный шанс состоит в формировании иной структуры производительных сил, более развитой системы разделения труда, которая вмещала бы в себя основную часть общества на приемлемых условиях.
В этом смысле, запрос на модернизацию и запрос на справедливость, которые обычно противопоставляют друг другу, оказываются по своему основному содержанию идентичными. Справедливость состоит не в том, чтобы навесить на «силы развития» социальный балласт и «тормозить» их требованиями бюджетных подачек.
Запрос на справедливость – это запрос на социализацию экономики, на построение такой системы, которая позволяла бы на уровне самой хозяйственной жизни выравнивать социальные и классовые диспропорции. Социализация экономики – это качественные рабочие места для максимально возможного числа сограждан, а не пособия по безработице. Это промышленная политика с опорой на внутренний рынок, которая опосредует экономический рост ростом уровня и качества жизни.
Все это является не примитивной, а умной версией политики социальной справедливости. Сейчас принято говорить об «умной политике», «умной экономике». Недавно в рамках одной из дискуссий я предложил поставить вопрос об умном большинстве.
С той точки зрения, которая выражена в докладе «Консервативная модернизация», такая постановка вопроса, вероятно, является нонсенсом. Авторы пишут о том, что превратить косное патерналистское большинство в большинство развития, непосредственную социальную опору модернизации – «задача заведомо нереалистичная».
Казалось бы, большинство по определению не может быть «умным». Особенно если это большинство людей, тяжело ушибленных российским масскультом. Но уровень политической силы определяется не суммарным «политическим IQ» тех, кто ее составляет, а уровнем тех, кто ее представляет. Т.е. качеством политических лидеров, качеством их коммуникации с обществом.
Именно эта идея прямо или косвенно высказана в докладе «Консервативная модернизация – 2010», авторы которого, как мне кажется, вполне адекватно воссоздали логику системы, в соответствии с которой «консерваторы» из Единой России должны выполнить сверхважную миссию сдерживания «консерваторов» из народа, чтобы те не мешали «реформаторам» из истеблишмента.
Еще раз повторю, в этой логике, миссия политической системы – миссия сдерживания, а не представительства.
На мой взгляд, воссозданная авторами доклада диалектика взаимоотношений «консервативного большинства» и «прогрессивного меньшинства» вполне адекватна существующему положению вещей, но, увы, совсем не адекватна задачам модернизации.
Неадекватна, как с точки зрения оценки большинства, так и с точки зрения оценки меньшинства.
К сожалению, с точки зрения своих объективных, социально-классовых интересов «модернизационное меньшинство» гораздо меньше заинтересовано в модернизации, чем его мнимый антагонист – «консервативное большинство».
Для этого меньшинства (под которым подразумевается высший слой бизнеса, бюрократии и «примкнувшая к ним» часть креативного класса) модернизация не является условием выживания. Несколько утрируя, можно сказать, что все, что ему нужно – для жизни или технологического обслуживания сырьевого сектора – оно может импортировать. По крайней мере, пока.
Есть, правда, одна вещь, которую импортировать нельзя – власть, ее престиж и авторитет. Это должно быть произведено внутри страны. И есть ощущение, что на основе сырьевой модели производить это становится все проблематичнее. Отсюда, как представляется, нешуточная заинтересованность главы государства в модернизационном проекте. Отсюда и те надежды, которые фокусируются на обитателе Кремля, кто бы им ни был. Я имею в виду надежды на то, что его интересы не полностью тождественны интересам окружающей его элиты, и содержат в себе некую важную политическую потребность, которая не может быть реализована в рамках «экономики вывоза».
И это то немногое, что действительно сближает первое лицо с большинством, поскольку базовые потребности последнего в рамках экономики вывоза в принципе не реализуемы.
Норвежский экономист Эрик Райнерт, недавно выступавший в Москве на «Русских чтениях», справедливо напомнил о тупике развития аграрных и сырьевых экономик, которые, по мере исчерпания почв или месторождений, вынуждены работать со все меньшей отдачей и все большими издержками. Капитал, однако, не склонен снижать свою норму прибыли, поэтому ужиматься приходится большинству. В рамках рентной экономики это большинство лишнее, у него нет будущего.
Его единственный шанс состоит в формировании иной структуры производительных сил, более развитой системы разделения труда, которая вмещала бы в себя основную часть общества на приемлемых условиях.
В этом смысле, запрос на модернизацию и запрос на справедливость, которые обычно противопоставляют друг другу, оказываются по своему основному содержанию идентичными. Справедливость состоит не в том, чтобы навесить на «силы развития» социальный балласт и «тормозить» их требованиями бюджетных подачек.
Запрос на справедливость – это запрос на социализацию экономики, на построение такой системы, которая позволяла бы на уровне самой хозяйственной жизни выравнивать социальные и классовые диспропорции. Социализация экономики – это качественные рабочие места для максимально возможного числа сограждан, а не пособия по безработице. Это промышленная политика с опорой на внутренний рынок, которая опосредует экономический рост ростом уровня и качества жизни.
Все это является не примитивной, а умной версией политики социальной справедливости. Сейчас принято говорить об «умной политике», «умной экономике». Недавно в рамках одной из дискуссий я предложил поставить вопрос об умном большинстве.
С той точки зрения, которая выражена в докладе «Консервативная модернизация», такая постановка вопроса, вероятно, является нонсенсом. Авторы пишут о том, что превратить косное патерналистское большинство в большинство развития, непосредственную социальную опору модернизации – «задача заведомо нереалистичная».
Казалось бы, большинство по определению не может быть «умным». Особенно если это большинство людей, тяжело ушибленных российским масскультом. Но уровень политической силы определяется не суммарным «политическим IQ» тех, кто ее составляет, а уровнем тех, кто ее представляет. Т.е. качеством политических лидеров, качеством их коммуникации с обществом.
“
«Умное большинство» – это качественно представленное большинство. И если сегодня оно не является «умным», то лишь потому, что ему, самой логикой политической системы, было отказано в полноценном представительстве.
Здесь я возвращаюсь к тому, о чем говорил в начале. В девяностые годы Система сочла большинство «глупым» и «опасным» для «молодой демократии», наспех выстроив против него свои оборонительные редуты. В нулевые годы Система совершенствовалась в технологиях его мягкого сдерживания.
Сегодня Система на развилке, перед ней стоят задачи уже не выживания, а развития. И ей предстоит выбор – продолжать ли на новом этапе политику сдерживания большинства или перейти к политике его активного представительства и политической мобилизации?
В фокусе этого выбора – Единая Россия как партия большинства. От этого выбора напрямую зависят ее статус и формат ее участия в модернизации: сдерживание «глупого большинства», «чтобы не мешало», с одной стороны, и формирование / мобилизация «умного большинства», с другой, – это совсем разные миссии, которые требуют разных подходов и форм работы.
От этого выбора зависит и характер исполнительной власти. Сегодня правительство через систему формальных и неформальных институтов наглухо отгорожено от публичной политики. И это тесно связано с той самой концепцией «сдерживания большинства».
Если большинство – «антимодернизационное», то, действительно, от него лучше отгородиться, и «Единая Россия», и парламент, и сама партийно-политическая система представляют собой всего лишь механизм отгораживания реальной правительственной политики от политики электоральной. Это отгораживание предполагает и систему откупа, причем откупа дешевого.
Если же мы переходим к концепции умного большинства, то политическая сила, действующая от его имени, может и должна быть правящей. Я согласен с авторами другого свежего доклада («Политическая гегемония большинства») в том, что прогрессивная эволюция ЕР и всей политической системы предполагала бы действительную трансформацию «партии власти» в «правящую партию», способную формировать курс исполнительной власти и отвечать за его реализацию.
Сегодня на пути этой трансформации – множество препятствий, но именно в ней видится шанс на модернизацию политической системы. Или, точнее сказать, на формирование политической системы, способной к проведению модернизации.
Сегодня Система на развилке, перед ней стоят задачи уже не выживания, а развития. И ей предстоит выбор – продолжать ли на новом этапе политику сдерживания большинства или перейти к политике его активного представительства и политической мобилизации?
В фокусе этого выбора – Единая Россия как партия большинства. От этого выбора напрямую зависят ее статус и формат ее участия в модернизации: сдерживание «глупого большинства», «чтобы не мешало», с одной стороны, и формирование / мобилизация «умного большинства», с другой, – это совсем разные миссии, которые требуют разных подходов и форм работы.
От этого выбора зависит и характер исполнительной власти. Сегодня правительство через систему формальных и неформальных институтов наглухо отгорожено от публичной политики. И это тесно связано с той самой концепцией «сдерживания большинства».
Если большинство – «антимодернизационное», то, действительно, от него лучше отгородиться, и «Единая Россия», и парламент, и сама партийно-политическая система представляют собой всего лишь механизм отгораживания реальной правительственной политики от политики электоральной. Это отгораживание предполагает и систему откупа, причем откупа дешевого.
Если же мы переходим к концепции умного большинства, то политическая сила, действующая от его имени, может и должна быть правящей. Я согласен с авторами другого свежего доклада («Политическая гегемония большинства») в том, что прогрессивная эволюция ЕР и всей политической системы предполагала бы действительную трансформацию «партии власти» в «правящую партию», способную формировать курс исполнительной власти и отвечать за его реализацию.
Сегодня на пути этой трансформации – множество препятствий, но именно в ней видится шанс на модернизацию политической системы. Или, точнее сказать, на формирование политической системы, способной к проведению модернизации.
Опубликовано на портале apn.ru, 28 января 2010 года
