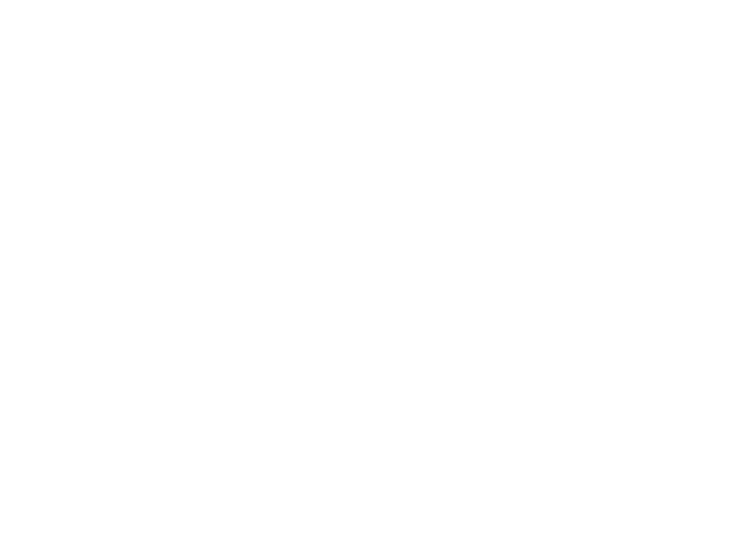К философии радикального консерватизма
ОТ РЕДАКЦИИ. В последнее время из околокремлёвских кругов всё чаще раздаются голоса, требующие ужесточения политического контроля над интеллектуальной жизнью.
В частности, публикуются тексты (более напоминающие политические доносы), призывающие ограничить изучение и даже издание классиков мировой мысли, которые, по мнению авторов, могут быть использованы «фашистами» и «экстремистами» в антигосударственных целях.
Так, недавно появилась статья г-на Кралечкина «Фашизм, который прошёл. По ту сторону академического иммунитета», где он, по существу, требует пересмотра традиционной издательской и исследовательской политики по отношению к текстам консервативных немецких мыслителей прошлого века, а интерес к ним приравнивает к скрытому «фашизму».
В том же духе уже высказались ряд других публичных фигур, в том числе причисляющих себя к академическому сообществу. Некоторые уже требуют прямых репрессий против издателей и исследователей.
Реакция со стороны русского интеллектуального сообщества может и должна быть двоякой.
Во-первых, защита свободы мысли — поскольку свободная мысль в России нуждается в защите. Это важнейшая тема будет широко освещаться на страницах нашего портала.
С другой стороны, возникает необходимость — да и повод — для нового разговора о самом радикальном консерватизме и его ценности (и, соответственно, ценностях). Это требует иного уровня углубления в тему: менее публицистического, нежели философского.
Мы публикуем статью Михаила Ремизова, ярчайшего представителя современной русской консервативной мысли, которую можно рассматривать как своего рода введение в радикальный консерватизм.
Эта задача по сей день остается, в лучшем случае, незавершенной, в худшем — признается бессмысленной.
Очевидная сложность в том, что сам статус консерватизма как интеллектуальной и идеологической традиции, в глазах многих исследователей и идеологов, проблематичен. С этой точки зрения можно выделить два принципиально различных подхода к реконструкции консерватизма: для одних «консерватизм» есть ситуативное политическое определение и как таковой «существует без традиции», поскольку его «обнаружения» представляют собой не что иное, как «параллельные идеологические реакции на сходные социальные ситуации» (Хантингтон)[1]; для других «консерватизм представляет собой… исторически развитую динамическую структурную конфигурацию», то есть именно интеллектуальную традицию, которая имеет особую морфологию и претерпевает особую диалектику (Мангейм)[2].
Во втором случае правомерно ставить вопрос о консерватизме как целостном политическом мировоззрении, составляющем альтернативу даже не отдельным политическим идеологиям современности, а всему семейству идеологий, основанных на предпосылках Просвещения.
Консерватизм, в понимании Мангейма, есть, по своему генезису, полемическая реакция на Просвещение. Но не всякая реакция чревата кристаллизацией альтернативы и вообще вызреванием последовательной идейно-политической позиции. В частности, уместен вопрос — следует ли считать консервативную реакцию на Просвещение направленной только против революционных следствий, извлекаемых радикалами из «общественного идеала», либо в первую очередь — против самого ценностного содержания «общественного идеала»?
Говорить о сопротивлении консерватизма духу Просвещения уместно лишь во втором случае, и мы не должны недооценивать внутренней глубины этого сопротивления. Консерваторы уже на заре революций твердили, что попытки механического воплощения идеала «разумно устроенного общества» неизменно дают обратный результат. Но даже в этих реалистических предостережениях подспудно звучало отторжение самой сути лежавшего в основе революций понимания «общественного блага», наводящее на мысль, что самое страшное в утопии — не ее бесплодность, а ее реализуемость. «Благоденствие, как вы его понимаете, — ведь это не цель, нам кажется, что это конец! Состояние, делающее человека тотчас же смешным и презренным, — заставляющее желать его гибели!».[3] В этом признании Ницше звучит не умонастроение одиночки, а осознавшее себя кредо аристократической реакции.
Итак, мы могли бы заключить, что консерватизм радикален тогда, когда оспаривает не просто революции, но лежащие в их основе ценности. Однако и это было бы упрощением.
Популярные попытки идентифицировать антагонистические идеологии по наборам «базовых ценностей» способствуют дидактической наглядности, но уводят от сути дела.
Например, можно постулировать, что консерватизм отличен от либерализма тем, что утверждает приоритет ценности «порядка» перед ценностью «свободы»[4]. Но фундаментальный смысл консервативной позиции будет здесь утерян — поскольку он состоит не в том, что «свобода» должна быть внешним образом ограничена «порядком», а в том, что как таковая она не может быть помыслена помимо порядка. Поскольку свобода — и в этом существенное перетолкование либеральной идеи — есть не собственный атрибут индивида, принадлежащий ему от рождения, а результат проекции в человеческое существо порядка общественных отношений — проекции, которая и делает человека субъектом, способным господствовать над собой[5].
Таким образом, полемически противостоят друг другу не ценности, а способы их интерпретации. Впрочем, поскольку способы интерпретации не являются в данном случае чем-то внешним по отношению к ценностям, можно сказать, что противостоят друг другу — способы оценки, способы приведения к значимости. Как таковые они предпосланы частным политическим суждениям и соответствуют, говоря словами Мангейма, некоторым дотеоретическим «подходам к миру»[6], которые, по мере своего интеллектуального раскрытия, выступают как организующие принципы политических мировоззрений, каждый из которых устанавливает особую форму связи между «сознанием» и «бытием».
Уровень анализа, предполагающий вычленение этих базисных структур как своего рода «политических эпистем», мы с известной долей условности называем «эпистемологическим». И именно на этом уровне должен вестись, на наш взгляд, анализ консервативного размежевания с Просвещением.
Так, Просвещение специфицировано не набором ценностей или идей, а определенной логикой их порождения и удостоверения.
| Из всех возможных характеристик этой логики наиболее существенной нам представляется «универсализм». Не случайно для некоторых идеологов европейских «новых правых» именно «универсализм» служит наиболее интегральным концептуальным выражением «образа врага». Мы вряд ли поймем мотив этого отторжения, если не предпримем попытку понять сам «универсализм» — как свойственный Просвещению способ проектирования ценностей и смыслов. |
Уже в подобной постановке задачи звучит отчетливый полемический подтекст. Ведь в обиходном понимании универсалистский подход к тем или иным ценностным содержаниям — это такой подход, который приписывает им своего рода квантор всеобщности: норма «универсальна» постольку, поскольку признана значимой не для «некоторых», а для «всех», не «иногда», а «всегда», не «местами», а «везде»[7]. К компетенции универсализма относят таким образом вопрос об области адресации или области действия норм, которые некоторым образом уже даны. Однако в таком понимании феномен «универсализма» вряд ли мог бы стать фокусом полемических напряжений. Как для идеологов универсализма, подобных Канту, так и для его критиков, подобных Ницше, «всеобщность» не внешним образом характеризует ценность (через сферу ее приложения), а определяет само ее существование в качестве значимой. Субстанцией «всеобщности» в указанном смысле является абстрактное мышление как способность, которая в структуре человеческого существа отвечает за «единство мира».
Таким образом, наиболее сокровенная и скандальная предпосылка универсализма сводится к тому, что абстрактное мышление оказывается источником ценностного сознания, а сама абстрактность — чистой формой значимости. Именно это, очевидно, позволяет ораторам Просвещения говорить о нормах, «почерпнутых в разуме», а его философам — адресовать моральные законы не собственно людям, а «всем разумным существам».
В категорическом императиве Канта («Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства»[8]) универсалистское толкование значимого как отвлеченного получило, конечно же, свое наиболее рафинированное выражение. Любопытно сопоставить с этим толкованием известное суждение Ницше, которое также ничего не говорит о конкретном содержании долга, но, строго вопреки Канту, подразумевает, что значимость нормативного содержания — в его конкретности. «Всякая неэгоистическая мораль, — гласит это суждение, — считающая себя безусловною и обращающаяся ко всем людям, грешит не только против вкуса: она является подстрекательством к греху неисполнения своего долга…» Ницше здесь не формулирует противоположный кантовскому подход, но многозначительно намекает на его предпосылки, давая понять, что ценным — и ценностным — в поступке является не его способность быть абстрагированным от своего «носителя», а напротив, его подчеркнутая соотнесенность с той или иной (партикулярной) формой существования. То есть — его предвзятость.
В предвзятости, как категории обыденного сознания, обычно усматривают род этической индифферентности. Но нам представляется возможным увидеть в ней прототип особой антиуниверсалистской этики, которая связывает значимость нормативного содержания не с его безусловностью, а с его обусловленностью, способностью выражать правду конкретного существования.
В этом смысле именно предвзятость, а не умеренность, как считает Оукшот[9], представляется нам обыденным коррелятом эпистемологии консерватизма. Не случайно, «выражая сущность консерватизма в одной формуле», Мангейм указывает, что, «сознательно противопоставляя себя либеральной идее, он патетически акцентировал именно обусловленность сознания».[10]
Оговоримся еще раз, что, поскольку «либеральная идея» (и другие «идеи», коренящиеся в философии Просвещения) отнюдь не отрицает частичной обусловленности всеобщих норм, а всего лишь объявляет ее чем-то «случайным» по отношению к главному, что есть в норме: ее значимости, — то противоположный подход состоит не в том, чтобы подчеркнуть эту фактическую обусловленность, а в том, приписать ей «необходимый» характер — характер внутреннего источника и условия значимости.
Эта апология обусловленного сознания имеет далеко идущие последствия с точки зрения конструкции тех регулятивных представлений, которые действуют в политическом пространстве. Она может быть понята как особая стратегия проектирования политических ценностей, действие которой очень отчетливо проступает в классических лейтмотивах консервативного мышления.
К таковым можно отнести и предпочтение корпоративизма перед лицом парламентаризма: то есть предпочтение модели представительства партикулярных интересов, организованных с точки зрения функции по отношению к социальному целому, перед моделью представительства индивидуальных мнений о всеобщем благе, приводимых к «истине» посредством публичного «спора». И отстаивание почвенничества или национализма перед лицом космополитизма. И восхваление аристократии перед лицом интеллигенции.
Вообще, интеллигенция представляет идеальный объект консервативной критики именно постольку, поскольку мыслит себя как общественный слой, преодолевающий собственную «социальную ограниченность» и тем самым призванный к «объективности». То есть как основной социальный носитель того самого «непредвзятого сознания», которым грезит Просвещение и которое консерватор считает a priori никчемным: как таковое оно ничем не уполномочено, лишено собственной прописки в социальном пространстве, словом, беспочвенно.
Сознание, таким образом, выступает не трансцендентной инстанцией, привносящей смысл в изначально-нейтральное бытие, а своего рода «уполномоченным органом», аспектом проявляющей себя реальности. Легитимность высказывания (всякого, но прежде всего политического) в этой «гетерономной» логике основана на той онтологической претензии, которую сообщает своему философскому дискурсу Гегель: не просто «я говорю о бытии», а «бытие говорит через меня».[14]Гегелевское «самораскрытие бытия» против кантовского «самозаконодательства разума»[15] — такова, пожалуй, одна из ключевых формул того размежевания аксиологии консерватизма с аксиологией Просвещения, которое мы пытаемся реконструировать. В этом расхождении коренятся важнейшие, системообразующие особенности консервативной «эпистемы». В частности — «реакционное» представление о ничтожестве рефлексии,[16] резко противостоящее взлелеянной Просвещением идее «освобождения через рефлексию».
Но главным открытием этого «мышления», стремящегося превзойти самое себя в качестве «бытия», будет, пожалуй, возможность преодолеть довлеющий современной философии дуализм «должного» и «сущего».
О том, что историческая полемика консерваторов с метафизикой революционной утопии уже приводила к многочисленным попыткам преодоления и переосмысления этого дуализма, говорили многие исследователи и идеологи. Но до сей поры в этих попытках оставалось недооцененным либо вообще упущенным важнейшее звено: звено феноменологических посылок. Мы полагаем, что в поле современного философского мышления феноменологическая онтология является единственной способной интегрировать в себя «ценности».[17]
В самом деле, для того, чтобы реализовать антикантианскую мечту консерватизма и понять «ценности» как имманентные действительности, в саму действительность достаточно ввести момент интенциональности. Или, иными словами, придать интенциональности полный онтологический статус, чего на взгляд Хайдеггера, не захотел сделать Кант.[18] Если следовать логике самого Хайдеггера, то обреченная вера западной философии в «ценности», трансцендентные миру, есть лишь обратная сторона предварительно произведенной вивисекции самого мира, развоплощенного, посредством абстракции, до уровня «нейтрального» объекта. Воздержавшись от этой абстракции, то есть признав, что мир — поскольку мы в нем живем — не содержит в себе той нейтральности, которая предшествовала бы интерпретации, то есть, что как таковой он заведомо интерпретирован, мы неизбежно обнаружим в его «текстуре» некоторые качественные представления, которые могут быть носителями не только первичных когнитивных, но и первичных ценностных значений.[19]
«Первичных» должно значить в данном случае — предшествующих рефлексивному отношению. И здесь консерватизм получает новую опорную точку для преодоления идеи автономии субъекта: важнейшими для человека являются те формы значимости, которые закодированы не на уровне нашего отношения к миру, а на уровне наших способов конституирования мира и себя в мире.
Именно к таким формам значимости можно апеллировать, по-гегелевски, как к «субстанции… в которой абсолютное долженствование есть в такой же мере и бытие».[20] Понятно также, что апелляция к принадлежности как источнику долга является одной из опознавательных черт не только идеологического, но и обыденного консервативного дискурса. Эта черта придает ему неотъемлемо партикуляристский, антиуниверсалистский, а также антиидеалистический характер. Всякая этика, в которой «долженствование есть в такой же мере и бытие», обречена осудить «идеал» как неадекватную форму отношения человека к действительности. В этом смысле к шпенглеровскому «идеалы — это трусость», можно было бы добавить «идеалы — это безнравственность». И того, что называют «общественным идеалом», это касалось бы в первую очередь, поскольку, каково бы ни было его конкретное содержание, он требует, по выражению Дэвида Блура, «норм, по которым [можно будет] судить общество», вместо того, чтобы культивировать нормы, которые «произрастают из самого общества».[21]
Таким образом, возвращаясь к вопросу о характере консервативной борьбы с революционной метафизикой, можно зафиксировать, что консерватизм образует самостоятельную идеологическую школу, рядоположную школе Просвещения, именно в той мере, в какой у него появляются основания отвергнуть не только заложенные в «идеале» представления о благе («благоденствие, как вы его понимаете, это не цель»…) или разрушительные последствия его «реализации» (то есть собственно революцию), но сам модус отношения к действительности, называемый «идеалом» и состоящий в том, чтобы судить существующее с высоты «должного» как некоей трансцендентной миру инстанции. К собственной политической философии консерватизм приближается там, где оспаривает саму правомочность такой инстанции.
Однако именно здесь впору насторожиться. Разве не по той же самой причине Хантингтон, выражающий логику англосаксонской политической культуры, и вторящие ему российские исследователи, отказывают консерватизму в статусе полноценной интеллектуальной и идеологической традиции, способной развиваться на собственных мировоззренческих основаниях. Напомню, ключевой аргумент этих идеологов состоит в том, что, «в отличие от «идеационных» идеологий (либерализма и социализма), имеющих свой общественный идеал», консерватизм его заведомо лишен и, как следствие, лишен возможности руководствоваться чем-либо иным, кроме принципа сохранения сложившихся институтов, что делает его проявления «исторически изолированными и дискретными».[22]
Это рассуждение, на первый взгляд вполне убедительное, при ближайшем рассмотрении оказывается саморазоблачающим. С одной стороны, оно вполне справедливо постулирует, что консерватизм не может иметь собственного «идеала совершенного общественного строя», так как принципиально отвергает правомочие «трансцендентного» способа оценки. С другой стороны, в нем выражается уверенность, что за пределами политики «идеалов» не существует ничего, кроме ситуативной политики статус-кво. Но именно эта уверенность и является одной из опознавательных черт того самого дуализма «долженствования» и «существования», который, по исходному постулату, отвергается консерватизмом. Таким образом, если популярная концепция консерватизма как стратегии статус-кво что-то и выражает, то лишь сугубо внешнее понимание консерватизма (недаром в этой связи вводится концепт «либерального консерватизма»), которое потому и является внешним, что «не понимает», выносит за скобки мотивы консервативного отрицания стоящего за словом «идеалы» способа оценки.
И все же, в виде осадка от хантингтоновского аргумента остается вопрос: как возможна консервативная критика статус-кво, как вообще возможна консервативная перспектива изменения действительности, если ценностное погружено консерватизмом в саму действительность?
Вопрос, как видим, таков, что ответ на него не может быть дан в плоскости консервативной аксиологии (например, через кодификацию «консервативных ценностей», как это подчас пытаются сделать), но исключительно на уровне консервативной онтологии.
Не претендуя на ее воссоздание, отметим лишь один характерный симптом, генетически связанный с духом аристократической реакции, но постепенно развивающийся в полноценную тему философского дискурса, в проработанный культурный лейтмотив: консерватизм, практически сразу с момента своего выхода на сцену политических идеологий, формулирует представление об упадке. И дело здесь не в архетипических представлениях о «золотом веке», как зачастую утверждают «традиционалисты», а в отчетливом ощущении того, что сам факт вынужденного вовлечения консерватора в идеологическую дискуссию является (в его собственных глазах) «предательским знаком того, что дорога ведет вниз», знаком распада органической ткани общества.[25]
Это одно из первичных доминантных переживаний, определивших морфологию и динамику консервативного стиля мышления. Для нас в данном случае важно, что концепция упадочной действительности имеет в своей основе отнюдь не моральную оценку, а онтологическое суждение: если нечто налично данное в нем и осуждается, то не от имени «верховных ценностей», а от имени действительности более фундаментальной, оттесненной, подвергнутой порче или забвению, но — именно постольку, поскольку она действительна, а не идеальна, — способной привести себя к реконструкции. В основе идеологем «упадка» лежит представление о бытии, которое не тождественно самому себе (себе-тождественное политическое бытие мы будем обречены мыслить как раз в терминах статус-кво) и которое может приближаться к этому тождеству либо утрачивать его в ходе своей истории. О бытии, которое, как у пифагорейцев, «вдыхает» в себя небытие, создавая универсум, чья «онтологическая плотность» может варьировать.
Именно в этой картине мира становится возможной диалектика, благодаря которой консерватизм способен обнаружить, что выступать на стороне статус-кво отнюдь не всегда значит выступать на стороне действительного. Требование «держаться бытия» и «воздерживаться от идеала» не подлежит сомнению, но оно играет поистине дурную шутку с тем «реалистом», кто, следуя статическому истолкованию порядка и привязывая себя к непосредственно данному, с головой ангажируется в «реальность», переполненную пустотой. Жалкая участь — быть «центристом» там, где налицо патологическая разбалансировка. «Быть реалистом» там, где речь идет о нарушении «инстанции реального» и необходимости ее принудительного восстановления.
Собственно, именно таково состояние тех «старо-консервативных» фракций, чья «анонимность» и «доктринальная немота» стала, по словам Алена де Бенуа, «причиной исчезновения психологической питательной среды, в которую [правая идея] погружает свои корни».[26] Эти «старые правые» отстаивают политическую и культурную данность, которая в существенной степени конституирована их врагами: и речь здесь не столько о героях 1789 года, сколько о героях 1968-го. То есть о поколении, вышедшем на историческую сцену не с очередной попыткой коренного «преображения реальности»[27], а с программой низвержения самого «принципа реальности» как репрессивной первоосновы цивилизации.
Слотердайк выражает самую суть, когда, вслед за Маркузе, которому принадлежит в этом отношении пальма первенства, признается: «глубочайшее предназначение прогрессивности» состоит в том, чтобы «стронуть сам принцип реальности с места»[28] — что вполне достижимо, на его взгляд, в социокультурной перспективе «постиндустриализма». В той мере, в какой это постиндустриальное «разжижение» бытия приобретает зримые очертания — достаточно вспомнить Бодрийяра как критика «гиперсимулятивной» онтологии информационных обществ, — призванием консервативного реализма становится восстановление «онтологической плотности» мира, его возвращение к «принципу реальности».
За прояснением вопроса о том, какой смысл, социальный и психологический, имеет это восстановление, можно снова обратиться к Слотердайку, говорящему, что в сердцевине консервативного сознания лежит особого рода поэтика «суровых фактов», убеждение в первородной жестокости мира[29], требующей от человека и его общества быть на высоте и поддерживать себя «в форме». Здесь мы оказываемся в эпицентре полемики «консервативного» с «прогрессивным»: в конечном счете она сводится не к дилеммам «сохранения — изменения» или даже «традиции — модернизации», а к борьбе за незыблемость «принципа реальности» как дисциплинирующей (и в определенном смысле «дисциплинарной») инстанции.
Этот мотив звучит очень отчетливо у французских «новых правых», противопоставляющих «трагическую философию», или «оптимизм трагической мысли», «обнадеживающему дискурсу «идеологий счастья» и доктрин утешения».[30] Свойственный им модус отношения к действительности весьма своеобразен. Их уверенность в наличии «жесткого ядра» реальности, дающего о себе знать в осевых, суровых истинах человеческой жизни, соединена с беспокойством, на грани одержимости, по поводу того, что эта «суровая действительность» находится под угрозой вытеснения или фальсификации и, как следствие, требует специальных усилий для своего воспроизводства и сохранения.
Это напряжение между приверженностью действительному и ощущением его хрупкости сближает консерватизм «новых правых» с хайдеггеровским экзистенциализмом: в обоих случаях преобладает убеждение, что нам угрожает не «предательство идеалов», а «забвение бытия». Экзистенциализм воссоздает особую диалектику жизни, имеющей тенденцию к самоотчуждению, и видит свою сверхзадачу в преодолении и деконструкции этой упадочной тенденции[31]. Он претендует периодически возвращать жизнь к ее «началам». В точности таким же образом может быть осмыслена политическая миссия консерватизма (разумеется, при условии, что сама феноменология жизни освобождается здесь от своей интроспективной, эгоцентрической нагрузки и получает социологическое заострение), как ее описывает Мангейм: «Для того, — пишет он, — чтобы обрести необходимый для ориентирования масштаб, надо не руководствоваться субъективными импульсами, но вызвать те объективированные в нас и нашем прошлом силы и идеи, тот дух, который и до этого момента, воздействуя на нас, создал все сотворенное нами».[32]
Таким образом, имманентная трактовка ценностного начала не приводит консерватизм, говоря словами того же Мангейма, «к отсутствию напряженности и пассивному приятию бытия», поскольку «не каждый атом этого бытия преисполнен смысла» и «необходимо все время проводить различие между существенным и несущественным».[33]
Движение консервативной мысли может происходить лишь в зазоре между «наличным бытием» и его «истоком» — в противном случае философия оправдания реальности не могла бы мыслить себя агентом воздействия на реальность и не могла бы служить источником критического мышления.
[2] Манхейм Карл. Консервативная мысль. // Манхейм Карл. Диагноз нашего времени. М., 1994. С.596.
[3] Ницше Фридрих. По ту сторону добра и зла. //Ницше Фридрих. Соч.: В 2 т. М.,1990. Т.2.
С.385.
[4] Рормозер Г. Френкин А. Новый консерватизм: вызов для России. М., 1996. С.99.
[5] Этому вторят и радикальные левые мыслители, такие как Хоркхаймер и Адорно, оценивая связь "личности" и "господства" с прямо противоположным знаком: "Рождение субъекта покупается ценой признания власти как принципа всех отношений". (Цит. по: История теоретической социологии. В 4 т. Т.4. СПб., 2000.)
[6] Манхейм Карл. Консервативная мысль. С.576.
[7] При таком подходе "базовые" ценности – как ценности конститутивные для жизнеустройства человеческих сообществ – оказываются "универсальными". В том числе и те "ценности", форма значимости которых партикулярна: например, патриотизм как принцип верности своему народу.
[8] Иммануил Кант. "Критика практического разума", М., 1977.
[9] См. Оукшот Майкл. Рационализм в политике и другие статьи. М., 2002.
[10] Манхейм Карл. Идеология и утопия. //Манхейм Карл. Диагноз нашего времени. М., 1994. С.193.
[11] Шмитт К. Глоссарий: заметки 1947-1951 г.
[12] Шпенглер Освальд. Человек и техника. // Культурология ХХ век. Антология. М.,1995.
[13] Жижек Славой. Возвышенный объект идеологии. М., 1999. С.26.
[14] См. об этом: Декомб В. Современная французская философия. М.2000. С.44-45.
[15] Мы уже говорили о том, что политика Просвещения предполагает своего рода освобождение через рефлексию. К этому можно добавить, что сама структура свободы мыслится "просветителями" по модели рефлексии – как отношение разума к себе самому, отношение "самозаконодательства".
[16] В терминах гегельянской теории познания это представление удачно раскрыл Кожев: "…истинное познание не имеет ничего общего с "Рефлексией", свойственной псевдо-философии… и псевдо-науке…, которые рефлектируют над Реальным, располагаясь вне его, вообще непонятно где; с "Рефлексией", которая стремится дать видение Реального с точки зрения познающего Субъекта (который полагается при этом автономным…), с точки зрения такого Субъекта, который, согласно Гегелю, есть лишь искусственным образом изолированный аспект познанной, или раскрытой, Реальности". (Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля. М.,2001. С.12.)
[17] Следует признать, что в поле современного философского мышления удержаться в этом случае не так просто. Соблазн прямой апелляции к "досовременным" позициям неизменно велик – тем более, что именно античное философское мышление как опыт рационализации мифа содержит прообраз того "предустановленного" единства "должного" с "сущим", которым подчас грезит консерватизм. Одна из опознавательных черт этого мышления - тенденция выводить "деонтологию" из "космологии". "В досовременном мировоззрении, каким мы его видим у Аристотеля и Аквината, моральные категории рассматриваются как отпечатки структуры внешнего мира, в которых микрокосм человеческого разума отражает порядок космоса,"– пишет Джон Грей, воссоздавая антимодернистскую аргументацию известного консервативного автора Аласдера Макинтайра (Грей Джон. Поминки по Просвещению. М.2003. С.292). Некоторые исследователи идут так далеко, что причисляют "веру в трансцендентный моральный порядок, опирающийся на божественный или естественный закон" (Руткевич Алексей. Что такое консерватизм. М.-СПб.,1999. С.81), к "мировоззренческим особенностям консервативного мышления" как такового. Будь это так, философский консерватизм вряд ли мог бы состояться: он заведомо лишен возможности опереться на постулаты "досовременной" картины мира, поскольку становится актуален именно в тот момент, когда ей брошен определенный вызов - в том числе, со стороны самой философии. Одним из аспектов этого вызова можно считать так называемый "гносеологический поворот", закрывший путь "космологического" обоснования ценностей. Невозможно возводить "моральный порядок" к "порядку вещей" там, где "вещи" оставлены замкнутыми "в-себе", а структура универсума понята как структура трансцендентального субъекта. Проведенная Кантом дифференциация между "вещью-в-себе" и "явлением" становится таким образом залогом абсолютного дуализма "существования" и "долженствования". Но она же, как ни странно, открывает и возможность преодоления кантовского дуализма. Эта возможность была показана Гегелем, который, по словам Жижека, оказывается "большим кантианцем, чем сам Кант".