О кризисе дипломатии
Обновленный Кремль представил обновленную концепцию своей внешней политики.
Документ привычно пустоват и рутинен. Это разочаровывает, учитывая тот уровень ожиданий, который существует вокруг России — и который отметил сам президент в своем выступлении перед дипломатами.
«К нам уже не просто прислушиваются, — сказал он, — но и ожидают от нас каких-то решений».
Ожидают, по существу, российского слова в новейшей истории.
Не знаю, может быть, оно и в самом деле прозвучало где-то на одной из страниц документа. Но мне все же не хотелось бы так думать, поскольку в этом случае пришлось бы признать, что гора родила мышь.
Поэтому я бы рассматривал этот документ не как выражение внешнеполитического кредо России, а как текущий срез ее внешнеполитической мысли, которая, сразу скажу, по моему ощущению, находится в серьезном затяжном кризисе.
Но сначала о хорошем.
Благодаря новой концепции, в официальной российской повестке оказались закреплены некоторые удачные импровизации последних лет.
Например — тема Русского мира. Поддержка русской диаспоры, русского языка и культуры за рубежом заявлены в числе основных приоритетов внешней политики.
Документ привычно пустоват и рутинен. Это разочаровывает, учитывая тот уровень ожиданий, который существует вокруг России — и который отметил сам президент в своем выступлении перед дипломатами.
«К нам уже не просто прислушиваются, — сказал он, — но и ожидают от нас каких-то решений».
Ожидают, по существу, российского слова в новейшей истории.
Не знаю, может быть, оно и в самом деле прозвучало где-то на одной из страниц документа. Но мне все же не хотелось бы так думать, поскольку в этом случае пришлось бы признать, что гора родила мышь.
Поэтому я бы рассматривал этот документ не как выражение внешнеполитического кредо России, а как текущий срез ее внешнеполитической мысли, которая, сразу скажу, по моему ощущению, находится в серьезном затяжном кризисе.
Но сначала о хорошем.
Благодаря новой концепции, в официальной российской повестке оказались закреплены некоторые удачные импровизации последних лет.
Например — тема Русского мира. Поддержка русской диаспоры, русского языка и культуры за рубежом заявлены в числе основных приоритетов внешней политики.
Само признание государством существования «русской» диаспоры — уже сенсация. До этого времени наша дипломатия использовала бессмысленное словосочетание «российская диаспора». Бессмысленное — потому что слово «российский» относится к нашему государству и стране. А членами диаспоры за рубежом являются люди, живущие вне материнского государства, но при этом сохраняющие свою национальную идентичность.
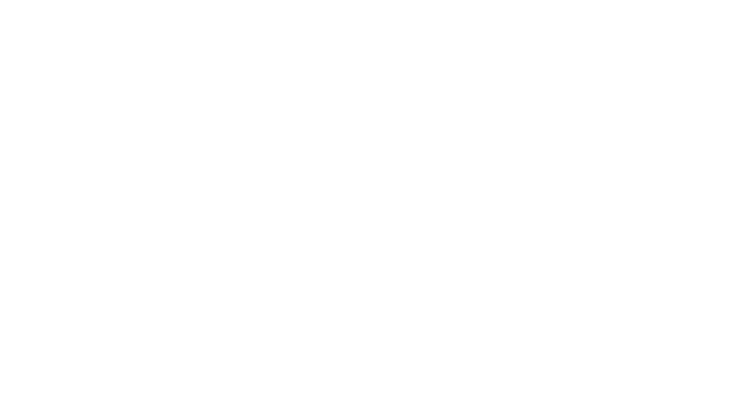
В этом же ряду позитивных новаций я бы отметил включение нелегальной иммиграции в список глобальных вызовов и угроз — наряду с терроризмом, наркотрафиком, изменением климата и прочими радостями прекрасного нового мира.
Или принципиально новый уровень внимания государства к острейшей проблеме борьбы за свое прошлое, борьбы за свое место в истории (в концепции внятно говорится о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны и антироссийского мифотворчества новообразованных государств).
Наверное, этот перечень можно продолжить.
Но проблема в том, что помимо всех этих существенных и позитивных частностей, в документе есть несколько, скажем так, концептуальных капканов. Идеологических ловушек, в которые наша дипломатия может угодить самым неприятным образом.
Перечислю некоторые из них.
Во-первых, это феерический концепт «Евро-Атлантического региона — от Ванкувера до Владивостока».
Обеспечение единства этого вымышленного региона провозглашается одной из главных целей российской внешней политики.
В разное время говорили о «Европе от Атлантики до Урала» или «От Дублина до Владивостока». Но в эту конструкцию не включалась Америка. Говорили об участии России в «великом кольце северных демократий», но в него включалась также Япония. А вот о евроатлантическом регионе от Ванкувера до Владивостока до сих пор не было слышно.
В чем тут проблема? Проблема в том, что союз между Россией, США и Европой гипотетически возможен. Но возможен исключительно как идеологический союз, а не региональный союз по принципу соседства.
Разумеется, совершенно необходимым условием такого единства является безоговорочное признание Россией идеологического верховенства Запада. И наше руководство об этом прекрасно знает. И даже постоянно говорит о том, что ему это не нравится. В концепции лейтмотивом звучит мысль о разнообразии форм демократии и о необходимости построения деидологизированных отношений с международными партнерами.
Так вот, на базе деидеологизированных отношений войти в Евро-Атлантическое единство — невозможно. А войти очень хочется.
Поэтому российская дипломатическая мысль рождает совершенно фантастический евро-американо-российский «регион», т.е. пытается выдать плод своей несбыточной мечты за некую естественную геополитическую данность.
Что из этого выйдет — посмотрим. Могу вам только напомнить, что два предыдущих российский президента, Ельцин и Путин, также начинали с попыток интегрировать Россию в Западный мир, а заканчивали вынужденной изоляцией. Не вижу никаких причин, по которым на этот раз будет по-другому.
Непонятно только, зачем нашей, уже не столь молодой стране, нужно вновь и вновь с энтузиазмом новичка бежать по этому порочному кругу?
Второе место в этом ряду двусмысленностей я отвожу попыткам Москвы оседлать идею глобализации.
Я напомню, что еще на экономическом Форуме в Санкт-Петербурге из уст Дмитрия Медведева прозвучала критика отдельных государств, которые продолжают использовать политику протекционизма и, как он удачно выразился, «экономического национализма» вопреки прогрессивным тенденциям глобализации мирового хозяйства. Цитата из той речи полностью перекочевала в концепцию.
В этой связи у меня только один вопрос: а как авторы документа собираются «модернизировать Россию» и «преодолевать ресурсно-сырьевую ориентацию экономики» (эти цели фигурируют в концепции, как, впрочем, и во всех прочих программных заявках Кремля), если они ставят под запрет главное средство решения этих задач?
Или принципиально новый уровень внимания государства к острейшей проблеме борьбы за свое прошлое, борьбы за свое место в истории (в концепции внятно говорится о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны и антироссийского мифотворчества новообразованных государств).
Наверное, этот перечень можно продолжить.
Но проблема в том, что помимо всех этих существенных и позитивных частностей, в документе есть несколько, скажем так, концептуальных капканов. Идеологических ловушек, в которые наша дипломатия может угодить самым неприятным образом.
Перечислю некоторые из них.
Во-первых, это феерический концепт «Евро-Атлантического региона — от Ванкувера до Владивостока».
Обеспечение единства этого вымышленного региона провозглашается одной из главных целей российской внешней политики.
В разное время говорили о «Европе от Атлантики до Урала» или «От Дублина до Владивостока». Но в эту конструкцию не включалась Америка. Говорили об участии России в «великом кольце северных демократий», но в него включалась также Япония. А вот о евроатлантическом регионе от Ванкувера до Владивостока до сих пор не было слышно.
В чем тут проблема? Проблема в том, что союз между Россией, США и Европой гипотетически возможен. Но возможен исключительно как идеологический союз, а не региональный союз по принципу соседства.
Разумеется, совершенно необходимым условием такого единства является безоговорочное признание Россией идеологического верховенства Запада. И наше руководство об этом прекрасно знает. И даже постоянно говорит о том, что ему это не нравится. В концепции лейтмотивом звучит мысль о разнообразии форм демократии и о необходимости построения деидологизированных отношений с международными партнерами.
Так вот, на базе деидеологизированных отношений войти в Евро-Атлантическое единство — невозможно. А войти очень хочется.
Поэтому российская дипломатическая мысль рождает совершенно фантастический евро-американо-российский «регион», т.е. пытается выдать плод своей несбыточной мечты за некую естественную геополитическую данность.
Что из этого выйдет — посмотрим. Могу вам только напомнить, что два предыдущих российский президента, Ельцин и Путин, также начинали с попыток интегрировать Россию в Западный мир, а заканчивали вынужденной изоляцией. Не вижу никаких причин, по которым на этот раз будет по-другому.
Непонятно только, зачем нашей, уже не столь молодой стране, нужно вновь и вновь с энтузиазмом новичка бежать по этому порочному кругу?
Второе место в этом ряду двусмысленностей я отвожу попыткам Москвы оседлать идею глобализации.
Я напомню, что еще на экономическом Форуме в Санкт-Петербурге из уст Дмитрия Медведева прозвучала критика отдельных государств, которые продолжают использовать политику протекционизма и, как он удачно выразился, «экономического национализма» вопреки прогрессивным тенденциям глобализации мирового хозяйства. Цитата из той речи полностью перекочевала в концепцию.
В этой связи у меня только один вопрос: а как авторы документа собираются «модернизировать Россию» и «преодолевать ресурсно-сырьевую ориентацию экономики» (эти цели фигурируют в концепции, как, впрочем, и во всех прочих программных заявках Кремля), если они ставят под запрет главное средство решения этих задач?
Ведь экономический национализм — это не погром иностранной собственности. Это всего лишь приоритет интересов национальной промышленности перед принципами свободной торговли.А эти принципы, как известно, диктуют нам уже несколько десятилетий одно и то же — вывозить сырье и ввозить ширпотреб.
Вам это нравится? Ну, тогда давайте обойдемся без демагогии о модернизации.
Вам это нравится? Ну, тогда давайте обойдемся без демагогии о модернизации.
И, наконец, последняя и главная ловушка.
Документ изобилует клятвами верности международному праву, кульминацией которых становится провозглашение нового, поистине революционного принципа: «верховенства права в международных отношениях».
На первый взгляд, в нем нет ничего революционного. Идея верховенства права постоянно муссируется на международном уровне, кочуя из конвенции в конвенцию, из доклада в доклад.
Но, как правило, этот принцип относят исключительно к внутренней жизни государств.
По сути, «верховенство права» — это формула демократического конституционного устройства, соединяющая суверенитет народа в лице представительных органов власти с базовыми правами человека и гражданина.
В международных отношениях осуществление этого принципа было бы возможно только в случае появления пресловутого мирового правительства вкупе с мировым парламентом.
То есть, говоря более абстрактно, в случае трансформации межгосударственного права в надгосударственное.
Если мы действительно хотим такой трансформации, то зачем все эти причитания о суверенитете (таковых в документе тоже достаточно)?
Если же мы не хотим такой трансформации, то зачем смешивать право суверена над частными лицами (внутригосударственное право) с более «слабым» правом, существующим между суверенам (международное право)?
Нет ли в этом опасности правового нигилизма, против которой так любит предостерегать президент?
Документ изобилует клятвами верности международному праву, кульминацией которых становится провозглашение нового, поистине революционного принципа: «верховенства права в международных отношениях».
На первый взгляд, в нем нет ничего революционного. Идея верховенства права постоянно муссируется на международном уровне, кочуя из конвенции в конвенцию, из доклада в доклад.
Но, как правило, этот принцип относят исключительно к внутренней жизни государств.
По сути, «верховенство права» — это формула демократического конституционного устройства, соединяющая суверенитет народа в лице представительных органов власти с базовыми правами человека и гражданина.
В международных отношениях осуществление этого принципа было бы возможно только в случае появления пресловутого мирового правительства вкупе с мировым парламентом.
То есть, говоря более абстрактно, в случае трансформации межгосударственного права в надгосударственное.
Если мы действительно хотим такой трансформации, то зачем все эти причитания о суверенитете (таковых в документе тоже достаточно)?
Если же мы не хотим такой трансформации, то зачем смешивать право суверена над частными лицами (внутригосударственное право) с более «слабым» правом, существующим между суверенам (международное право)?
Нет ли в этом опасности правового нигилизма, против которой так любит предостерегать президент?
Признаюсь, я бы не стал придавать значения этим теоретическим неувязкам, если бы они не грозили привести нашу дипломатию к серьезным практическим сбоям.
Вот пример двух историй, разыгрывающихся на наших глазах.
Одна уже разыграна — в виде фарса.
Другая может быть разыграна в ближайшем будущем — в виде трагедии.
Под первой я имею в виду, разумеется, историю о том, как опереточный диктатор Мугабе обрел со стороны Кремля неожиданно решительное покровительство.
Понятно, что Россия и лично президент Медведев получили массу репутационных проблем буквально на пустом месте.
Но дело даже не в этом. Я всегда считал и считаю, что меньше всего мы должны бояться истерик западной общественности. А вот то, чего действительно стоит бояться — так это дискредитации и профанации собственных ценностей.
Весной этого года всем хорошо памятный Роберт Кейган нарисовал на нас довольно топорную карикатуру. Он утверждал, что Россия, а также Китай, практикуют свой авторитаризм и поощряют его за рубежом не «по случаю», не «по необходимости» и не из прагматических соображений, а исходя из глубокой приверженности «идеалам авторитаризма». И что вся наша риторика суверенитета — просто эвфемизм авторитарной вседозволенности.
Мы тогда посмеялись над примитивностью Кейгана, порассуждали о том, что авторитаризм не может быть предметом политической веры. Но вот проходит несколько месяцев — и официальная Москва с буквальной точностью воспроизводит этот карикатурный образ.
Мотивы Китая в данной истории понятны — он защищает свои инвестиции, если не сказать свои колонии. Но Китай не накладывает вето в одиночку. Поэтому «главным» было вето России, и все выглядело так, будто оно продиктовано либо духом противоречия по отношению к США (в лучшем случае), либо идеалистической приверженностью «священному союзу автократий» (в худшем и, увы, базовом для западного восприятия случае).
В действительности, конечно, оно не было продиктовано ни тем, и ни другим, а исключительно ложно понятым «принципом суверенитета» (психоаналитические варианты «оранжевых фобий» я оставляю за скобками).
«Ложно» — хотя бы потому, что, защищая этот принцип таким образом, мы оказываем ему самую что ни на есть медвежью услугу, связывая его — в сознании международного обывателя — не с системным развитием, а с регрессом и беспределом африканских диктатур.
Но здесь есть и более глубокая закономерность, о которой я уже имел случай писать.
Дело в том, что легитимистское мышление по самой своей сути не- и антисуверенно. Соответственно, защита суверенитета как «гарантированного» (извне) права, в пределе, разрушает его основания.
Подлинная защита принципа суверенитета должна базироваться на глубокой культуре политического реализма (разумеется, сдобренного необходимой толикой идеализма). Но никак не легитимизма.
На практике это означает защиту конкретного суверенитета (своей страны и своих союзников) вместо абстрактного принципа суверенитета (вообще, чьего угодно суверенитета). Ну и разумеется, демонстрацию, — на собственном примере! — неоспоримых преимуществ суверенного развития.
Даже самый малый проблеск национального успеха стоит в деле суверенитета неизмеримо больше, чем все международные гарантии вместе взятые.
Я обещал привести пример не только фарсовый, но и серьезный. Думаю, что он тоже вполне очевиден.
Это ситуация с непризнанными республиками на Кавказе.
Грузия ведет жесткую и расчетливую игру, используя все слабости российской позиции. Первичная цель этой игры уже достигнута. Россия вынуждена выступать в качестве одной из сторон в конфликте, а не в качестве арбитра и миротворца. Прежний символический капитал «гаранта урегулирования» перечеркнут.
При следующей вспышке конфликта — кратковременной, как надеется Грузия, — миротворческие силы, которые «остановят кровопролитие», уже не будут российскими.
Ну и слава Богу! — воскликнут энтузиасты евроатлантического единства. Пусть непризнанные государства будут головной болью США и ЕС.
Этой позиции можно адресовать много возражений, но достаточно одного: Абхазия и Южная Осетия тесно переплетены с российской частью Кавказа этническими и социальными узами, и весь российский Кавказ будет втянут в любой конфликт с участием этих республик. А уж если он будет международным, то последствия непредсказуемы.
Что это означает для российской дипломатии?
Это означает, что легитимистская позиция, нацеленная на сохранение статус-кво непризнанности в рамках номинального «приоритета территориальной целостности», — а именно эта позиция, увы, явно доминирует в новой внешнеполитической концепции — уже не просто бьет по престижу России как регионального лидера, а создает недопустимые риски (качественно превышающие риски официального протектората Москвы над Абхазией и Южной Осетией).
Призываю ли я к нарушению международного права?
Ни в коем случае.
Я призываю к тому, чтобы мы видели в международном праве способ оформления своих интересов (каковым оно и является для всех без исключения уважающих себя держав), а не способ их выхолащивания и подмены.
Тем более, как сказал президент в своем выступлении перед дипломатами, «у нас прекрасная международная школа».
Вот пример двух историй, разыгрывающихся на наших глазах.
Одна уже разыграна — в виде фарса.
Другая может быть разыграна в ближайшем будущем — в виде трагедии.
Под первой я имею в виду, разумеется, историю о том, как опереточный диктатор Мугабе обрел со стороны Кремля неожиданно решительное покровительство.
Понятно, что Россия и лично президент Медведев получили массу репутационных проблем буквально на пустом месте.
Но дело даже не в этом. Я всегда считал и считаю, что меньше всего мы должны бояться истерик западной общественности. А вот то, чего действительно стоит бояться — так это дискредитации и профанации собственных ценностей.
Весной этого года всем хорошо памятный Роберт Кейган нарисовал на нас довольно топорную карикатуру. Он утверждал, что Россия, а также Китай, практикуют свой авторитаризм и поощряют его за рубежом не «по случаю», не «по необходимости» и не из прагматических соображений, а исходя из глубокой приверженности «идеалам авторитаризма». И что вся наша риторика суверенитета — просто эвфемизм авторитарной вседозволенности.
Мы тогда посмеялись над примитивностью Кейгана, порассуждали о том, что авторитаризм не может быть предметом политической веры. Но вот проходит несколько месяцев — и официальная Москва с буквальной точностью воспроизводит этот карикатурный образ.
Мотивы Китая в данной истории понятны — он защищает свои инвестиции, если не сказать свои колонии. Но Китай не накладывает вето в одиночку. Поэтому «главным» было вето России, и все выглядело так, будто оно продиктовано либо духом противоречия по отношению к США (в лучшем случае), либо идеалистической приверженностью «священному союзу автократий» (в худшем и, увы, базовом для западного восприятия случае).
В действительности, конечно, оно не было продиктовано ни тем, и ни другим, а исключительно ложно понятым «принципом суверенитета» (психоаналитические варианты «оранжевых фобий» я оставляю за скобками).
«Ложно» — хотя бы потому, что, защищая этот принцип таким образом, мы оказываем ему самую что ни на есть медвежью услугу, связывая его — в сознании международного обывателя — не с системным развитием, а с регрессом и беспределом африканских диктатур.
Но здесь есть и более глубокая закономерность, о которой я уже имел случай писать.
Дело в том, что легитимистское мышление по самой своей сути не- и антисуверенно. Соответственно, защита суверенитета как «гарантированного» (извне) права, в пределе, разрушает его основания.
Подлинная защита принципа суверенитета должна базироваться на глубокой культуре политического реализма (разумеется, сдобренного необходимой толикой идеализма). Но никак не легитимизма.
На практике это означает защиту конкретного суверенитета (своей страны и своих союзников) вместо абстрактного принципа суверенитета (вообще, чьего угодно суверенитета). Ну и разумеется, демонстрацию, — на собственном примере! — неоспоримых преимуществ суверенного развития.
Даже самый малый проблеск национального успеха стоит в деле суверенитета неизмеримо больше, чем все международные гарантии вместе взятые.
Я обещал привести пример не только фарсовый, но и серьезный. Думаю, что он тоже вполне очевиден.
Это ситуация с непризнанными республиками на Кавказе.
Грузия ведет жесткую и расчетливую игру, используя все слабости российской позиции. Первичная цель этой игры уже достигнута. Россия вынуждена выступать в качестве одной из сторон в конфликте, а не в качестве арбитра и миротворца. Прежний символический капитал «гаранта урегулирования» перечеркнут.
При следующей вспышке конфликта — кратковременной, как надеется Грузия, — миротворческие силы, которые «остановят кровопролитие», уже не будут российскими.
Ну и слава Богу! — воскликнут энтузиасты евроатлантического единства. Пусть непризнанные государства будут головной болью США и ЕС.
Этой позиции можно адресовать много возражений, но достаточно одного: Абхазия и Южная Осетия тесно переплетены с российской частью Кавказа этническими и социальными узами, и весь российский Кавказ будет втянут в любой конфликт с участием этих республик. А уж если он будет международным, то последствия непредсказуемы.
Что это означает для российской дипломатии?
Это означает, что легитимистская позиция, нацеленная на сохранение статус-кво непризнанности в рамках номинального «приоритета территориальной целостности», — а именно эта позиция, увы, явно доминирует в новой внешнеполитической концепции — уже не просто бьет по престижу России как регионального лидера, а создает недопустимые риски (качественно превышающие риски официального протектората Москвы над Абхазией и Южной Осетией).
Призываю ли я к нарушению международного права?
Ни в коем случае.
Я призываю к тому, чтобы мы видели в международном праве способ оформления своих интересов (каковым оно и является для всех без исключения уважающих себя держав), а не способ их выхолащивания и подмены.
Тем более, как сказал президент в своем выступлении перед дипломатами, «у нас прекрасная международная школа».
Уверен, что это так. Пусть же она, наконец-то, получит настоящую, достойную ее уровня работу.
Опубликовано на портале apn.ru, 18 июля 2008 года
