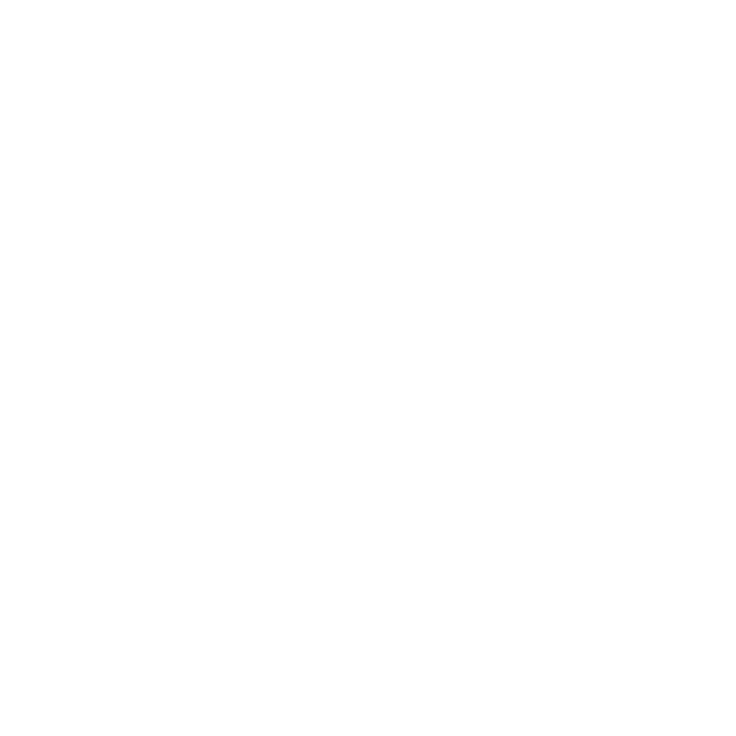О суверенности
Вызов империи
«Суверенной демократии» всегда не хватало внятного антонима.
Не на уровне «грубой реальности» — подотчетных демократий в мире вполне достаточно, — а на уровне концепции, которая логически определила бы демократию через подотчетность.
Теперь такая концепция появилась, благодаря интеллектуальной честности Роберта Кейгана. Один из главных тезисов его статьи о «Конце конца истории» сводится к утверждению, что необходимым и достаточным критерием принадлежности к «демократическому миру» является признание глобального «права на вмешательство».
Вы признаете право «международного сообщества» на вмешательство, «международное сообщество» в ответ признает вас демократией — эта формула недвусмысленно вводит идею демократии в контекст глобального имперского порядка, внутри которого надгосударственная инстанция действует как источник легитимности нижестоящих властей.
В роли такой инстанции может выступать непосредственно США как мессианское сверхгосударство, или некий международный синклит «государств-единомышленников», — в конечном счете, это не так уж важно. Важно то, что критерием демократичности государства выступает его отказ от суверенитета.
Смысл демократии при этом кардинально меняется.
Из механизма самоуправления и, как сказал бы Кант, «самозаконодательства» для человеческих сообществ она превращается в своего рода универсалистскую религию, кодифицированную через определенный набор предписаний и запретов и имеющую верховную интерпретирующую инстанцию.
По всей видимости, любой имперской власти свойственна некоторая теократическая тенденция. Ее претензию быть источником высшей легитимности для де-факто самостоятельных от нее властей трудно оформить иначе, чем в религиозной или квази-религиозной манере. Это сказывается на характере международной полемики, привнося в нее атмосферу религиозных войн. Например, когда Кейган настаивает на том, что «российские лидеры не просто автократы», но политики, которые «верят в авторитаризм», то в этом читается аргумент из области политической теологии: «Они не просто грешники. Они еретики».[1]
На грешников и лицемеров империя легко может закрыть глаза, безо всякого ущерба для своих принципов, но «каноничность» публичного исповедания подданных — это политический вопрос. Вопрос их лояльности или нелояльности глобальной власти.
В этой связи у предполагаемых российских «еретиков» остается, в общем, лишь две возможности реагирования.
Первая состоит в том, чтобы на новом уровне вернуться к дискурсу «переходного периода»,неявно признав авторитарный характер собственного режима и объявив его вынужденной и переходной формой политической системы. То есть дать понять, что мы все же «грешники», а не «еретики».
Критерий различения одного от другого в данном случае довольно прост: «грешником» авторитарист является в том случае, если признает себя «плохим демократом», «еретиком» он является в том случае, если признает себя «истинным демократом». Признав себя «незавершенной демократией», российский режим нисколько не погрешил бы против истины и при этом существенно смягчил бы «статью» обвинения. Быть может, нечто подобное и произойдет в диалоге обновленного Кремля с западным миром.
И надо сказать, что эта возможность, хотя и является наиболее простой, не обязательно примитивна, — поскольку, усыпляя бдительность империи, она совместима с прорастанием реально-политических основ суверенитета.
Вторая возможность состоит в том, чтобы сформировать на месте убогого авторитарного «символа веры», инкриминируемого нам Кейганом, полноценную идеологическую легитимацию, значимую в универсальном масштабе.
Дело в том, что авторитаризм сам по себе не содержит никакого принципа легитимности. Он может опираться на принципы харизматической легитимности по Веберу, на принципы «комиссарской диктатуры» по Шмитту (которую можно было бы назвать «проектной», поскольку в ее случае диктатор оправдывает себя необходимостью исполнения неотложных задач), на принципы «воспитательной диктатуры» по Руссо… Иными словами, вера в авторитаризм невозможна.
Возможна вера, представляющая авторитаризм в более высоком свете. Но в таком случае, она должна быть предъявлена.[2]
«Суверенной демократии» всегда не хватало внятного антонима.
Не на уровне «грубой реальности» — подотчетных демократий в мире вполне достаточно, — а на уровне концепции, которая логически определила бы демократию через подотчетность.
Теперь такая концепция появилась, благодаря интеллектуальной честности Роберта Кейгана. Один из главных тезисов его статьи о «Конце конца истории» сводится к утверждению, что необходимым и достаточным критерием принадлежности к «демократическому миру» является признание глобального «права на вмешательство».
Вы признаете право «международного сообщества» на вмешательство, «международное сообщество» в ответ признает вас демократией — эта формула недвусмысленно вводит идею демократии в контекст глобального имперского порядка, внутри которого надгосударственная инстанция действует как источник легитимности нижестоящих властей.
В роли такой инстанции может выступать непосредственно США как мессианское сверхгосударство, или некий международный синклит «государств-единомышленников», — в конечном счете, это не так уж важно. Важно то, что критерием демократичности государства выступает его отказ от суверенитета.
Смысл демократии при этом кардинально меняется.
Из механизма самоуправления и, как сказал бы Кант, «самозаконодательства» для человеческих сообществ она превращается в своего рода универсалистскую религию, кодифицированную через определенный набор предписаний и запретов и имеющую верховную интерпретирующую инстанцию.
По всей видимости, любой имперской власти свойственна некоторая теократическая тенденция. Ее претензию быть источником высшей легитимности для де-факто самостоятельных от нее властей трудно оформить иначе, чем в религиозной или квази-религиозной манере. Это сказывается на характере международной полемики, привнося в нее атмосферу религиозных войн. Например, когда Кейган настаивает на том, что «российские лидеры не просто автократы», но политики, которые «верят в авторитаризм», то в этом читается аргумент из области политической теологии: «Они не просто грешники. Они еретики».[1]
На грешников и лицемеров империя легко может закрыть глаза, безо всякого ущерба для своих принципов, но «каноничность» публичного исповедания подданных — это политический вопрос. Вопрос их лояльности или нелояльности глобальной власти.
В этой связи у предполагаемых российских «еретиков» остается, в общем, лишь две возможности реагирования.
Первая состоит в том, чтобы на новом уровне вернуться к дискурсу «переходного периода»,неявно признав авторитарный характер собственного режима и объявив его вынужденной и переходной формой политической системы. То есть дать понять, что мы все же «грешники», а не «еретики».
Критерий различения одного от другого в данном случае довольно прост: «грешником» авторитарист является в том случае, если признает себя «плохим демократом», «еретиком» он является в том случае, если признает себя «истинным демократом». Признав себя «незавершенной демократией», российский режим нисколько не погрешил бы против истины и при этом существенно смягчил бы «статью» обвинения. Быть может, нечто подобное и произойдет в диалоге обновленного Кремля с западным миром.
И надо сказать, что эта возможность, хотя и является наиболее простой, не обязательно примитивна, — поскольку, усыпляя бдительность империи, она совместима с прорастанием реально-политических основ суверенитета.
Вторая возможность состоит в том, чтобы сформировать на месте убогого авторитарного «символа веры», инкриминируемого нам Кейганом, полноценную идеологическую легитимацию, значимую в универсальном масштабе.
Дело в том, что авторитаризм сам по себе не содержит никакого принципа легитимности. Он может опираться на принципы харизматической легитимности по Веберу, на принципы «комиссарской диктатуры» по Шмитту (которую можно было бы назвать «проектной», поскольку в ее случае диктатор оправдывает себя необходимостью исполнения неотложных задач), на принципы «воспитательной диктатуры» по Руссо… Иными словами, вера в авторитаризм невозможна.
Возможна вера, представляющая авторитаризм в более высоком свете. Но в таком случае, она должна быть предъявлена.[2]
| Попытки обоснования российского авторитаризма через ссылки на особенности национальной политической культуры явно не могут заменить этой отсутствующей веры. Хуже всего то, что в этих попытках эвфемизмом авторитарности оказывается сам суверенитет. Если говорить об официальной, авторской редакции «суверенной демократии», то суверенитет предстает в ней не в самом выигрышном свете — как синоним «туземной» специфики общества, которую власть стремится капитализировать в своих интересах. На мой взгляд, и попытка «спрятать» суверенитет в дискурсе уважения к «местным особенностям», и попытка оправдать его как ресурс для глобальных рыночных игр власти («игр конкурентоспособности») является типичным проявлением постсуверенного мышления. Речь идет о весьма неудачном сочетании позиции одновременно вызывающей и конформистской (по отношению к глобалистскому мейнстриму), которое делает идею «суверенной демократии», в ее существующем виде, не идеологическим щитом, а красной тряпкой. |
Менее вызывающими, но ничуть не более убедительными являются попытки противостоять философии вмешательства, апеллируя к международному праву и протестуя против двойных стандартов. И то, и другое стало фирменным стилем российской внешней политики, будучи, увы, примером все той же дурной тенденции: защищать суверенитет в категориях постсуверенного мышления.
Борьба с «двойными стандартами» является не только формой признания самих стандартов (международной «правозащитной деятельности»), но и формой признания приоритета тех, кто их формулирует. В политике Вашингтона и Брюсселя заключена претензия на то, что их решения по конфликтным вопросам международной жизни представляют собой акты судебной, а не политической власти (акты применения «стандартов», а не воплощения «интересов»), ибо такова в своей основе власть империи. Подавая бесконечные апелляции на их «неправедный суд», Москва поддерживает эту претензию — и оказывается включена в логическую конструкцию имперской гегемонии.
Апелляция к международному праву сама по себе — вполне уместный и банальный прием. Но в российском исполнении она превращается в отчаянный легитимизм, сводящийся к вере в то, что суверенные права государств гарантированы международным правом. В действительности, все наоборот: международное право является функцией государственного суверенитета и не имеет иных источников легитимности.
Это значит, что защита суверенитета в рамках международного порядка по сути не может быть правовой, но только лишь политической. По меньшей мере, таков суверенный взгляд на этот вопрос.
Я уже имел случай писать о том, что привычка воспринимать суверенитет как данность, прописанную в скрижалях и принадлежащую каждому государству по факту его членства в ООН, всерьез препятствует делу реального суверенитета. Если угодно, она мешает воспринимать его как практическую ценность, то есть как нечто весьма редкостное, нуждающееся в культивации, и одновременно жизненно необходимое.
В свое время эта мысль неожиданно проскользнула в одной из бесед Владимира Путина с эмиссарами западной общественности, но осталась, увы, не вполне раскрытой и не слишком замеченной.
А между тем, нам бы стоило, в самом деле, определиться: в чем мы видим ценность суверенитета? Т.е. его редкостность, с одной стороны, и жизненную необходимость — с другой?
Смертный Бог
Думаю, ответ на первую часть этого вопроса (о редкостности) нужно начать с прояснения некоторых простых отличий: отличия суверенитета от власти и отличия власти от силы.
В этом ряду понятий «сила» наименее уникальна. Она больше всего похожа на вещество, которое действует по «закону сохранения» — «если в одном месте убудет, то в другом непременно прибудет», — и которое лежит в основании властной пирамиды. Любая власть, несомненно, предполагает определенный силовой потенциал, который может быть большим или меньшим.
Но как таковая власть представляет собой не силу, а признанное полномочие, которое поверяется по принципу «или» — «или»: подчинением или неподчинением. Таким образом, в отличие от силы, власть — это уже не «количество», а «качество» или, выражаясь на старомодный лад, некая форма, организующая материю силы.
Словом, власть — более редкая и сложная вещь, чем сила. Тем не менее, и она, в различных проявлениях, вездесуща, вечна, способна на любые превращения и реинкарнации.
О суверенитете же нельзя сказать ничего подобного. Он представляет собой исторически уникальную конфигурацию власти, сложившуюся в современную эпоху, в рамках современного государства. Уникальность этой конфигурации состоит в том, что она предполагает концентрацию различных форм власти — военно-полицейской, экономической, символической, — на одном и том же уровне, на уровне государства[3], чья власть благодаря этой концентрации становится исключительной (т.е. не допускающей пересечений с властью других государств) и верховной (по отношению к негосударственным сферам власти).
Как видим, удивительное свойство суверенитета состоит в том, что он одновременно преходящ и абсолютен. Абсолютен не в смысле «всемогущества», а в том смысле, что это «исключительное верховенство» невозможно «поделить», «распределить» или «ограничить». Невозможно — логически. А утратить или упразднить, разумеется, можно.
Вот уж воистину, «смертный Бог».
Карл Шмитт, размышляя о природе государственного верховенства, увидел его источник в способности быть инстанцией политического насилия, способности вести войну против публичного врага и проводить мобилизацию.
Эта политическая прерогатива государства совершенно необходима для понимания его суверенитета. Но вместе с тем, явно не достаточна. Чтобы обладать верховенством, государству необходима своего рода метафизическая прерогатива.
На чем должна основываться власть, над которой на этой земле нет никакой иной власти?
Она должна основываться на весьма серьезной онтологической претензии — претензии на репрезентацию целостности общества. А возможно, и полноты мира, выступающего как парафраз общества. Эта претензия может мыслиться и выражаться по-разному, в зависимости от тех форм культа, в которых общество опосредует идею собственной целостности. Сама способность к такому опосредованию (и потребность в нем) вряд ли изначальна, она требует определенного уровня культуры и выступает «метафизической» предпосылкой суверенности.
Борьба с «двойными стандартами» является не только формой признания самих стандартов (международной «правозащитной деятельности»), но и формой признания приоритета тех, кто их формулирует. В политике Вашингтона и Брюсселя заключена претензия на то, что их решения по конфликтным вопросам международной жизни представляют собой акты судебной, а не политической власти (акты применения «стандартов», а не воплощения «интересов»), ибо такова в своей основе власть империи. Подавая бесконечные апелляции на их «неправедный суд», Москва поддерживает эту претензию — и оказывается включена в логическую конструкцию имперской гегемонии.
Апелляция к международному праву сама по себе — вполне уместный и банальный прием. Но в российском исполнении она превращается в отчаянный легитимизм, сводящийся к вере в то, что суверенные права государств гарантированы международным правом. В действительности, все наоборот: международное право является функцией государственного суверенитета и не имеет иных источников легитимности.
Это значит, что защита суверенитета в рамках международного порядка по сути не может быть правовой, но только лишь политической. По меньшей мере, таков суверенный взгляд на этот вопрос.
Я уже имел случай писать о том, что привычка воспринимать суверенитет как данность, прописанную в скрижалях и принадлежащую каждому государству по факту его членства в ООН, всерьез препятствует делу реального суверенитета. Если угодно, она мешает воспринимать его как практическую ценность, то есть как нечто весьма редкостное, нуждающееся в культивации, и одновременно жизненно необходимое.
В свое время эта мысль неожиданно проскользнула в одной из бесед Владимира Путина с эмиссарами западной общественности, но осталась, увы, не вполне раскрытой и не слишком замеченной.
А между тем, нам бы стоило, в самом деле, определиться: в чем мы видим ценность суверенитета? Т.е. его редкостность, с одной стороны, и жизненную необходимость — с другой?
Смертный Бог
Думаю, ответ на первую часть этого вопроса (о редкостности) нужно начать с прояснения некоторых простых отличий: отличия суверенитета от власти и отличия власти от силы.
В этом ряду понятий «сила» наименее уникальна. Она больше всего похожа на вещество, которое действует по «закону сохранения» — «если в одном месте убудет, то в другом непременно прибудет», — и которое лежит в основании властной пирамиды. Любая власть, несомненно, предполагает определенный силовой потенциал, который может быть большим или меньшим.
Но как таковая власть представляет собой не силу, а признанное полномочие, которое поверяется по принципу «или» — «или»: подчинением или неподчинением. Таким образом, в отличие от силы, власть — это уже не «количество», а «качество» или, выражаясь на старомодный лад, некая форма, организующая материю силы.
Словом, власть — более редкая и сложная вещь, чем сила. Тем не менее, и она, в различных проявлениях, вездесуща, вечна, способна на любые превращения и реинкарнации.
О суверенитете же нельзя сказать ничего подобного. Он представляет собой исторически уникальную конфигурацию власти, сложившуюся в современную эпоху, в рамках современного государства. Уникальность этой конфигурации состоит в том, что она предполагает концентрацию различных форм власти — военно-полицейской, экономической, символической, — на одном и том же уровне, на уровне государства[3], чья власть благодаря этой концентрации становится исключительной (т.е. не допускающей пересечений с властью других государств) и верховной (по отношению к негосударственным сферам власти).
Как видим, удивительное свойство суверенитета состоит в том, что он одновременно преходящ и абсолютен. Абсолютен не в смысле «всемогущества», а в том смысле, что это «исключительное верховенство» невозможно «поделить», «распределить» или «ограничить». Невозможно — логически. А утратить или упразднить, разумеется, можно.
Вот уж воистину, «смертный Бог».
Карл Шмитт, размышляя о природе государственного верховенства, увидел его источник в способности быть инстанцией политического насилия, способности вести войну против публичного врага и проводить мобилизацию.
Эта политическая прерогатива государства совершенно необходима для понимания его суверенитета. Но вместе с тем, явно не достаточна. Чтобы обладать верховенством, государству необходима своего рода метафизическая прерогатива.
На чем должна основываться власть, над которой на этой земле нет никакой иной власти?
Она должна основываться на весьма серьезной онтологической претензии — претензии на репрезентацию целостности общества. А возможно, и полноты мира, выступающего как парафраз общества. Эта претензия может мыслиться и выражаться по-разному, в зависимости от тех форм культа, в которых общество опосредует идею собственной целостности. Сама способность к такому опосредованию (и потребность в нем) вряд ли изначальна, она требует определенного уровня культуры и выступает «метафизической» предпосылкой суверенности.
Две ипостаси государства — как субъекта политической мобилизации общества и как инстанции его символической репрезентации — логически связаны друг с другом, но исторически не тождественны.
Так, репрезентативная мощь была заключена во власти пап и императоров, которые оспаривали друг у друга прерогативу олицетворять единство (христианского) мира, воплощать неизменность его закона, быть источником легитимности для нисходящих уровней власти. Но на протяжении большей части истории средневековой Европы эта космологическая претензия Рима (в обоих аспектах его идеи, имперском и церковном) находилась в определенном противоречии с политической слабостью ее носителей.
Так, репрезентативная мощь была заключена во власти пап и императоров, которые оспаривали друг у друга прерогативу олицетворять единство (христианского) мира, воплощать неизменность его закона, быть источником легитимности для нисходящих уровней власти. Но на протяжении большей части истории средневековой Европы эта космологическая претензия Рима (в обоих аспектах его идеи, имперском и церковном) находилась в определенном противоречии с политической слабостью ее носителей.
Лидерами в смысле политической мобилизации и концентрации ресурсов были королевские дворы, которые, однако, не обладали суверенностью до тех пор, пока приоритет пап и императоров оставался в силе.
Ситуация, при которой приоритет мобилизации (короли) и приоритет репрезентации (папы и императоры) были отделены друг от друга, была ситуацией отсутствия суверенитета. Соответственно, их соединение может означать его рождение.
Что, собственно, и утверждается при возведении «принципа суверенитета» к событию Вестфальского мира, в котором имперская власть дезавуировала свое верховенство.
С исторической точки зрения, «вестфальскую» генеалогию суверенитета многие считают мифом. Так, историк Бенно Течке вполне убедительно утверждает, что «вестфальские соглашения о мире не содержали принципа современного суверенитета и связанных с ним международных отношений», а «вестфальская система оставалась по сути своей досовременной». Если бы речь шла лишь о точности датировки, подобными соображениями можно было бы пренебречь. В конце концов, даты рождения эпох не обязаны быть точными. Однако в данном случае сомнение касается самого понятия суверенитета. А именно, того, насколько оно совместимо с пониманием государства как формы осуществления династией ее патримониальной собственности на землю.
Этот вопрос можно оставить открытым или просто снять, конвенционально отграничив суверенитет «патримониальный» от того суверенитета, что нас интересует — «современного» (Течке поступает именно так), поскольку они действительно в корне различны. Но я бы предпочел большую определенность, заключенную в убеждении, что суверенитет как таковой в принципе не есть собственность. Поскольку в идее собственности, феодальной в том числе, заключено, что право, которым она удостоверяется, имеет внешний по отношению к ней характер. Что в корне противоречит самоучредительной претензии суверенитета.
Как бы то ни было, «вестфальский суверенитет» как таковой действительно является незавершенным.
Чего ему не хватает для полноты? Быть может, революции? В самом деле, можно предположить, что конструкция суверенитета получает завершенность, когда, в дополнение к достигнутому соединению мобилизационной и репрезентативной мощи, верховная власть подвергается «абстракции» (теоретической и практической) и переходит от конкретного лица к «народу».
Однако, делая такое предположение, мы совершаем большую несправедливость: мы оставляем в пространстве суверенности лишь Руссо и выводим из него Гоббса. Но представительное лицо Гоббса есть несомненный суверен. Да, он не является как таковой «народом», но он не является и феодалом, поскольку он видит в своей власти способ поддержания общества, а не способ владения землей.
Персонифицированный суверенитет может в не меньшей степени быть общественной функцией, чем суверенитет абстрактный.
Поэтому недостающее звено суверенности следует искать где-то в другом месте, и полагаю, что таким звеном является оформление того аспекта власти, который Фуко называет «правительственностью». Он не является изначальным и вступает в права в Новое время, где-то в XVIII веке, как полагает Фуко. Следуя его пояснениям, можно заключить, что «правительственность» — это выход из состояния власти, зацикленной на самое себя и озабоченной лишь собственным воспроизводством посредством общества. Суть правления (как типа власти) состоит в том, что оно осуществляется не (только) в соответствии с потребностями господства, но в соответствии с автономной логикой общественной реальности во всем ее многообразии. Эта эволюция власти обусловлена, несомненно, не прогрессом нравов власть предержащих, а развитием предметных отраслей социального знания, таких, как экономика или демография. Благодаря когнитивному повороту к восприятию общества как системы, стала возможной ориентация правительственных техник на население — как цель, а не только как средство власти.[4]
Навеянная опытом науки системность в восприятии общества является такой же теоретико-познавательной предпосылкой суверенитета, как и мышление в категориях целостности.
Это еще один повод задуматься о том, что суверенитет — весьма рафинированный плод цивилизации, требующий для своего поддержания, среди множества прочих условий, определенного уровня (и возможно, определенного типа) теоретической культуры общества.
Именно с рождением идеи «правительственности» государство предстало в современном виде — уже не как способ снятия ренты с общества для проведения династической политики, а как функция самого общества, способного планомерно воспроизводить себя, а также концентрировать и реконфигурировать ресурсы для достижения политически значимых целей.
В этой эволюции можно усмотреть вполне определенную логику, ведущую к рождению суверенитета.
Она состоит в том, что способность власти олицетворять общество (репрезентация) оказывается дополнена способностью концентрировать критическую массу ресурсов общества в своих руках (мобилизация) и способностью обеспечивать планомерное воспроизводство общества через поддержание регулирующих систем (управление). Иными словами, посредством суверенитета как формы комплексной власти, основанной на концентрации разноплановых прерогатив и ресурсов, общество не только отображает или воображает, но и воплощает в жизнь собственную целостность. Т.е. является субъектом в отношении самого себя.
Социологи привыкли воспринимать целостность (а потом, благодаря Луману, и самореферентность) общества как методологический постулат. Но, по сути, это довольно поздний продукт и, если угодно, артефакт суверенного государства[5]. Которое, с этой точки зрения, является не одним из многочисленных фетишей современного мира, а способом воспроизводства Современности как таковой.
Возвращение в современность
Можно сколь угодно долго спорить, в чем суть и порождающий принцип той взаимосвязи идей и институтов, которую мы называем «современностью». В рационализации, эмансипации, секуляризации или в чем-то еще? Правильного ответа, по всей видимости, не существует. Но существует некая универсальная отправная точка для понимания современности и рассуждения о ней. Она состоит в том, что современное общество обречено на проектный способ существования.
Это не значит, что оно обязательно порывает с традицией. Без традиции современность немыслима, как и все остальное. Но в рамках современности традиция не может быть самоочевидным и достаточным основанием легитимности общественного порядка в целом и порядка власти в частности. Обнаружение этих оснований становится проблемой, которая решается в ходе политико-идеологической жизни общества.[6]
Недаром рождение современности ознаменовано бумом концепций «общественного договора», авторы которых стремились не столько делегитимировать «старый порядок», сколько релегитимировать власть и государство как таковые.
Общим знаменателем этих концепций являются три фундаментальных свойства современного мышления: это, во-первых, осмысление общества в аспекте его способности к самоучреждению, во-вторых, понимание самоучреждения как процесса, которому сопричастны все члены общества, в-третьих, это введение идеи суверенитета как конкретной формы самоучреждения общества.
Концепции «общественного договора» были подвергнуты ревизии со стороны субстанциального мышления Гегеля и историзма романтиков. Но эта ревизия не отвергала названных основоположений, а лишь была призвана показать, что самоучреждение, необходимым образом, происходит не в рамках абстрактного, а в рамках исторически определенного и ограниченного общества, чья идентичность задана не только внутренними (через способность к самоопределению, самозаконодательству), но и внешними отношениями (через соотнесение с себе подобными).[7]
Так или иначе, для консервативных критиков «общественного договора» точно так же, как и для его теоретиков, средоточием современного способа существования общества является суверенитет.
Общество не может быть современным иначе, чем перманентно учреждая самое себя, и оно не может учреждать, определять, проектировать себя иначе, чем отчуждая от себя ту инстанцию, в лице которой оно является субъектом. По отношению к себе и к другим.
Эта инстанция — независимо от того, является ли она гоббсовским «представительным лицом» или руссоистской «общей волей», — и является сувереном.
Не сложно заметить, что метафизика суверенитета является частным случаем западной метафизики субъекта (и это еще один способ напомнить о ее культурно-исторической уникальности), согласно которой средоточием человека выступает его Я, и это Я конституирует себя в акте самосознания (в созерцательных философиях) или действия (в философиях активистских). «Я полагает само себя», говоря словами Фихте, который в своем лице удачно соединил идеолога субъектности трансцендентальной и национальной.
Вполне естественно, что философию «смерти субъекта», которая была разработана в постклассической мысли, часто пытаются применить для деконструкции суверенитета,[8] чтобы подать в одной упаковке «смерть человека» à la Фуко и «смерть государства» à la Аттали.[9]
Такого рода критика, однако, имеет обратный эффект, принося пользу делу обоснования суверенитета. Прежде всего, она позволяет избавиться от доводов наивного индивидуализма, не устающего утверждать, что «реальны» лишь отдельные люди, а общество и производные от него категории — лишь абстракция. Постклассическая философия показывает, что персональная идентичность является «конструктом» в не меньшей мере, чем социальная идентичность во всех ее разновидностях. Там же, где эта философия пытается сделать политические выводы из своей критики и утверждает, что, «разобрав» конструкт личности или социальной общности, мы тем самым дезавуируем его, она терпит заведомую неудачу.
Кажется, Славой Жижек настаивал на том, что критика идеологии, сколь бы изощренна она ни была, ни в коей мере не подрывает оснований самой идеологии, поскольку последняя представляет собой не просто «ложное сознание», а ложное сознание, встроенное в структуру воспроизводства реальности.
Можно пойти дальше, сказав, что онтологически необходимое заблуждение заблуждением вообще не является.
Это в точности верно для «метафизики субъекта». Она не может быть «теоретически опровергнута». Поскольку то, что можно назвать личностной идентичностью, центростремительным образом человеческого Я, а в наиболее общем виде — идеей субъекта — не является некоей концепцией, описывающей человеческую реальность, а является, по выражению Курта Хюбнера «необходимым практическим постулатом». Необходимым — в рамках нашего способа быть человеком. Не больше, но и не меньше.
Что, в таком случае, остается на долю критиков? Извлечение следствий. Следствий возможного отказа от названного практического постулата и следствий его принятия.
Причем второе им удается значительно лучше, чем первое.
Ситуация, при которой приоритет мобилизации (короли) и приоритет репрезентации (папы и императоры) были отделены друг от друга, была ситуацией отсутствия суверенитета. Соответственно, их соединение может означать его рождение.
Что, собственно, и утверждается при возведении «принципа суверенитета» к событию Вестфальского мира, в котором имперская власть дезавуировала свое верховенство.
С исторической точки зрения, «вестфальскую» генеалогию суверенитета многие считают мифом. Так, историк Бенно Течке вполне убедительно утверждает, что «вестфальские соглашения о мире не содержали принципа современного суверенитета и связанных с ним международных отношений», а «вестфальская система оставалась по сути своей досовременной». Если бы речь шла лишь о точности датировки, подобными соображениями можно было бы пренебречь. В конце концов, даты рождения эпох не обязаны быть точными. Однако в данном случае сомнение касается самого понятия суверенитета. А именно, того, насколько оно совместимо с пониманием государства как формы осуществления династией ее патримониальной собственности на землю.
Этот вопрос можно оставить открытым или просто снять, конвенционально отграничив суверенитет «патримониальный» от того суверенитета, что нас интересует — «современного» (Течке поступает именно так), поскольку они действительно в корне различны. Но я бы предпочел большую определенность, заключенную в убеждении, что суверенитет как таковой в принципе не есть собственность. Поскольку в идее собственности, феодальной в том числе, заключено, что право, которым она удостоверяется, имеет внешний по отношению к ней характер. Что в корне противоречит самоучредительной претензии суверенитета.
Как бы то ни было, «вестфальский суверенитет» как таковой действительно является незавершенным.
Чего ему не хватает для полноты? Быть может, революции? В самом деле, можно предположить, что конструкция суверенитета получает завершенность, когда, в дополнение к достигнутому соединению мобилизационной и репрезентативной мощи, верховная власть подвергается «абстракции» (теоретической и практической) и переходит от конкретного лица к «народу».
Однако, делая такое предположение, мы совершаем большую несправедливость: мы оставляем в пространстве суверенности лишь Руссо и выводим из него Гоббса. Но представительное лицо Гоббса есть несомненный суверен. Да, он не является как таковой «народом», но он не является и феодалом, поскольку он видит в своей власти способ поддержания общества, а не способ владения землей.
Персонифицированный суверенитет может в не меньшей степени быть общественной функцией, чем суверенитет абстрактный.
Поэтому недостающее звено суверенности следует искать где-то в другом месте, и полагаю, что таким звеном является оформление того аспекта власти, который Фуко называет «правительственностью». Он не является изначальным и вступает в права в Новое время, где-то в XVIII веке, как полагает Фуко. Следуя его пояснениям, можно заключить, что «правительственность» — это выход из состояния власти, зацикленной на самое себя и озабоченной лишь собственным воспроизводством посредством общества. Суть правления (как типа власти) состоит в том, что оно осуществляется не (только) в соответствии с потребностями господства, но в соответствии с автономной логикой общественной реальности во всем ее многообразии. Эта эволюция власти обусловлена, несомненно, не прогрессом нравов власть предержащих, а развитием предметных отраслей социального знания, таких, как экономика или демография. Благодаря когнитивному повороту к восприятию общества как системы, стала возможной ориентация правительственных техник на население — как цель, а не только как средство власти.[4]
Навеянная опытом науки системность в восприятии общества является такой же теоретико-познавательной предпосылкой суверенитета, как и мышление в категориях целостности.
Это еще один повод задуматься о том, что суверенитет — весьма рафинированный плод цивилизации, требующий для своего поддержания, среди множества прочих условий, определенного уровня (и возможно, определенного типа) теоретической культуры общества.
Именно с рождением идеи «правительственности» государство предстало в современном виде — уже не как способ снятия ренты с общества для проведения династической политики, а как функция самого общества, способного планомерно воспроизводить себя, а также концентрировать и реконфигурировать ресурсы для достижения политически значимых целей.
В этой эволюции можно усмотреть вполне определенную логику, ведущую к рождению суверенитета.
Она состоит в том, что способность власти олицетворять общество (репрезентация) оказывается дополнена способностью концентрировать критическую массу ресурсов общества в своих руках (мобилизация) и способностью обеспечивать планомерное воспроизводство общества через поддержание регулирующих систем (управление). Иными словами, посредством суверенитета как формы комплексной власти, основанной на концентрации разноплановых прерогатив и ресурсов, общество не только отображает или воображает, но и воплощает в жизнь собственную целостность. Т.е. является субъектом в отношении самого себя.
Социологи привыкли воспринимать целостность (а потом, благодаря Луману, и самореферентность) общества как методологический постулат. Но, по сути, это довольно поздний продукт и, если угодно, артефакт суверенного государства[5]. Которое, с этой точки зрения, является не одним из многочисленных фетишей современного мира, а способом воспроизводства Современности как таковой.
Возвращение в современность
Можно сколь угодно долго спорить, в чем суть и порождающий принцип той взаимосвязи идей и институтов, которую мы называем «современностью». В рационализации, эмансипации, секуляризации или в чем-то еще? Правильного ответа, по всей видимости, не существует. Но существует некая универсальная отправная точка для понимания современности и рассуждения о ней. Она состоит в том, что современное общество обречено на проектный способ существования.
Это не значит, что оно обязательно порывает с традицией. Без традиции современность немыслима, как и все остальное. Но в рамках современности традиция не может быть самоочевидным и достаточным основанием легитимности общественного порядка в целом и порядка власти в частности. Обнаружение этих оснований становится проблемой, которая решается в ходе политико-идеологической жизни общества.[6]
Недаром рождение современности ознаменовано бумом концепций «общественного договора», авторы которых стремились не столько делегитимировать «старый порядок», сколько релегитимировать власть и государство как таковые.
Общим знаменателем этих концепций являются три фундаментальных свойства современного мышления: это, во-первых, осмысление общества в аспекте его способности к самоучреждению, во-вторых, понимание самоучреждения как процесса, которому сопричастны все члены общества, в-третьих, это введение идеи суверенитета как конкретной формы самоучреждения общества.
Концепции «общественного договора» были подвергнуты ревизии со стороны субстанциального мышления Гегеля и историзма романтиков. Но эта ревизия не отвергала названных основоположений, а лишь была призвана показать, что самоучреждение, необходимым образом, происходит не в рамках абстрактного, а в рамках исторически определенного и ограниченного общества, чья идентичность задана не только внутренними (через способность к самоопределению, самозаконодательству), но и внешними отношениями (через соотнесение с себе подобными).[7]
Так или иначе, для консервативных критиков «общественного договора» точно так же, как и для его теоретиков, средоточием современного способа существования общества является суверенитет.
Общество не может быть современным иначе, чем перманентно учреждая самое себя, и оно не может учреждать, определять, проектировать себя иначе, чем отчуждая от себя ту инстанцию, в лице которой оно является субъектом. По отношению к себе и к другим.
Эта инстанция — независимо от того, является ли она гоббсовским «представительным лицом» или руссоистской «общей волей», — и является сувереном.
Не сложно заметить, что метафизика суверенитета является частным случаем западной метафизики субъекта (и это еще один способ напомнить о ее культурно-исторической уникальности), согласно которой средоточием человека выступает его Я, и это Я конституирует себя в акте самосознания (в созерцательных философиях) или действия (в философиях активистских). «Я полагает само себя», говоря словами Фихте, который в своем лице удачно соединил идеолога субъектности трансцендентальной и национальной.
Вполне естественно, что философию «смерти субъекта», которая была разработана в постклассической мысли, часто пытаются применить для деконструкции суверенитета,[8] чтобы подать в одной упаковке «смерть человека» à la Фуко и «смерть государства» à la Аттали.[9]
Такого рода критика, однако, имеет обратный эффект, принося пользу делу обоснования суверенитета. Прежде всего, она позволяет избавиться от доводов наивного индивидуализма, не устающего утверждать, что «реальны» лишь отдельные люди, а общество и производные от него категории — лишь абстракция. Постклассическая философия показывает, что персональная идентичность является «конструктом» в не меньшей мере, чем социальная идентичность во всех ее разновидностях. Там же, где эта философия пытается сделать политические выводы из своей критики и утверждает, что, «разобрав» конструкт личности или социальной общности, мы тем самым дезавуируем его, она терпит заведомую неудачу.
Кажется, Славой Жижек настаивал на том, что критика идеологии, сколь бы изощренна она ни была, ни в коей мере не подрывает оснований самой идеологии, поскольку последняя представляет собой не просто «ложное сознание», а ложное сознание, встроенное в структуру воспроизводства реальности.
Можно пойти дальше, сказав, что онтологически необходимое заблуждение заблуждением вообще не является.
Это в точности верно для «метафизики субъекта». Она не может быть «теоретически опровергнута». Поскольку то, что можно назвать личностной идентичностью, центростремительным образом человеческого Я, а в наиболее общем виде — идеей субъекта — не является некоей концепцией, описывающей человеческую реальность, а является, по выражению Курта Хюбнера «необходимым практическим постулатом». Необходимым — в рамках нашего способа быть человеком. Не больше, но и не меньше.
Что, в таком случае, остается на долю критиков? Извлечение следствий. Следствий возможного отказа от названного практического постулата и следствий его принятия.
Причем второе им удается значительно лучше, чем первое.
Критики «метафизики субъекта» — самые разнообразные, от Хайдеггера до Маркузе, — были прежде всего людьми классической западной культуры, т.е. носителями этой самой метафизики. Поэтому контуры альтернативной антропологии были в их исполнении гораздо менее убедительными и обстоятельными, чем анализ тех капитальных следствий для образа человека и его мира, которые влечет осмысление себя в категориях субъектности.
Эти следствия, многократно проклятые одними и превознесенные другими, хорошо известны: самодисциплина, связное мышление, ответственность за поступки, техническая рациональность и так далее. Их суть можно выразить одной фразой: в идее личности человек постулирует свою целостность с тем, чтобы непрерывно, всю жизнь следовать ей.
Эти следствия, многократно проклятые одними и превознесенные другими, хорошо известны: самодисциплина, связное мышление, ответственность за поступки, техническая рациональность и так далее. Их суть можно выразить одной фразой: в идее личности человек постулирует свою целостность с тем, чтобы непрерывно, всю жизнь следовать ей.
Суверенитет есть, с одной стороны, постулирование целостности общества, с другой — проведение в жизнь определенного рода «политики целостности» за счет концентрации в руках государства нескольких системообразующих монополий: монополии на легитимное насилие, монополии на законодательство, монополии на денежную эмиссию, монополии на идентичость и исключительную лояльность граждан... Реализуя и осуществляя эти монополии в их взаимосвязи, государство производит системную целостность общества как свой главный продукт. Императивы этой политики целостности в чем-то аналогичны императивам личностной идентичности. Это унификация общества на базе единого культурного стандарта, достижение коммуникационной связности, продвижение социальной солидарности и межклассовой интеграции, становление единого пространства публичности, словом, все то, что считается атрибутами «нациегенеза».
Именно «нацией» уместно назвать ту арену, на которой происходит действие суверенитета — от постулирования и репрезентации социальной целостности к ее политическому воплощению. Это вполне соответствует привычному (в логике «общественного договора») пониманию нации как пространства самоучреждения общества и, соответственно, как основного субъекта истории в эпоху Модерна.
В самом деле, если мы понимаем современность как некий способ существования общества, при котором оно суверенно учреждает самое себя, то именно нация оказывается базовым носителем современности и соответствующего ей типа развития.
Разумеется, в качестве субъекта развития может рассматриваться и выступать все, что угодно — предприятия, корпорации, социальные группы, отрасли промышленности, региональные рынки и так далее. Но модернизирующиеся общества отличаются от не-модернизирующихся именно тем, что в них планомерно и сознательно обеспечивается приоритет определенного таксономического уровня развития — национального уровня, на котором население, государство, территория выступают как единая система. Параметры эффективности задаются на системе в целом, а не на отдельных ее элементах. Такой тип развития можно назвать «целостным».
В отличие от анклавного развития, которое наиболее органично спонтанному течению вещей, целостное развитие является искусственным, требующим культивации (как и сам суверенитет). Именно поэтому современность представляет собой проект, а не совокупность «объективных тенденций».
Здесь, наконец, мы можем дать предварительный ответ на вопрос, заданный в первой части статьи. Для чего нам, то есть России, необходим суверенитет?
Нет, не для культивирования особенностей нашей политической культуры.
И даже не для великодержавного престижа — который исключительно важен, но слишком легко может быть представлен как «недопустимая в данный момент роскошь».
Он необходим для целостного развития России как страны-системы. И это значит — для модернизации.
Из сказанного ясно, что модернизацию мы понимаем не как «переход» (откуда-то куда-то) или как «заимствование» (у кого-то чего-то), а как поддержание себя в состоянии современности.
И это различие принципиально. Особенно сегодня, когда мы присутствуем при историческом коллапсе конформистских теорий модернизации. Тех, что видели в ней усвоение наиболее передового опыта западных стран[10]. Но как быть, если этот наиболее передовой опыт вступает во все более явное противоречие со смыслом современности как исторического проекта?[11]
Здесь уместно вернуться к тому, с чего мы начали разговор.
Настойчивая институционализация права на вмешательство и, в еще большей мере, своеобразное применение этого права в интересах демонстративно-показательного регресса, варваризации и фрагментации общества (Косово, Афганистан, Ирак) говорят о том, что Запад больше не является субъектом модернизации для остального мира. И большой вопрос — является ли он таковым для самого себя. Последнее нуждается в отдельном рассмотрении.
Пока же просто зафиксируем, что в ситуации, когда западный маяк современности погас, модернизация оказывается уже не догоняющей, а альтернативной стратегией.
Стратегией, в которой почвенники будут рады узнать оттиск «особого пути».
Фантасты — контуры «параллельной истории». А стоики — просто шанс сохранить верность себе. Даже не из принципа, а из отвращения. Продукты распада современности заметны повсюду, и постсуверенное государство представляет собой зрелище не менее отталкивающее, чем постчеловеческий индивид.
Именно «нацией» уместно назвать ту арену, на которой происходит действие суверенитета — от постулирования и репрезентации социальной целостности к ее политическому воплощению. Это вполне соответствует привычному (в логике «общественного договора») пониманию нации как пространства самоучреждения общества и, соответственно, как основного субъекта истории в эпоху Модерна.
В самом деле, если мы понимаем современность как некий способ существования общества, при котором оно суверенно учреждает самое себя, то именно нация оказывается базовым носителем современности и соответствующего ей типа развития.
Разумеется, в качестве субъекта развития может рассматриваться и выступать все, что угодно — предприятия, корпорации, социальные группы, отрасли промышленности, региональные рынки и так далее. Но модернизирующиеся общества отличаются от не-модернизирующихся именно тем, что в них планомерно и сознательно обеспечивается приоритет определенного таксономического уровня развития — национального уровня, на котором население, государство, территория выступают как единая система. Параметры эффективности задаются на системе в целом, а не на отдельных ее элементах. Такой тип развития можно назвать «целостным».
В отличие от анклавного развития, которое наиболее органично спонтанному течению вещей, целостное развитие является искусственным, требующим культивации (как и сам суверенитет). Именно поэтому современность представляет собой проект, а не совокупность «объективных тенденций».
Здесь, наконец, мы можем дать предварительный ответ на вопрос, заданный в первой части статьи. Для чего нам, то есть России, необходим суверенитет?
Нет, не для культивирования особенностей нашей политической культуры.
И даже не для великодержавного престижа — который исключительно важен, но слишком легко может быть представлен как «недопустимая в данный момент роскошь».
Он необходим для целостного развития России как страны-системы. И это значит — для модернизации.
Из сказанного ясно, что модернизацию мы понимаем не как «переход» (откуда-то куда-то) или как «заимствование» (у кого-то чего-то), а как поддержание себя в состоянии современности.
И это различие принципиально. Особенно сегодня, когда мы присутствуем при историческом коллапсе конформистских теорий модернизации. Тех, что видели в ней усвоение наиболее передового опыта западных стран[10]. Но как быть, если этот наиболее передовой опыт вступает во все более явное противоречие со смыслом современности как исторического проекта?[11]
Здесь уместно вернуться к тому, с чего мы начали разговор.
Настойчивая институционализация права на вмешательство и, в еще большей мере, своеобразное применение этого права в интересах демонстративно-показательного регресса, варваризации и фрагментации общества (Косово, Афганистан, Ирак) говорят о том, что Запад больше не является субъектом модернизации для остального мира. И большой вопрос — является ли он таковым для самого себя. Последнее нуждается в отдельном рассмотрении.
Пока же просто зафиксируем, что в ситуации, когда западный маяк современности погас, модернизация оказывается уже не догоняющей, а альтернативной стратегией.
Стратегией, в которой почвенники будут рады узнать оттиск «особого пути».
Фантасты — контуры «параллельной истории». А стоики — просто шанс сохранить верность себе. Даже не из принципа, а из отвращения. Продукты распада современности заметны повсюду, и постсуверенное государство представляет собой зрелище не менее отталкивающее, чем постчеловеческий индивид.
Опубликовано на портале apn.ru, 25 июня 2008 года
[1] Это тем более верно, что в отличие от ситуации «холодной войны», когда имело место открытое с обеих сторон, симметричное идеологическое противостояние, здесь речь идет о режимах, которые ни в коей мере не стремятся заявлять о своей идеологической ангажированности, лишены мессианского пафоса и подчеркнуто безразличны к «цвету кошки», которая должна, по известному выражению Ден Сяо Пина, «ловить мышей». То есть речь идет о характерном для поисков ереси «жесте разлоблачения». В данном случае — технократов, уличенных в том, что на самом деле они инаковерующие.
[2] В этой связи можно отметить системное отличие между авторитаризмом и либеральной демократией.
Если легитимация демократической власти заключена в процедуре ее формирования и правилах ее осуществления, то легитимация авторитарной власти заключена в ее целях и результатах. Соответственно, без идеологии, трактующей эти цели и результаты в должном масштабе, авторитаризм является для либеральной демократии не «противником» и не «альтернативой», а исключительно мальчиком для битья. И несомненно, будет использоваться по этому назначению.
[3] См. об этом статью Пьера Бурдье «Дух государства: генезис и структура бюрократического поля».
[4] Что касается самого Фуко и его отношения к идее «правительственности», то мне могут напомнить, что он вводит ее в противовес идее «суверенитета».
«Если конечная цель суверенитета, — пишет он, — заключена в нем самом и если суверенитет извлекает из самого себя орудия управления в виде законов, то… конечная цель правительства заключена в управляемых им вещах (в «некотором подобии комплекса, образованного людьми и вещами», как он формулирует в другом месте – М.Р.); она состоит в поисках совершенствования, расширения и интенсификации направляемых правительством процессов…». (Логос, № 4-5, 2003 (39))
Суверенитет действительно является целью в себе и неотъемлемо содержит самоучредительную претензию («извлекает из самого себя орудия управления в виде законов»). Но сама эта претензия как раз в корне несовместима с тем отчуждением субъекта политического господства от его объекта, которое здесь неявно приписывается логике суверенности. Суверен (кем бы он ни был, персоной или народом) необходимо опосредует себя не только «территорией», но и «населением», с тем, чтобы в его (суверена) лице оно из «субстанции» превращалось в «субъект». И ничто не мешает тому, чтобы в этом опосредовании был совершен переход от спекулятивной идеи служения «общественному благу» (о значении которой для связи «суверенитета» и «общества» упоминает Фуко) к практической и обязывающей идее «правительственности».
Иными словами, отношение этих двух идей характеризуются скорее дополнительностью, чем антагонизмом. Фуко это нехотя признает, говоря о том, что «суверенитет отнюдь не исчезает с возникновением нового искусства управления… напротив, он представляется более актуальным, чем когда бы то ни было». Можно сказать и более определенно. Вряд ли «правительственность» как тип отношения власти к населению могла возникнуть вне контекста формирующегося суверенитета. Больше того, будучи изначально встроена в этот контекст, именно она придала ему необходимую завершенность.
[5] Косвенно об этом свидетельствует и юный возраст социологии, возникшей лишь тогда, когда презумпция целостности общества стала уже в достаточной мере самоочевидной благодаря действию механизмов социализации под эгидой современного государства.
[6] См. об этом Б. Капустин. Современность как предмет политической теории. М., 1998.
[7] На первый взгляд, мышление романтиков может показаться несовместимым с проектностью модерна, но в действительности метафора национального «пробуждения», играющая в их конструкциях принципиальную роль, является не чем иным, как органицистским аналогом того, что Кант считал сутью Просвещения – переход к «совершеннолетию». Речь идет лишь об иной форме осмысления кардинальной для современности проблемы самоучреждения общества. Причем форме, восполняющей вопиющие пробелы договорного и рационалистического мышления. В этом смысле, Курт Хюбнер в своей книге «Нация» имеет все основания утверждать, что с привычкой оттеснять политическую философию романтизма на периферию или за рамки современности должно быть покончено, поскольку «современное государство уходит своими корнями в Просвещение и романтизм».
[8] См., напр., статью Николая Плотникова в журнале «Апология».
[9] Манифестом, в котором образы постгосударственного и постчеловеческого будущего слились в единой программе тотальной эмансипации, стала книга «Империя» Майкла Негри и Антонио Хардта.
[10] Егор Холмогоров в статье «Модернизация и сверхмодернизация» справедливо критикует эти теории, но несправедливо отождествляет их с теорией модернизации как таковой. Принципиальная, логическая несводимость «модернизации» к «вестернизации» хорошо показана в уже упомянутой книге Бориса Капустина «Современность как предмет политической теории».
[11] См. об этом цикл статей Сергея Кургиняна «Медведев и развитие» в газете «Завтра»
[2] В этой связи можно отметить системное отличие между авторитаризмом и либеральной демократией.
Если легитимация демократической власти заключена в процедуре ее формирования и правилах ее осуществления, то легитимация авторитарной власти заключена в ее целях и результатах. Соответственно, без идеологии, трактующей эти цели и результаты в должном масштабе, авторитаризм является для либеральной демократии не «противником» и не «альтернативой», а исключительно мальчиком для битья. И несомненно, будет использоваться по этому назначению.
[3] См. об этом статью Пьера Бурдье «Дух государства: генезис и структура бюрократического поля».
[4] Что касается самого Фуко и его отношения к идее «правительственности», то мне могут напомнить, что он вводит ее в противовес идее «суверенитета».
«Если конечная цель суверенитета, — пишет он, — заключена в нем самом и если суверенитет извлекает из самого себя орудия управления в виде законов, то… конечная цель правительства заключена в управляемых им вещах (в «некотором подобии комплекса, образованного людьми и вещами», как он формулирует в другом месте – М.Р.); она состоит в поисках совершенствования, расширения и интенсификации направляемых правительством процессов…». (Логос, № 4-5, 2003 (39))
Суверенитет действительно является целью в себе и неотъемлемо содержит самоучредительную претензию («извлекает из самого себя орудия управления в виде законов»). Но сама эта претензия как раз в корне несовместима с тем отчуждением субъекта политического господства от его объекта, которое здесь неявно приписывается логике суверенности. Суверен (кем бы он ни был, персоной или народом) необходимо опосредует себя не только «территорией», но и «населением», с тем, чтобы в его (суверена) лице оно из «субстанции» превращалось в «субъект». И ничто не мешает тому, чтобы в этом опосредовании был совершен переход от спекулятивной идеи служения «общественному благу» (о значении которой для связи «суверенитета» и «общества» упоминает Фуко) к практической и обязывающей идее «правительственности».
Иными словами, отношение этих двух идей характеризуются скорее дополнительностью, чем антагонизмом. Фуко это нехотя признает, говоря о том, что «суверенитет отнюдь не исчезает с возникновением нового искусства управления… напротив, он представляется более актуальным, чем когда бы то ни было». Можно сказать и более определенно. Вряд ли «правительственность» как тип отношения власти к населению могла возникнуть вне контекста формирующегося суверенитета. Больше того, будучи изначально встроена в этот контекст, именно она придала ему необходимую завершенность.
[5] Косвенно об этом свидетельствует и юный возраст социологии, возникшей лишь тогда, когда презумпция целостности общества стала уже в достаточной мере самоочевидной благодаря действию механизмов социализации под эгидой современного государства.
[6] См. об этом Б. Капустин. Современность как предмет политической теории. М., 1998.
[7] На первый взгляд, мышление романтиков может показаться несовместимым с проектностью модерна, но в действительности метафора национального «пробуждения», играющая в их конструкциях принципиальную роль, является не чем иным, как органицистским аналогом того, что Кант считал сутью Просвещения – переход к «совершеннолетию». Речь идет лишь об иной форме осмысления кардинальной для современности проблемы самоучреждения общества. Причем форме, восполняющей вопиющие пробелы договорного и рационалистического мышления. В этом смысле, Курт Хюбнер в своей книге «Нация» имеет все основания утверждать, что с привычкой оттеснять политическую философию романтизма на периферию или за рамки современности должно быть покончено, поскольку «современное государство уходит своими корнями в Просвещение и романтизм».
[8] См., напр., статью Николая Плотникова в журнале «Апология».
[9] Манифестом, в котором образы постгосударственного и постчеловеческого будущего слились в единой программе тотальной эмансипации, стала книга «Империя» Майкла Негри и Антонио Хардта.
[10] Егор Холмогоров в статье «Модернизация и сверхмодернизация» справедливо критикует эти теории, но несправедливо отождествляет их с теорией модернизации как таковой. Принципиальная, логическая несводимость «модернизации» к «вестернизации» хорошо показана в уже упомянутой книге Бориса Капустина «Современность как предмет политической теории».
[11] См. об этом цикл статей Сергея Кургиняна «Медведев и развитие» в газете «Завтра»