Суверенная теократия
На рубеже XX–XXI веков тема религиозной политики приобрела новое качество. Она как будто поменяла вектор и перешла из области сведения счетов с прошлым в область установления контактов с будущим. Не так просто осмыслить причины этой трансформации, но нет недостатка в описании ее симптомов. Политическое насилие переходит с языка национально-освободительной борьбы на язык проповеди. Естествознание открывает возможности манипуляций с генетической структурой человека или его полом, т.е. достигает рубежа, за которым оно перестает быть религиозно нейтральным. Философия, очертив круг самораспада критического мышления, вновь обретает вкус к теологии. Элиты, на дне своего профессионального цинизма, обнаруживают мессианские установки, подчас даже не просто религиозного, а сектантского плана. Локальные конфликты, часто помимо воли участников, обретают миропроектный масштаб и религиозное измерение. В целом, политическая жизнь и борьба, которая в эпоху Нового Времени была выведена из теологической системы координат, сегодня возвращается обратно — десекуляризируется.
В этой ситуации сам термин "религиозная политика" приобретает иное значение. Как пишут авторы доклада "Новейшее Средневековье", "религиозная политика" в современном контексте — это уже не просто политика по отношению к религиям и конфессиям как "внешним государству структурам", а "религиозная оценка государства самим собой". Действительно, без подобной оценки государство вряд ли сможет определить свою роль в истории и отстоять свою субъектность (а в нашем случае, и само свое существование) в основных конфликтах эпохи (1) . Но мы хорошо знаем, сколь многое в нас самих, в нашем стиле мышления сопротивляется этому религиозному самоопределению государства. Следуя преобладающей в государственном праве концепции, мы привыкли мыслить его "светским", религиозно нейтральным. Концепция "светского государства" — одна из главных теоретических проблем, стоящих на пути выработки новой религиозной политики. Причем решать ее изнутри самой религии, как мне кажется, бесперспективно: концепция "светского государства" никак не противоречит духу христианской веры. В чем тогда дело? На мой взгляд — в том, что она противоречит духу российского государства: его суверенитету. Именно с точки зрения суверенитета как осевой, системообразующей характеристики государства будет правильно рассмотреть и оценить доселе непререкаемый постулат о его "светскости".
Идея суверенитета и дух эпохи
Философия суверенитета — органическая часть борьбы за суверенитет. Суверенитета как реальности не будет, если в политической культуре не будет места суверенитету как понятию: если не будет такой формы мышления политических акторов. На данный момент суверенитет испытывает кризис именно как форма мышления. Эта форма мышления не органична люмпенизированным массам и монетизированным элитам. И те, и другие любят порассуждать о том, что "наш мир" становится "слишком сложным" для порядка, основанного на границах и юрисдикциях. Эта банальность муссируется уже на протяжении нескольких столетий и настолько вошла в привычку, что мы не замечаем очевидного. Сегодня вызов российскому суверенитету идет совсем с другой стороны. Не мир становится для него "слишком сложным", а наше общество становится для него слишком простым. Суверенитет — это фигура высшего пилотажа в мире социальных форм. Но у нас, как известно, не хватает топлива даже на учебные полеты…
В статье "Регрессивный синдром" Валерий Соловей фиксирует феномен новейшего "варварства", который выражается не только в "примитивизации культуры, огрублении жизни, криминализации социальных отношений". Все это, по его словам, — лишь симптомы "более глубоких изменений — формирования новой ценностной конфигурации", выводящей на передний план "ценности иерархии, крови, силы, экспансии" и предопределяющей "предпочтение примитивных и простых социальных связей и идентичностей сложным и большим". В этом пространстве регресса даже лелеемая "эффективность" значит только одно: простое выживает, сложное гибнет. А суверенитет — действительно сложный тип социальной связи (он несводим к интуитивно понятным для повседневного опыта ценностям "независимости" и "силы"). И, тем не менее, определенный шанс на жизнеспособность этой формы политического мышления — существует.
Связан он с неоднозначной природой самого "варварства". Безусловно, для цивилизованного русско-советского общества, характеризовавшегося высоким уровнем разделения труда, профессионализацией, эгалитарностью, солидаризмом, высоким уровнем безопасности и так далее, произошедший за минувшие годы реванш биосоциальных игр выживания является регрессом. Однако "варварство" столь же наивно считать антонимом "цивилизации", сколь и "биологическое" — антонимом "социального". Идеализм в этом вопросе бывает жестоко наказан. Гуманистическое позднесоветское общество, во многом, основывалось на вытеснении "грубой реальности" — тех самых "простых социальных связей и идентичностей", которые всегда готовы вернуться туда, где хотели бы о них забыть. В результате обвальной деградации общества проиграли те, кто были наиболее развиты. То есть, прежде всего, — русский образованный городской слой. Сегодня мы уже догадываемся, что жизнеспособная цивилизация не "оставляет позади" инстинкты племенной солидарности и естественной иерархии, а сохраняет их в преобразованном виде. Если мы выживем, новейшее варварство этих дней станет для нас прививкой от вырождения. Так что не стоит плакать о "духовности, которую мы потеряли".
В этой ситуации сам термин "религиозная политика" приобретает иное значение. Как пишут авторы доклада "Новейшее Средневековье", "религиозная политика" в современном контексте — это уже не просто политика по отношению к религиям и конфессиям как "внешним государству структурам", а "религиозная оценка государства самим собой". Действительно, без подобной оценки государство вряд ли сможет определить свою роль в истории и отстоять свою субъектность (а в нашем случае, и само свое существование) в основных конфликтах эпохи (1) . Но мы хорошо знаем, сколь многое в нас самих, в нашем стиле мышления сопротивляется этому религиозному самоопределению государства. Следуя преобладающей в государственном праве концепции, мы привыкли мыслить его "светским", религиозно нейтральным. Концепция "светского государства" — одна из главных теоретических проблем, стоящих на пути выработки новой религиозной политики. Причем решать ее изнутри самой религии, как мне кажется, бесперспективно: концепция "светского государства" никак не противоречит духу христианской веры. В чем тогда дело? На мой взгляд — в том, что она противоречит духу российского государства: его суверенитету. Именно с точки зрения суверенитета как осевой, системообразующей характеристики государства будет правильно рассмотреть и оценить доселе непререкаемый постулат о его "светскости".
Идея суверенитета и дух эпохи
Философия суверенитета — органическая часть борьбы за суверенитет. Суверенитета как реальности не будет, если в политической культуре не будет места суверенитету как понятию: если не будет такой формы мышления политических акторов. На данный момент суверенитет испытывает кризис именно как форма мышления. Эта форма мышления не органична люмпенизированным массам и монетизированным элитам. И те, и другие любят порассуждать о том, что "наш мир" становится "слишком сложным" для порядка, основанного на границах и юрисдикциях. Эта банальность муссируется уже на протяжении нескольких столетий и настолько вошла в привычку, что мы не замечаем очевидного. Сегодня вызов российскому суверенитету идет совсем с другой стороны. Не мир становится для него "слишком сложным", а наше общество становится для него слишком простым. Суверенитет — это фигура высшего пилотажа в мире социальных форм. Но у нас, как известно, не хватает топлива даже на учебные полеты…
В статье "Регрессивный синдром" Валерий Соловей фиксирует феномен новейшего "варварства", который выражается не только в "примитивизации культуры, огрублении жизни, криминализации социальных отношений". Все это, по его словам, — лишь симптомы "более глубоких изменений — формирования новой ценностной конфигурации", выводящей на передний план "ценности иерархии, крови, силы, экспансии" и предопределяющей "предпочтение примитивных и простых социальных связей и идентичностей сложным и большим". В этом пространстве регресса даже лелеемая "эффективность" значит только одно: простое выживает, сложное гибнет. А суверенитет — действительно сложный тип социальной связи (он несводим к интуитивно понятным для повседневного опыта ценностям "независимости" и "силы"). И, тем не менее, определенный шанс на жизнеспособность этой формы политического мышления — существует.
Связан он с неоднозначной природой самого "варварства". Безусловно, для цивилизованного русско-советского общества, характеризовавшегося высоким уровнем разделения труда, профессионализацией, эгалитарностью, солидаризмом, высоким уровнем безопасности и так далее, произошедший за минувшие годы реванш биосоциальных игр выживания является регрессом. Однако "варварство" столь же наивно считать антонимом "цивилизации", сколь и "биологическое" — антонимом "социального". Идеализм в этом вопросе бывает жестоко наказан. Гуманистическое позднесоветское общество, во многом, основывалось на вытеснении "грубой реальности" — тех самых "простых социальных связей и идентичностей", которые всегда готовы вернуться туда, где хотели бы о них забыть. В результате обвальной деградации общества проиграли те, кто были наиболее развиты. То есть, прежде всего, — русский образованный городской слой. Сегодня мы уже догадываемся, что жизнеспособная цивилизация не "оставляет позади" инстинкты племенной солидарности и естественной иерархии, а сохраняет их в преобразованном виде. Если мы выживем, новейшее варварство этих дней станет для нас прививкой от вырождения. Так что не стоит плакать о "духовности, которую мы потеряли".
“
Высокая культура — это не способ противопоставить "воле к власти" — "духовные ценности", а способ поддерживать связь между тем и другим. Так вот, "суверенитет" — и есть одна из форм такой связи. Это реальность, восходящая от "варварской" первоматерии общества к высшим формам солидарности, и удерживающаяся одновременно на обоих уровнях.
В чем "варварская" сторона понятия "суверенитета"? Очевидно — в идее превосходства организованной силы над собственностью и любым другим правом. Речь не о "праве сильного", а о способности сильного создавать и гарантировать право. Никакого права (в том числе собственности) логически не существует вне и помимо этой способности. Право есть результат признания со стороны сообщества, а признание, в свою очередь, значимо лишь как действенное (подкрепленное силой) признание (2). В чем "цивилизационная" сторона этого понятия? В том, что способность силы создавать право опосредуется и обосновывается сложными культовыми представлениями. Верховенство государственной власти по отношению ко всем иным мыслимым типам власти, воплощенное в ее монополии на ведение войны и военную мобилизацию, установление правового порядка и легитимное насилие, основывается на том, что только она представляет данное конкретное общество как целое. Однако "целостность" не дана сама собой, она конструируется идентичностью. Типы суверенитета зависят от того, каким образом, т.е. посредством каких культовых представлений данное конкретное общество кодирует представление о собственной целостности.
Крайне важно, что собственно представительская и символическая функция власти не является идеологической "надстройкой" над "силовой вертикалью" суверенитета. Она меняет природу самой силы, становясь источником качественного превосходства, экстраординарности верховной власти. Ведь борьба за суверенную власть — это в конечном счете борьба за способность(3) олицетворять совместную идентичность как "субстанциальную истину" общества. Воистину, только суверенный народ может позволить сказать себе "Сила в Правде" — не впадая в бессилие идеализма.
Рождение суверенитета: единство "мобилизации" и "репрезентации"
Взаимосвязь "силовой" и "культовой" сторон понятия "суверенитета" является не только логической, но и генеалогической. Переход от феодальных "варварских" государств к централистским "цивилизованным" государствам напрямую связан с преобразованием власти организованных рэкетирских бригад (в некоторых случаях можно даже сказать — этнических мафий), наладивших мобилизацию во имя экспроприации, к легитимному господству государя, сумевшего стать олицетворением общества, которым он правит(4). Этот переход совершается, конечно, не вдруг, а, как обычно, — из "количества" в "качество". Прослеживая генезис современной государственной власти, Пьер Бурдье отмечает, что ее качественное превосходство над другими формами власти есть результат соединения ресурсов разного типа в одних руках. "Государство есть завершение процесса концентрации различных видов капитала: физического принуждения или средств насилия (армия, полиция), экономического, культурного или, точнее, информационного, символического — концентрации, которая сама по себе делает из государства владельца определенного рода метакапитала… позволяющего государству властвовать над различными полями и частными видами капитала, а главное — над обменным курсом между ними (и тем самым над силовыми отношениями между их владельцами)". Это определение крайне важно для понимания суверенности государства по отношению к любым мыслимым типам сообществ. Оно содержит лишь небольшую неточность, которую Бурдье отчасти восполняет по ходу изложения: концентрация разнородных ресурсов создает "метакапитал" не "сама по себе", но исключительно на основе сопутствующей концентрации "символического капитала" в руках суверена. Как и было сказано, государственная власть суверенна в меру своей способности "репрезентировать" конкретность социального целого.
Эта репрезентативная способность, опять же, не принадлежит государству изначально. В ходе европейской истории оно оспаривало ее у религиозной общности — либо представляемой непосредственно католической церковью, либо действующей в ее ареале имперской структурой. Средневековое общество мыслило свое единство в религиозной системе координат. Как справедливо отмечает Александр Филиппов, "средневековое мышление было пронизано принципом единства. Но речь шла о единстве всего человечества, которое выступало… как основанное Богом единое государство или империя, которое состоит, собственно, не из отдельных людей, но из меньших сообществ, сохраняющих относительную самостоятельность". Если и говорить в этой ситуации о суверенитете, то исключительно о метасуверенитете империи, действующей под сенью определенной "сакральной вертикали" (термин Вадима Цымбурского) и контролирующей принципы легитимности всех нижестоящих центров силы. Но, строго говоря, о суверенитете здесь говорить не следовало бы. Там, где реальные центры концентрации ресурсов (дворы крупнейших феодалов) отделены от символического центра (условный Рим как средоточие империи и христианского мира), суверенитета как такового нет. Ведь он и есть единство мобилизации и репрезентации.
Соответственно, рождение суверенитета могло произойти либо в результате сверхконцентрации организационно-силовых ресурсов на имперском уровне, либо в результате перехода ресурса легитимности (то есть способности репрезентировать Целое) на уровень королевств. Произошло, как мы знаем, последнее. Эпоха религиозных войн, начавшись на волне тотальной теологизации любых общественных проблем, утомила Европу и привела, в конечном счете, к секуляризации господства. Последнее утверждение на первый взгляд сомнительно. Ведь по мере эмансипации королевств от Рима принцип богоданности власти отнюдь не уходит в прошлое. Официальная религиозность остается в своих правах. Не дающие спуску Папе французские короли титулуются "христианнейшими". Что же тогда секуляризировалось в момент этого перехода? Секуляризировались границы. Границы общества как континуума порядка перестали быть функцией границ "Божьего мира" или христианской ойкумены.
Крайне важно, что собственно представительская и символическая функция власти не является идеологической "надстройкой" над "силовой вертикалью" суверенитета. Она меняет природу самой силы, становясь источником качественного превосходства, экстраординарности верховной власти. Ведь борьба за суверенную власть — это в конечном счете борьба за способность(3) олицетворять совместную идентичность как "субстанциальную истину" общества. Воистину, только суверенный народ может позволить сказать себе "Сила в Правде" — не впадая в бессилие идеализма.
Рождение суверенитета: единство "мобилизации" и "репрезентации"
Взаимосвязь "силовой" и "культовой" сторон понятия "суверенитета" является не только логической, но и генеалогической. Переход от феодальных "варварских" государств к централистским "цивилизованным" государствам напрямую связан с преобразованием власти организованных рэкетирских бригад (в некоторых случаях можно даже сказать — этнических мафий), наладивших мобилизацию во имя экспроприации, к легитимному господству государя, сумевшего стать олицетворением общества, которым он правит(4). Этот переход совершается, конечно, не вдруг, а, как обычно, — из "количества" в "качество". Прослеживая генезис современной государственной власти, Пьер Бурдье отмечает, что ее качественное превосходство над другими формами власти есть результат соединения ресурсов разного типа в одних руках. "Государство есть завершение процесса концентрации различных видов капитала: физического принуждения или средств насилия (армия, полиция), экономического, культурного или, точнее, информационного, символического — концентрации, которая сама по себе делает из государства владельца определенного рода метакапитала… позволяющего государству властвовать над различными полями и частными видами капитала, а главное — над обменным курсом между ними (и тем самым над силовыми отношениями между их владельцами)". Это определение крайне важно для понимания суверенности государства по отношению к любым мыслимым типам сообществ. Оно содержит лишь небольшую неточность, которую Бурдье отчасти восполняет по ходу изложения: концентрация разнородных ресурсов создает "метакапитал" не "сама по себе", но исключительно на основе сопутствующей концентрации "символического капитала" в руках суверена. Как и было сказано, государственная власть суверенна в меру своей способности "репрезентировать" конкретность социального целого.
Эта репрезентативная способность, опять же, не принадлежит государству изначально. В ходе европейской истории оно оспаривало ее у религиозной общности — либо представляемой непосредственно католической церковью, либо действующей в ее ареале имперской структурой. Средневековое общество мыслило свое единство в религиозной системе координат. Как справедливо отмечает Александр Филиппов, "средневековое мышление было пронизано принципом единства. Но речь шла о единстве всего человечества, которое выступало… как основанное Богом единое государство или империя, которое состоит, собственно, не из отдельных людей, но из меньших сообществ, сохраняющих относительную самостоятельность". Если и говорить в этой ситуации о суверенитете, то исключительно о метасуверенитете империи, действующей под сенью определенной "сакральной вертикали" (термин Вадима Цымбурского) и контролирующей принципы легитимности всех нижестоящих центров силы. Но, строго говоря, о суверенитете здесь говорить не следовало бы. Там, где реальные центры концентрации ресурсов (дворы крупнейших феодалов) отделены от символического центра (условный Рим как средоточие империи и христианского мира), суверенитета как такового нет. Ведь он и есть единство мобилизации и репрезентации.
Соответственно, рождение суверенитета могло произойти либо в результате сверхконцентрации организационно-силовых ресурсов на имперском уровне, либо в результате перехода ресурса легитимности (то есть способности репрезентировать Целое) на уровень королевств. Произошло, как мы знаем, последнее. Эпоха религиозных войн, начавшись на волне тотальной теологизации любых общественных проблем, утомила Европу и привела, в конечном счете, к секуляризации господства. Последнее утверждение на первый взгляд сомнительно. Ведь по мере эмансипации королевств от Рима принцип богоданности власти отнюдь не уходит в прошлое. Официальная религиозность остается в своих правах. Не дающие спуску Папе французские короли титулуются "христианнейшими". Что же тогда секуляризировалось в момент этого перехода? Секуляризировались границы. Границы общества как континуума порядка перестали быть функцией границ "Божьего мира" или христианской ойкумены.
Отсюда неотъемлемо светский характер европейского государства. Государство — это общество, взятое как целое. Соответственно, секуляризация параметров целостности определяет его природу. Именно она, повторим, сделала возможным соединение репрезентативной и мобилизационной власти в лице "отдельно взятого" государя. Эта "врожденная светскость" нисколько не мешает тому или иному европейскому государству существовать в режиме конкордата с Ватиканом или, в случае протестантов, даже заводить собственную национальную церковь. Независимо от степени аффилированности с церквами, оно секулярно по способу своего обособления и своей легитимации.
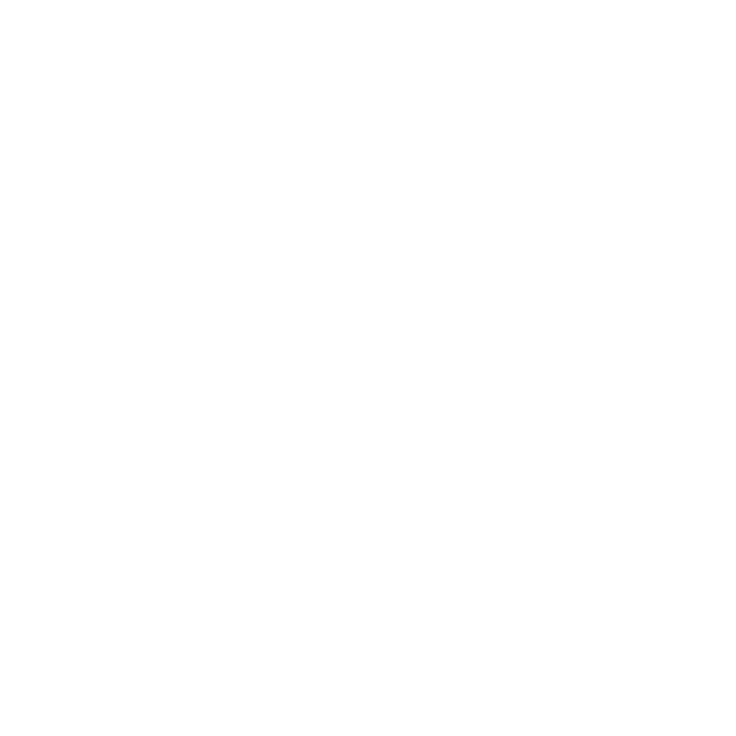
Растождествление границ публичного порядка с религиозно освященными границами ойкумены равнозначно распаду империи как особой формы пространства. Этот распад по праву признают одним из осевых событий европейской истории, на которое нанизываются многие ее сюжеты. И, прежде всего, сюжет революции. Эмансипация от "имперской перспективы" создала абсолютизм, но она же поставила его в ситуацию врожденного дефицита легитимности, на которую откликнулись теоретики "общественного договора", а затем и практики революции. Ведь пресловутая "традиционная легитимность" — это не представление о том, что все должно оставаться "как было", а вера в трансцендентные основания публичного порядка, которая могла поддерживаться лишь в ситуации империи, т.е. в ситуации принципиального совпадения границ закона с границами (христианского) мира. Абсолютизм в этом смысле уже посттрадиционен. Не случайно наиболее последовательные контрреволюционеры Европы, в своих запоздалых проектах, не могли не подвергнуть ревизии политические конструкции Старого Порядка. Так, французский патриот де Местр, для восстановления легитимности французской королевской власти, считал абсолютно необходимым ее подчинение юрисдикции Рима, невольно подтверждая, что, по большому счету, принцип суверенитета и принцип "божественного права" в европейской истории оказались антиномичны.
Теологизация власти вместо секуляризации: две стратегии суверенитета
Сказанное дает возможность по-новому взглянуть на некоторые европейские правовые идеи, и главным образом — на сам принцип светскости государства. Для европейца он значит многое. В нем звучит и спасение от религиозных войн, и появление современной политики (на заре Нового времени "политиками" называли тех, кто лавировал между религиозных лагерей в поисках новых, не-теологических факторов власти), и пафос суверенных Отечеств, именем которых вершится власть и устанавливается порядок. Но именно понимание конкретной значимости этого принципа, его истории и подоплеки — первый шаг к тому, чтобы научиться видеть в нем не всеобщее условие современного публичного права, а специфическое условие существования европейского государства-нации — т.е. государства, возникшего в результате высвобождения из теоцентричного пространства империи.
Здесь мы можем вернуться к тому, с чего начали — к проблеме нашего сегодняшнего суверенитета и его религиозных предпосылок. Если в Европе суверенитет становится результатом секуляризации власти, то в России — результатом ее теологизации. Иными словами, переход от варварских феодов, где монарх — лишь глава господствующего сословия или рода, к суверенным централизованным государствам, в которых государь, прямо по Гоббсу, — не просто предмет "согласия и единодушия" подданных, но их "реальное единство, воплощенное в одном лице…", — этот переход в Европе совершается за счет демонтажа вертикали "божественного права", а в России — за счет ее построения. Здесь следует снова оговориться. Точно так же, как европейская секуляризация власти не упразднила официальную религиозность, русская теологизация власти ее никоим образом не создала. Для ранней Руси и принцип богоданности власти, и требование к властям соотноситься с авторитетом Церкви, были, насколько мы можем судить, вполне самоочевидны. Поэтому концентрация "божественного права" в руках московского великого князя никак не сводится к тривиальному "всякая власть от Бога". Ведь, равным образом, от Бога — власть тверского великого князя, или рязанского, или литовского… Но никто из них не мыслит себя ни держателем "Божьей правды" на земле, ни "представителем" подданных перед Богом. Не мыслит себя "единственным государем христиан", как говорит Филофей. То есть, по сути, — вообще единственным… Московский государь претендует именно на это, переходя от "княжения" к "царствованию" и принимая концепцию "Третьего Рима". Последняя, как отмечает Вадим Цымбурский, не имеет отношения к средневековой идее "кочующей" имперской резиденции, переезжающей, будто бы, из Средиземноморья на север. "Для Филофея Москва — Третий Рим лишь потому, что, как говорит он сам, "Рим — это мир", а православный мир резко сузился с закатом Византии и примыкавших к ней балканских государств". Это не идея лидерства, а идея одиночества.
Таким образом, пространство истинной власти совпало с пространством истинной веры. Государственность выступила как форма исповедания. В этот момент набравшие мобилизационный потенциал московские государи обрели репрезентативную мощь. Безусловно, это и есть момент рождения российского суверенитета.
Отметим разницу. "Российский суверен" с самого начала определяет себя через свою "единственность". "Европейский суверен" с самого начала есть некто в ряду себе подобных. Государства-нации определяют себя через занимаемое место в международной системе, которая выступает одновременно как продукт солидарности антиимперских образований и заменитель имперского арбитра. Европейская страна — всегда "государство-в-мире". Россия — "государство-мир". Поддержание суверенитета равнозначно здесь поддержанию границ мира, в котором он имеет значение. И эту мирообразующую функцию для страны выполняет ее Православие. Оно задает горизонт целостности общества и формирует представительскую способность государственной власти (напомню: Власть представляет не "жителей", а общественное Целое). То есть играет политическую роль в самом существенном из смыслов слова "политика".
Поэтому для нас политическая религиозность — это не вопрос вкусовых предпочтений или "глубоко интимного" выбора, а атрибут государственного стандарта. Здесь, в России "светское государство" есть "несостоявшееся государство" — неспособное осмыслить свои границы и отстоять их перед лицом истории.
Сказанное сводимо к выводу вполне банальному, но от того не менее важному: российский суверенитет существует в координатах другой политической культуры, нежели культура европейского "модерна" (5). И, безусловно, его ждет другая судьба. Попытка президента определить Россию как "суверенную европейскую нацию" (вариант — "суверенную демократию") опасна не тем, что искажает прошлое российского суверенитета, а тем, что искажает его будущее. Ведь сегодня примкнуть к Европе — значит, прежде всего, примкнуть к кризису той модели суверенитета, которую она воплощала. Эта модель, основанная на секуляризации политического и на симметрии взаимного признания государств, разрушается тенденциями к обратной теологизации политики и реанимации "имперского мышления" в глобальном масштабе. В ближайшей исторической перспективе "суверенная европейская нация" есть нация, теряющая сами основания своего суверенитета. Возможно, это и имеется в виду президентом, когда он говорит о "европейском выборе"… Но грандиозный исторический шанс заключается в том, что наш суверенитет с самого начала был построен на других основаниях. И соответственно, процесс саморазложения европейского "модерна", идущий, по меньшей мере, уже несколько десятилетий никак не затрагивает базовую легитимность российского государства. Более того, именно в контексте "новейшего Средневековья" оно способно наилучшим образом определить свою миссию и свои границы.
***
Остается спросить: если наш суверенитет возник в религиозной системе координат, значит ли это, что наши границы, по крайней мере, в тенденции, заданы ареалом расселения православных народов? Однозначно — нет. Речь о другом, скорее обратном соотношении: о том, что православие позволяет осенить реальные, государственно-геополитические границы России как границы самоценного мира. Причем, с одной стороны, вне этих границ будут жить православные народы и, с другой стороны, внутри этих границ будут жить, среди прочих, народы не православные. Это не всегда осознается идеологами "православного мира", но параметры нашей ойкумены задаются не на конфессиональной, а на политической карте. Сегодня, как и во времена Филофея, Россия — единственное государство среди православных стран, "физически" способное на реальный суверенитет. Это отнюдь не делает ее "катехоном" — т.е. христианской империей, сдерживающей в мировом масштабе наступление империи антихристианской. Но делает ее "ковчегом" — т.е. пространством, способным сохранить силовую автономию от глобального порядка последних времен.
Теологизация власти вместо секуляризации: две стратегии суверенитета
Сказанное дает возможность по-новому взглянуть на некоторые европейские правовые идеи, и главным образом — на сам принцип светскости государства. Для европейца он значит многое. В нем звучит и спасение от религиозных войн, и появление современной политики (на заре Нового времени "политиками" называли тех, кто лавировал между религиозных лагерей в поисках новых, не-теологических факторов власти), и пафос суверенных Отечеств, именем которых вершится власть и устанавливается порядок. Но именно понимание конкретной значимости этого принципа, его истории и подоплеки — первый шаг к тому, чтобы научиться видеть в нем не всеобщее условие современного публичного права, а специфическое условие существования европейского государства-нации — т.е. государства, возникшего в результате высвобождения из теоцентричного пространства империи.
Здесь мы можем вернуться к тому, с чего начали — к проблеме нашего сегодняшнего суверенитета и его религиозных предпосылок. Если в Европе суверенитет становится результатом секуляризации власти, то в России — результатом ее теологизации. Иными словами, переход от варварских феодов, где монарх — лишь глава господствующего сословия или рода, к суверенным централизованным государствам, в которых государь, прямо по Гоббсу, — не просто предмет "согласия и единодушия" подданных, но их "реальное единство, воплощенное в одном лице…", — этот переход в Европе совершается за счет демонтажа вертикали "божественного права", а в России — за счет ее построения. Здесь следует снова оговориться. Точно так же, как европейская секуляризация власти не упразднила официальную религиозность, русская теологизация власти ее никоим образом не создала. Для ранней Руси и принцип богоданности власти, и требование к властям соотноситься с авторитетом Церкви, были, насколько мы можем судить, вполне самоочевидны. Поэтому концентрация "божественного права" в руках московского великого князя никак не сводится к тривиальному "всякая власть от Бога". Ведь, равным образом, от Бога — власть тверского великого князя, или рязанского, или литовского… Но никто из них не мыслит себя ни держателем "Божьей правды" на земле, ни "представителем" подданных перед Богом. Не мыслит себя "единственным государем христиан", как говорит Филофей. То есть, по сути, — вообще единственным… Московский государь претендует именно на это, переходя от "княжения" к "царствованию" и принимая концепцию "Третьего Рима". Последняя, как отмечает Вадим Цымбурский, не имеет отношения к средневековой идее "кочующей" имперской резиденции, переезжающей, будто бы, из Средиземноморья на север. "Для Филофея Москва — Третий Рим лишь потому, что, как говорит он сам, "Рим — это мир", а православный мир резко сузился с закатом Византии и примыкавших к ней балканских государств". Это не идея лидерства, а идея одиночества.
Таким образом, пространство истинной власти совпало с пространством истинной веры. Государственность выступила как форма исповедания. В этот момент набравшие мобилизационный потенциал московские государи обрели репрезентативную мощь. Безусловно, это и есть момент рождения российского суверенитета.
Отметим разницу. "Российский суверен" с самого начала определяет себя через свою "единственность". "Европейский суверен" с самого начала есть некто в ряду себе подобных. Государства-нации определяют себя через занимаемое место в международной системе, которая выступает одновременно как продукт солидарности антиимперских образований и заменитель имперского арбитра. Европейская страна — всегда "государство-в-мире". Россия — "государство-мир". Поддержание суверенитета равнозначно здесь поддержанию границ мира, в котором он имеет значение. И эту мирообразующую функцию для страны выполняет ее Православие. Оно задает горизонт целостности общества и формирует представительскую способность государственной власти (напомню: Власть представляет не "жителей", а общественное Целое). То есть играет политическую роль в самом существенном из смыслов слова "политика".
Поэтому для нас политическая религиозность — это не вопрос вкусовых предпочтений или "глубоко интимного" выбора, а атрибут государственного стандарта. Здесь, в России "светское государство" есть "несостоявшееся государство" — неспособное осмыслить свои границы и отстоять их перед лицом истории.
Сказанное сводимо к выводу вполне банальному, но от того не менее важному: российский суверенитет существует в координатах другой политической культуры, нежели культура европейского "модерна" (5). И, безусловно, его ждет другая судьба. Попытка президента определить Россию как "суверенную европейскую нацию" (вариант — "суверенную демократию") опасна не тем, что искажает прошлое российского суверенитета, а тем, что искажает его будущее. Ведь сегодня примкнуть к Европе — значит, прежде всего, примкнуть к кризису той модели суверенитета, которую она воплощала. Эта модель, основанная на секуляризации политического и на симметрии взаимного признания государств, разрушается тенденциями к обратной теологизации политики и реанимации "имперского мышления" в глобальном масштабе. В ближайшей исторической перспективе "суверенная европейская нация" есть нация, теряющая сами основания своего суверенитета. Возможно, это и имеется в виду президентом, когда он говорит о "европейском выборе"… Но грандиозный исторический шанс заключается в том, что наш суверенитет с самого начала был построен на других основаниях. И соответственно, процесс саморазложения европейского "модерна", идущий, по меньшей мере, уже несколько десятилетий никак не затрагивает базовую легитимность российского государства. Более того, именно в контексте "новейшего Средневековья" оно способно наилучшим образом определить свою миссию и свои границы.
***
Остается спросить: если наш суверенитет возник в религиозной системе координат, значит ли это, что наши границы, по крайней мере, в тенденции, заданы ареалом расселения православных народов? Однозначно — нет. Речь о другом, скорее обратном соотношении: о том, что православие позволяет осенить реальные, государственно-геополитические границы России как границы самоценного мира. Причем, с одной стороны, вне этих границ будут жить православные народы и, с другой стороны, внутри этих границ будут жить, среди прочих, народы не православные. Это не всегда осознается идеологами "православного мира", но параметры нашей ойкумены задаются не на конфессиональной, а на политической карте. Сегодня, как и во времена Филофея, Россия — единственное государство среди православных стран, "физически" способное на реальный суверенитет. Это отнюдь не делает ее "катехоном" — т.е. христианской империей, сдерживающей в мировом масштабе наступление империи антихристианской. Но делает ее "ковчегом" — т.е. пространством, способным сохранить силовую автономию от глобального порядка последних времен.
Опубликовано на портале apn.ru, 17 апреля 2006 года
Статья опубликована в № 2 "Стратегического журнала".
Статья опубликована в № 2 "Стратегического журнала".
Примечания:
1. Я не утверждаю здесь, что история как таковая — религиозный процесс. Просто единственно сильной позицией внутри истории является та, что оперирует предельными основаниями и предельными целями.
2. Одно из следствий этой логики: не существует никакого права на суверенитет, т.е. права на самоопределение.
3. В том числе способность физическую. Поэтому борьба за суверенитет имеет неотъемлемый материально-технический компонент.
4. Последнее объективно рождает узы нравственной солидарности между властью и подданными, что подчас становится полной неожиданностью для самой власти — вспомним удивление Карла VII перед лицом Жанны д’Арк.
5. Это не значит, что он вообще "антисовременен". Вернее сказать, что каждая цивилизация переживает и выстраивает собственный модерн (связанный с переходом от аграрной к городской экономике, этике, культуре, быту). См. об этом цикл статей Вадима Цымбурского "Городская революция и будущее идеологий в России".
1. Я не утверждаю здесь, что история как таковая — религиозный процесс. Просто единственно сильной позицией внутри истории является та, что оперирует предельными основаниями и предельными целями.
2. Одно из следствий этой логики: не существует никакого права на суверенитет, т.е. права на самоопределение.
3. В том числе способность физическую. Поэтому борьба за суверенитет имеет неотъемлемый материально-технический компонент.
4. Последнее объективно рождает узы нравственной солидарности между властью и подданными, что подчас становится полной неожиданностью для самой власти — вспомним удивление Карла VII перед лицом Жанны д’Арк.
5. Это не значит, что он вообще "антисовременен". Вернее сказать, что каждая цивилизация переживает и выстраивает собственный модерн (связанный с переходом от аграрной к городской экономике, этике, культуре, быту). См. об этом цикл статей Вадима Цымбурского "Городская революция и будущее идеологий в России".
