Введение в национализм. Часть 2
Национализм, как мы утверждали, сопоставим не только с т.н. "культурными системами" прошлого, но и с современными политическими идеологиями, основанными на Просвещении. Т.е. с одной стороны, он имеет с ними общую точку отсчета, а с другой – оппонирует и противостоит им. Это понятно: для того, чтобы ответы были различными, хотя бы вопрос должен быть общим. В роли такой общей для Просвещения и национализма точки отсчета выступает взгляд на общество с точки зрения его способности к самоучреждению.
Главное же различие касается отношения к "договорной" модели самоучреждения общества, которая оказалась базовой для многих современных институтов и, в целом, для самого дискурса "современности". Национализм достигает уровня самостоятельной политической философии лишь тогда, когда он преодолевает договорную философию общества. Ключевыми в этом преодолении являются фигуры Георга Гегеля и Карла Шмитта. Вокруг заложенных ими оснований и будет, в основном, строиться дальнейшее изложение.
Здесь, очевидно, следует оговориться, что речь не идет о критике исторического "модерна", современной эпохи как таковой, поскольку последняя представляет собой именно эпоху, в которой мы жили и живем и которая несводима к той или иной идеологической концепции. Речь идет о критике определенной формы философского самосознания этой эпохи, основанного на идеях "естественного права" и "общественного договора". Самосознания, на наш взгляд, ложного, поскольку оно представляет собой попытку оторвать современные нации от их досовременных этнических корней. В этом и только в этом смысле мы говорим о "преодолении модернизма".
Главное же различие касается отношения к "договорной" модели самоучреждения общества, которая оказалась базовой для многих современных институтов и, в целом, для самого дискурса "современности". Национализм достигает уровня самостоятельной политической философии лишь тогда, когда он преодолевает договорную философию общества. Ключевыми в этом преодолении являются фигуры Георга Гегеля и Карла Шмитта. Вокруг заложенных ими оснований и будет, в основном, строиться дальнейшее изложение.
Здесь, очевидно, следует оговориться, что речь не идет о критике исторического "модерна", современной эпохи как таковой, поскольку последняя представляет собой именно эпоху, в которой мы жили и живем и которая несводима к той или иной идеологической концепции. Речь идет о критике определенной формы философского самосознания этой эпохи, основанного на идеях "естественного права" и "общественного договора". Самосознания, на наш взгляд, ложного, поскольку оно представляет собой попытку оторвать современные нации от их досовременных этнических корней. В этом и только в этом смысле мы говорим о "преодолении модернизма".
Приоритет человека перед природой. Человек определяется своей способностью превосходить и отрицать природу (в т.ч. в самом себе), а не своими "естественно-природными" свойствами, как бы они ни понимались. На этом шаге мы отвергаем натурализм Просвещения.
Приоритет общества перед человеком. Люди не могут "создать" общество, поскольку сами созданы им. В частности, это касается отношений власти, которые являются предпосылкой индивидуальных прав и свобод, а не их производной. На этом шаге мы отвергаем индивидуализм Просвещения.
Приоритет государства перед обществом. Государство формирует общество как конкретную целостность в ряду себе подобных. Легитимная власть немыслима в рамках "мирового общества". На этом шаге мы отвергаем универсализм Просвещения.
Приоритет народа перед государством. Институты государства - в том числе, гражданство - являются не самодовлеющим основанием политического единства, а политическим воплощением органического, жизненного единства народа как субъекта истории. На этом шаге мы отвергаем механицизм Просвещения.
Эти принципы приоритета вряд ли стоит воспринимать в качестве "иерархии ценностей". Просто потому, что противопоставлять друг другу природу, человека, общество, государство, народ в качестве изолированных ценностных начал было бы неуместно. Скорее, речь идет о логическом акценте, формирующем доминанту для каждой из названных категорий и ставящем ее в отношение ко всем прочим. Слово "приоритет" означает в этом смысле не "вознесение-над", а попытку "понимать-исходя": государство - исходя из народа, общество - исходя из государства, человека - исходя из общества, и даже природу - исходя из человека. Попробуем раскрыть это подробнее.
"Естественный закон" и "общественный договор"
Идеологи Просвещения и их предтечи не только и не столько ниспровергали "старый порядок", сколько реагировали на кризис его легитимности. Они хотели заново обосновать, почему людям необходимо жить в обществе, подчиняться государству и быть хорошими гражданами. Эта релегитимирующая роль идеологии Просвещения, в его собственной внутренней логике, гораздо важнее, чем делегитимирующая. И главным условием ее выполнения было предъявление новых, "рациональных" оснований общественного порядка. Т.е., по сути, было решено в режиме "мысленного эксперимента" заново "изобрести" общество и "одобрить" его уже не в силу "предрассудков" традиции и авторитета, а на "разумных основаниях".
Определяющей для этой реконструкции является фигура Иного. Она задает разметку, исходя из которой мыслится (и, больше того, реально строится) само общество. В средневековой мысли осевой фигурой, исходя из которой выстраивалось общественное пространство, была антитеза "Града небесного" и "Града земного". Мысль Просвещения во многом повторила и даже спародировала средневековую, произведя замену конституирующего Иного с "Царства небесного" на царство природное. Категория "естественного закона" становится точным аналогом средневековых представлений о божественном праве. Она выполняет ту же роль – основания власти и легитимности. В этом качестве она более фундаментальна для Просвещения, чем концепция "общественного договора". Последняя напрямую решает задачу релегитимации власти, но ее теоретическая убедительность опосредована набором сильных, аксиоматических гипотез: о договороспособности, волевой автономности, индивидуалистической разумности пребывающих в "естественном состоянии" людей. Собственно, эти аксиомы и спрессованы в метафизике "естественного закона", нашедшей выражение в многочисленных "декларациях прав".
Иными словами, Просвещение постулирует, что люди учреждают общественный порядок посредством рационального соглашения. Но для того, чтобы это было возможно, они должны обладать очень особыми качествами, прежде всего, разумностью, минимумом взаимного доверия и так далее. Откуда взялись эти качества? Ответ Просвещения гласит - "от природы". Не сложно заметить, что категория "природы" при этом мистифицируется, превращаясь в склад метафизических аксиом для социальной теории Просвещения.
В этом смысле, можно утверждать, что в основе метафизики Просвещения лежит не столько гуманизм, столько - натурализм. Безусловно, гуманизм – т.е. представление о центральном месте человека в мире и о самой человечности как способе полагания ценностей, - играет здесь большую роль. Но натурализм лежит и в его основе. Проблема, очевидно, в том, что сам человеческий статус (la condition humaine, как говорят французы) проблематичен и не самоочевиден. Он нуждается во внешнем гаранте. В классической христианской картине мира таким гарантом является Бог, сотворивший человека по собственному образу и подобию и, соответственно, определивший параметры человечности. Затем эту роль начинает играть природа. Она становится той "стоящей за человеком" инстанцией, от имени которой провозглашаются аксиомы о его сущности. Казалось бы, не такое уж важное изменение: одна метафизическая "закулиса" сменила другую, суть же представлений о человеке и его особенном месте в мире осталась примерно прежней. Однако в действительности при переходе от религиозной к натуралистической метафизике идея человека утратила свою незыблемость. Статус человека стал заложником изменчивых представлений о природе. А последние оказались и в самом деле очень изменчивыми. Если на ранней стадии Просвещения природа "диктует" человеку здравомыслие, дружелюбие, самосохранение, то на следующем этапе на сцену выходит, к примеру, вольнодумец, сторонник французской революции маркиз де Сад с принципиально иной идеей природы как сферы жесткого сладострастия и, как следствие, - с принципиально иной идеей человека. С точки зрения логики натуралистического гуманизма, де Сад – ничуть не менее полноправная и закономерная фигура, чем Руссо. А дальше – больше. Фрейд истолковывает природу в противовес культуре и цивилизации. Фрейдомарксисты превращают ее в знамя борьбы против культуры и цивилизации. И в том числе – против того образа человека как разумного и дисциплинированного существа, с которого начинали просветители.
В итоге, спектр натуралистического гуманизма простирается, по состоянию на данный момент, в чрезвычайно широком диапазоне: от классических "буржуазных добродетелей" как непосредственного эквивалента "человеческой природы" до наркокультуры, сексуальной революции и "новой телесности" как способов освобождения все той же "человеческой природы" от подавляющих ее сил дисциплинарной цивилизации. Натуралистический гуманизм эпохи Просвещения ведет нас прямиком в "наше постчеловеческое будущее", о котором пишет Ф.Фукуяма и которое пропагандируют авторы псевдомарскистского бестселлера "Империя" Негри и Хардт.
Безусловно, современность знала и иной, не натуралистический гуманизм. Прежде всего, он связан с именем Гегеля. Для Гегеля, в отличие от Руссо, не существует собственно "человеческой природы" (т.е. набора аксиом о человеке, почерпнутых в природном начале), для него существует природа в человеке и человеческом мире, но сам человек определяется своей способностью отрицать и превосходить природу - посредством труда (преобразование материи), борьбы (преодоление инстинкта самосохранения), дисциплинарного воспитания (укрощение непосредственных потребностей) и т.д. На этой основе действительно возникает антинатуралистический гуманизм. Который, впрочем, является гуманизмом лишь с одной стороны – с той, с которой ставит человека "над" природой; с другой же стороны, он гуманизмом не является, поскольку в эпицентр самой человечности он помещает… общество. Если приглядеться к тем силам, которые, в антинатуралистической антропологии гегелевского образца, делают человека человеком, то мы увидим, что это собственно силы социальности: воля к признанию, опыт совместного освоения мира, образовательная муштра… Даже самое сокровенное "достояние" человека – его свобода – предстает при таком взгляде не чем-то принадлежащим ему от рождения, а результатом проекции в человеческое существо порядка общественных отношений (господства и подчинения) - проекции, которая и делает человека субъектом, способным господствовать над собой.
Внутренне необходимую связь принципа власти с принципом субъекта (т.е., по сути, с самим статусом человека в том виде, в котором им стоило бы дорожить) признавали даже те мыслители, которых никак не заподозрить в симпатиях к анти-натуралистической антропологии.
"Естественный закон" и "общественный договор"
Идеологи Просвещения и их предтечи не только и не столько ниспровергали "старый порядок", сколько реагировали на кризис его легитимности. Они хотели заново обосновать, почему людям необходимо жить в обществе, подчиняться государству и быть хорошими гражданами. Эта релегитимирующая роль идеологии Просвещения, в его собственной внутренней логике, гораздо важнее, чем делегитимирующая. И главным условием ее выполнения было предъявление новых, "рациональных" оснований общественного порядка. Т.е., по сути, было решено в режиме "мысленного эксперимента" заново "изобрести" общество и "одобрить" его уже не в силу "предрассудков" традиции и авторитета, а на "разумных основаниях".
Определяющей для этой реконструкции является фигура Иного. Она задает разметку, исходя из которой мыслится (и, больше того, реально строится) само общество. В средневековой мысли осевой фигурой, исходя из которой выстраивалось общественное пространство, была антитеза "Града небесного" и "Града земного". Мысль Просвещения во многом повторила и даже спародировала средневековую, произведя замену конституирующего Иного с "Царства небесного" на царство природное. Категория "естественного закона" становится точным аналогом средневековых представлений о божественном праве. Она выполняет ту же роль – основания власти и легитимности. В этом качестве она более фундаментальна для Просвещения, чем концепция "общественного договора". Последняя напрямую решает задачу релегитимации власти, но ее теоретическая убедительность опосредована набором сильных, аксиоматических гипотез: о договороспособности, волевой автономности, индивидуалистической разумности пребывающих в "естественном состоянии" людей. Собственно, эти аксиомы и спрессованы в метафизике "естественного закона", нашедшей выражение в многочисленных "декларациях прав".
Иными словами, Просвещение постулирует, что люди учреждают общественный порядок посредством рационального соглашения. Но для того, чтобы это было возможно, они должны обладать очень особыми качествами, прежде всего, разумностью, минимумом взаимного доверия и так далее. Откуда взялись эти качества? Ответ Просвещения гласит - "от природы". Не сложно заметить, что категория "природы" при этом мистифицируется, превращаясь в склад метафизических аксиом для социальной теории Просвещения.
В этом смысле, можно утверждать, что в основе метафизики Просвещения лежит не столько гуманизм, столько - натурализм. Безусловно, гуманизм – т.е. представление о центральном месте человека в мире и о самой человечности как способе полагания ценностей, - играет здесь большую роль. Но натурализм лежит и в его основе. Проблема, очевидно, в том, что сам человеческий статус (la condition humaine, как говорят французы) проблематичен и не самоочевиден. Он нуждается во внешнем гаранте. В классической христианской картине мира таким гарантом является Бог, сотворивший человека по собственному образу и подобию и, соответственно, определивший параметры человечности. Затем эту роль начинает играть природа. Она становится той "стоящей за человеком" инстанцией, от имени которой провозглашаются аксиомы о его сущности. Казалось бы, не такое уж важное изменение: одна метафизическая "закулиса" сменила другую, суть же представлений о человеке и его особенном месте в мире осталась примерно прежней. Однако в действительности при переходе от религиозной к натуралистической метафизике идея человека утратила свою незыблемость. Статус человека стал заложником изменчивых представлений о природе. А последние оказались и в самом деле очень изменчивыми. Если на ранней стадии Просвещения природа "диктует" человеку здравомыслие, дружелюбие, самосохранение, то на следующем этапе на сцену выходит, к примеру, вольнодумец, сторонник французской революции маркиз де Сад с принципиально иной идеей природы как сферы жесткого сладострастия и, как следствие, - с принципиально иной идеей человека. С точки зрения логики натуралистического гуманизма, де Сад – ничуть не менее полноправная и закономерная фигура, чем Руссо. А дальше – больше. Фрейд истолковывает природу в противовес культуре и цивилизации. Фрейдомарксисты превращают ее в знамя борьбы против культуры и цивилизации. И в том числе – против того образа человека как разумного и дисциплинированного существа, с которого начинали просветители.
В итоге, спектр натуралистического гуманизма простирается, по состоянию на данный момент, в чрезвычайно широком диапазоне: от классических "буржуазных добродетелей" как непосредственного эквивалента "человеческой природы" до наркокультуры, сексуальной революции и "новой телесности" как способов освобождения все той же "человеческой природы" от подавляющих ее сил дисциплинарной цивилизации. Натуралистический гуманизм эпохи Просвещения ведет нас прямиком в "наше постчеловеческое будущее", о котором пишет Ф.Фукуяма и которое пропагандируют авторы псевдомарскистского бестселлера "Империя" Негри и Хардт.
Безусловно, современность знала и иной, не натуралистический гуманизм. Прежде всего, он связан с именем Гегеля. Для Гегеля, в отличие от Руссо, не существует собственно "человеческой природы" (т.е. набора аксиом о человеке, почерпнутых в природном начале), для него существует природа в человеке и человеческом мире, но сам человек определяется своей способностью отрицать и превосходить природу - посредством труда (преобразование материи), борьбы (преодоление инстинкта самосохранения), дисциплинарного воспитания (укрощение непосредственных потребностей) и т.д. На этой основе действительно возникает антинатуралистический гуманизм. Который, впрочем, является гуманизмом лишь с одной стороны – с той, с которой ставит человека "над" природой; с другой же стороны, он гуманизмом не является, поскольку в эпицентр самой человечности он помещает… общество. Если приглядеться к тем силам, которые, в антинатуралистической антропологии гегелевского образца, делают человека человеком, то мы увидим, что это собственно силы социальности: воля к признанию, опыт совместного освоения мира, образовательная муштра… Даже самое сокровенное "достояние" человека – его свобода – предстает при таком взгляде не чем-то принадлежащим ему от рождения, а результатом проекции в человеческое существо порядка общественных отношений (господства и подчинения) - проекции, которая и делает человека субъектом, способным господствовать над собой.
Внутренне необходимую связь принципа власти с принципом субъекта (т.е., по сути, с самим статусом человека в том виде, в котором им стоило бы дорожить) признавали даже те мыслители, которых никак не заподозрить в симпатиях к анти-натуралистической антропологии.
"Рождение субъекта покупается ценой признания власти как принципа всех отношений," – пишут Хоркхаймер и Адорно. Человеческая субъектность - она же, "личность" - существует как эпифеномен власти. Пожалуй, это самый интенсивный из смыслов, который можно придать афоризму о том, что "человек – животное политическое".
Таким образом, если проект Просвещения состоит в том, чтобы произвести "общество" от "людей", а людей, в том виде, в каком они могут произвести "общество", – от "природы", то уже на первом же шаге у нас есть все основания сказать Просвещению двукратное "нет".
1. Нет никакой "человеческой природы". Есть человеческие способы преодоления природы.
2. Порядок власти не выводим из индивидуальной свободы. Напротив, личная свобода есть проекция порядка власти.
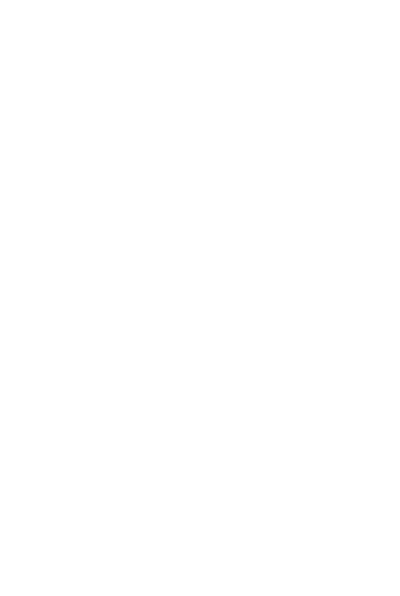
Наша задача не состоит в обосновании этих тезисов. Достаточно того, чтобы они были поняты в качестве принципиальных антитез к "договорной" философии общества, с ее натурализмом и индивидуализмом. Кстати, этот наивный, метафизический индивидуализм – еще один пункт сходства Просвещения с феодальной эпохой. Здесь уместно снова дать слово Гегелю – первому серьезному критику философии "общественного договора" с сугубо современных, а не традиционалистских позиций.
"Природа государства", - утверждает он в "Философии права", - "не состоит в договорном отношении, независимо от того, рассматривается ли государство как договор всех со всеми или как договор с государем или правительством. Привнесение договорного отношения, так же, как и отношений частной собственности вообще, в государственное отношение привело к величайшей путанице в государственном праве и действительности. Подобно тому, как в прежние времена права и обязанности государства рассматривались и утверждались как непосредственная частная собственность особых индивидов…, так в новейшее время права государя и государства рассматривались как предметы договора… Сколь ни различны, с одной стороны, обе эти точки зрения, обеим им присуще то общее, что они переносят определения частной собственности в сферу совсем иную и более высокую по своей природе."
Таким образом, Гегель противопоставляет себя одновременно Просвещению и Средневековью, постулируя принципиальную несводимость логики публичного права, публичного пространства к логике частного права и индивидуального существования людей. Можно назвать это постулатом субстанциальности политического, согласно которому публичная власть представляет собой непосредственное выражение той конкретной целостности общества, которая несводима к сумме частей.
Власть и война
Для того, чтобы воспринимать общество как конкретную целостность, необходимо мыслить его не только и не столько исходя из "природы" или "Бога", т.е. исходя из "не-общества", сколько – исходя из… других обществ. Только в этом случае оно предстает не как матрица взаимодействия индивидов, а как некий сложноорганизованный субъект в ряду себе подобных. Безусловно, в действительности, верно и то, и другое, это просто два разных ракурса социальной реальности. Но вопрос в том, какой из них будет положен в основу принципа легитимности власти.
Возвращаясь к концепции "общественного договора", следует сказать, что она нарочито игнорирует проблему границы, отделяющей общества друг от друга и взаимно противопоставляющей их. Эмпирически, эта граница признается. Но, в логике Просвещения, она "случайна" и не имеет отношения к сути дела. Т.е. от нее можно абстрагироваться при построении принципа легитимации власти. Но действительно ли можно осуществить это абстрагирование без потерь для решаемой задачи?
Возьмем самый сильный вариант "договорной" легитимации – гоббсовский. Его формула - "защита (которую дает государство гражданам) в обмен на подчинение (которого оно от них требует)" - кажется почти неоспоримой. Во всяком случае, неоспоримой с той позиции, которая обычно противостоит гоббсовской. А именно – со стороны леволиберальных и анархистских уверений в том, что люди в "естественном состоянии" отнюдь не "волки" друг другу. Что человек "по природе добр" и не нуждается в кнуте Левиафана для того, чтобы прийти к гармонии с себе подобными. Цена этим уверениям невысока. Настоящие же контраргументы к гоббсовской модели возникают не со стороны "природы человека", а со стороны "природы государства", и здесь опыт и здравый смысл уже не совсем на стороне Гоббса.
Дело в том, что государства не только избавляют граждан от угрозы их жизни, но и систематически создают ее. Причем создают не в качестве платы за безопасность (полицейская система) и не вследствие вынужденного несовершенства, а в силу собственной политической природы - в силу своей соотнесенности и противостояния с другими государствами. Представить конфликты государств друг с другом, в том числе, вооруженные, в качестве выполнения обязанности по обеспечению безопасности собственных граждан, по серьезному счету, невозможно.
Спору нет, это часто пытались сделать. Но в относительно мирные времена это было большой натяжкой. А во времена военные – большой ложью. Дефицит базовой легитимации универсалистские полицейские системы восполняют истерической пропагандой. Карл Шмит немало говорил о том, что в критическом случае либеральные демократии (и не только они) обречены превращать своих врагов в преступников, а собственных граждан – в идиотов, которые должны ненавидеть врага за его привходящие качества, а не за то, что он враг. Ненавидеть его пропагандистски, а не политически. О том, что такого рода мобилизация легко переходит в свою противоположность – пораженчество и апатию - и не остается без последствий для культурно-психологического здоровья общества, я уже имел случай писать.(1) Но здесь для нас важна не сама эта стратегия мобилизации, а тот изъян в конструкции легитимности, который она отражает. Полицейская концепция власти, которой руководствуются либеральные государства, не позволяет мыслить войну в адекватных ей терминах.
Об этом ясно говорит все тот же Гегель. "Существует совершенно превратный расчет, когда при требовании подобных жертв (жертв, связанных с войной – М.Р.) государство рассматривается просто как гражданское общество и его конечной целью считается лишь обеспечение жизни и собственности индивидов, ибо это обеспечение не достигается посредством жертвования тем, что должно быть обеспечено (курсив наш – М.Р.)".
Иными словами, если рассматривать войну с точки зрения "договорной" концепции государства, то речь идет о чудовищной аномалии, полностью перечеркивающей принцип "защита в обмен на подчинение". В войнах государство не столько "защищает" граждан, сколько подвергает их качественно новой угрозе либо вообще обрекает на верную смерть. Если это имеет какой-то смысл, то он состоит в том, что граждане сами "защищают" государство, причем не как что-то внешнее им, а как собственное право быть государством. И это право, следовательно, уже не выводимо из требований личной безопасности.
Граница общества по отношению к другим обществам, является, таким образом не случайным, а необходимым атрибутом его политического качества. Она имеет определяющее значение для власти как таковой, которая предстает не формой обеспечения частных прав (гражданских или феодальных), а способом существования общества как коллективного субъекта, способного противостоять другим, себе подобным.
Этот признак националистической идеи политики можно обозначить как антиуниверсализм, поскольку он выражает системное различие в картинах мира. В системе координат "общество – природа" или "общество – Бог" задается политический универсум, "задуманный" исходя из божественного или естественного закона. Если же учитывать в качестве определяющей оппозицию "общество – общество", то политический мир приобретает, по выражению Карла Шмитта, характер плюриверсума, в котором базовые ценности, скрепляющие общественный порядок, выступают не как выражение единства мира, а как способ его демаркации.
Публичность и суверенитет
В зависимости от того, какая из картин мира берется за основу, будет определяться сам статус политического. В универсалистской картине мира политическое определено самостоятельностью не-политических сфер жизни общества. Тогда как в реальности плюриверсума пределы политической власти ограничены в первую очередь - пределами другой политической власти. Общества взаимодействуют как политические сообщества, "самостоятельные тотальности в себе", по гегелевскому выражению, а само политическое оказывается не просто подсистемой общества, а его системообразующей функцией. Оно претендует на верховенство по отношению к иным сферам общественной жизни. Причем не на абстрактное и метафизическое, а на строго определенное и практическое верховенство, о котором пишет в "Понятии политического" Карл Шмитт. "Политическое единство, - утверждает он, - если оно вообще наличествует, есть главенствующее и "суверенное" единство в том смысле, что по самому понятию именно ему всегда необходимо должно принадлежать решение относительно главенствующего случая...". А именно, относительно серьезного конфликта, допускающего возможность вооруженной борьбы. Таково, например, решение о военной мобилизации, суверенно распоряжающееся жизнью и собственностью граждан. Или, в терминах самого Шмитта, решение "о друге и враге".
Эти термины многих обманывают своей кажущейся простотой. Сам Шмитт называет различение "друга" и "врага" критерием политического, по аналогии с некоторыми другими парами противоположностей, образующими некие особые измерения человеческой реальности, ("добро" – "зло" - этика, "прекрасное" – "безобразное" – эстетика, "выгодное" – "не выгодное" – экономика и т.д.). Однако при ближайшем рассмотрении в этой паре оказываются заложены два относительно самостоятельных критерия, определяющих политическое. Во-первых, это предельная интенсивность размежевания ("ассоциации и диссоциации", как говорит Шмитт) между людьми, допускающая возможность вооруженной борьбы. Во-вторых, это публичная природа осуществляемого размежевания.
Шмитт посвящает много усилий разъяснению разницы между частным и публичным врагом, поскольку в противном случае он действительно рискует быть неправильно понятым, и в сферу политического легко попадут не только фильмы о "крестных отцах" (войны мафиозных кланов), но и пьесы о "Ромео и Джульетте" (вражда родов). Однако он не артикулирует публичность как самостоятельный критерий политического, а вводит его на правах дополнения. Видимо, потому, что в рамках его работы ("Понятие политического") природа публичности как условия политического остается, с одной стороны, не выводимой из главного предложенного критерия (интенсивность размежевания), а с другой стороны – не вполне раскрытой в ее собственной логике. Шмиттовский проект обоснования политического остается, таким образом, незавершенным без осмысления природы публичности.
Отчасти это осмысление осуществляется в других работах Шмитта, прежде всего, в рамках анализа категории "репрезентации", но и там оказывается весьма фрагментарным. Он говорит о "репрезентативных фигурах" или "репрезентативной речи" как способе воплотить типическое через индивидуальное. По функции, это что-то родственное юнгеровскому "гештальту". "Репрезентация" чрезвычайно важна для политики, но, как следует из примеров самого Шмитта, обнаруживающего кладезь "репрезентативных фигур" в католическом средневековье, она не может служить исчерпывающей спецификацией политической публичности. Пожалуй, самым надежным, хотя и банальным, пониманием публичности будет то, которое связывает ее с пресловутым "res publica". В любой политике есть что-то республиканское, а именно - "притязание на целостность". Публичность в этом смысле возникает вследствие отнесенности ее носителей – будь то люди или идеи – к идее целостности общества. В этом случае под категорию публичности подпадают и идеологические группировки, и институты государства, и отряды повстанцев, и регулярные армии, и цари, и революционеры. Там же, где нет представления о целом, нет и публичных отношений, а только частные (в том числе, и "власть" осуществляется как личная гегемония, и "войны" ведутся как столкновения банд). Этот тезис выглядит идеалистическим, поскольку отягощает великое и неоспоримое в своей фактичности право jus belli (решения о войне и мире), положенное Шмиттом в основу понятия политического, неким "метафизическим" контекстом. Но что поделать, если только в этом контексте оно и может иметь место.(2)
"Природа государства", - утверждает он в "Философии права", - "не состоит в договорном отношении, независимо от того, рассматривается ли государство как договор всех со всеми или как договор с государем или правительством. Привнесение договорного отношения, так же, как и отношений частной собственности вообще, в государственное отношение привело к величайшей путанице в государственном праве и действительности. Подобно тому, как в прежние времена права и обязанности государства рассматривались и утверждались как непосредственная частная собственность особых индивидов…, так в новейшее время права государя и государства рассматривались как предметы договора… Сколь ни различны, с одной стороны, обе эти точки зрения, обеим им присуще то общее, что они переносят определения частной собственности в сферу совсем иную и более высокую по своей природе."
Таким образом, Гегель противопоставляет себя одновременно Просвещению и Средневековью, постулируя принципиальную несводимость логики публичного права, публичного пространства к логике частного права и индивидуального существования людей. Можно назвать это постулатом субстанциальности политического, согласно которому публичная власть представляет собой непосредственное выражение той конкретной целостности общества, которая несводима к сумме частей.
Власть и война
Для того, чтобы воспринимать общество как конкретную целостность, необходимо мыслить его не только и не столько исходя из "природы" или "Бога", т.е. исходя из "не-общества", сколько – исходя из… других обществ. Только в этом случае оно предстает не как матрица взаимодействия индивидов, а как некий сложноорганизованный субъект в ряду себе подобных. Безусловно, в действительности, верно и то, и другое, это просто два разных ракурса социальной реальности. Но вопрос в том, какой из них будет положен в основу принципа легитимности власти.
Возвращаясь к концепции "общественного договора", следует сказать, что она нарочито игнорирует проблему границы, отделяющей общества друг от друга и взаимно противопоставляющей их. Эмпирически, эта граница признается. Но, в логике Просвещения, она "случайна" и не имеет отношения к сути дела. Т.е. от нее можно абстрагироваться при построении принципа легитимации власти. Но действительно ли можно осуществить это абстрагирование без потерь для решаемой задачи?
Возьмем самый сильный вариант "договорной" легитимации – гоббсовский. Его формула - "защита (которую дает государство гражданам) в обмен на подчинение (которого оно от них требует)" - кажется почти неоспоримой. Во всяком случае, неоспоримой с той позиции, которая обычно противостоит гоббсовской. А именно – со стороны леволиберальных и анархистских уверений в том, что люди в "естественном состоянии" отнюдь не "волки" друг другу. Что человек "по природе добр" и не нуждается в кнуте Левиафана для того, чтобы прийти к гармонии с себе подобными. Цена этим уверениям невысока. Настоящие же контраргументы к гоббсовской модели возникают не со стороны "природы человека", а со стороны "природы государства", и здесь опыт и здравый смысл уже не совсем на стороне Гоббса.
Дело в том, что государства не только избавляют граждан от угрозы их жизни, но и систематически создают ее. Причем создают не в качестве платы за безопасность (полицейская система) и не вследствие вынужденного несовершенства, а в силу собственной политической природы - в силу своей соотнесенности и противостояния с другими государствами. Представить конфликты государств друг с другом, в том числе, вооруженные, в качестве выполнения обязанности по обеспечению безопасности собственных граждан, по серьезному счету, невозможно.
Спору нет, это часто пытались сделать. Но в относительно мирные времена это было большой натяжкой. А во времена военные – большой ложью. Дефицит базовой легитимации универсалистские полицейские системы восполняют истерической пропагандой. Карл Шмит немало говорил о том, что в критическом случае либеральные демократии (и не только они) обречены превращать своих врагов в преступников, а собственных граждан – в идиотов, которые должны ненавидеть врага за его привходящие качества, а не за то, что он враг. Ненавидеть его пропагандистски, а не политически. О том, что такого рода мобилизация легко переходит в свою противоположность – пораженчество и апатию - и не остается без последствий для культурно-психологического здоровья общества, я уже имел случай писать.(1) Но здесь для нас важна не сама эта стратегия мобилизации, а тот изъян в конструкции легитимности, который она отражает. Полицейская концепция власти, которой руководствуются либеральные государства, не позволяет мыслить войну в адекватных ей терминах.
Об этом ясно говорит все тот же Гегель. "Существует совершенно превратный расчет, когда при требовании подобных жертв (жертв, связанных с войной – М.Р.) государство рассматривается просто как гражданское общество и его конечной целью считается лишь обеспечение жизни и собственности индивидов, ибо это обеспечение не достигается посредством жертвования тем, что должно быть обеспечено (курсив наш – М.Р.)".
Иными словами, если рассматривать войну с точки зрения "договорной" концепции государства, то речь идет о чудовищной аномалии, полностью перечеркивающей принцип "защита в обмен на подчинение". В войнах государство не столько "защищает" граждан, сколько подвергает их качественно новой угрозе либо вообще обрекает на верную смерть. Если это имеет какой-то смысл, то он состоит в том, что граждане сами "защищают" государство, причем не как что-то внешнее им, а как собственное право быть государством. И это право, следовательно, уже не выводимо из требований личной безопасности.
Граница общества по отношению к другим обществам, является, таким образом не случайным, а необходимым атрибутом его политического качества. Она имеет определяющее значение для власти как таковой, которая предстает не формой обеспечения частных прав (гражданских или феодальных), а способом существования общества как коллективного субъекта, способного противостоять другим, себе подобным.
Этот признак националистической идеи политики можно обозначить как антиуниверсализм, поскольку он выражает системное различие в картинах мира. В системе координат "общество – природа" или "общество – Бог" задается политический универсум, "задуманный" исходя из божественного или естественного закона. Если же учитывать в качестве определяющей оппозицию "общество – общество", то политический мир приобретает, по выражению Карла Шмитта, характер плюриверсума, в котором базовые ценности, скрепляющие общественный порядок, выступают не как выражение единства мира, а как способ его демаркации.
Публичность и суверенитет
В зависимости от того, какая из картин мира берется за основу, будет определяться сам статус политического. В универсалистской картине мира политическое определено самостоятельностью не-политических сфер жизни общества. Тогда как в реальности плюриверсума пределы политической власти ограничены в первую очередь - пределами другой политической власти. Общества взаимодействуют как политические сообщества, "самостоятельные тотальности в себе", по гегелевскому выражению, а само политическое оказывается не просто подсистемой общества, а его системообразующей функцией. Оно претендует на верховенство по отношению к иным сферам общественной жизни. Причем не на абстрактное и метафизическое, а на строго определенное и практическое верховенство, о котором пишет в "Понятии политического" Карл Шмитт. "Политическое единство, - утверждает он, - если оно вообще наличествует, есть главенствующее и "суверенное" единство в том смысле, что по самому понятию именно ему всегда необходимо должно принадлежать решение относительно главенствующего случая...". А именно, относительно серьезного конфликта, допускающего возможность вооруженной борьбы. Таково, например, решение о военной мобилизации, суверенно распоряжающееся жизнью и собственностью граждан. Или, в терминах самого Шмитта, решение "о друге и враге".
Эти термины многих обманывают своей кажущейся простотой. Сам Шмитт называет различение "друга" и "врага" критерием политического, по аналогии с некоторыми другими парами противоположностей, образующими некие особые измерения человеческой реальности, ("добро" – "зло" - этика, "прекрасное" – "безобразное" – эстетика, "выгодное" – "не выгодное" – экономика и т.д.). Однако при ближайшем рассмотрении в этой паре оказываются заложены два относительно самостоятельных критерия, определяющих политическое. Во-первых, это предельная интенсивность размежевания ("ассоциации и диссоциации", как говорит Шмитт) между людьми, допускающая возможность вооруженной борьбы. Во-вторых, это публичная природа осуществляемого размежевания.
Шмитт посвящает много усилий разъяснению разницы между частным и публичным врагом, поскольку в противном случае он действительно рискует быть неправильно понятым, и в сферу политического легко попадут не только фильмы о "крестных отцах" (войны мафиозных кланов), но и пьесы о "Ромео и Джульетте" (вражда родов). Однако он не артикулирует публичность как самостоятельный критерий политического, а вводит его на правах дополнения. Видимо, потому, что в рамках его работы ("Понятие политического") природа публичности как условия политического остается, с одной стороны, не выводимой из главного предложенного критерия (интенсивность размежевания), а с другой стороны – не вполне раскрытой в ее собственной логике. Шмиттовский проект обоснования политического остается, таким образом, незавершенным без осмысления природы публичности.
Отчасти это осмысление осуществляется в других работах Шмитта, прежде всего, в рамках анализа категории "репрезентации", но и там оказывается весьма фрагментарным. Он говорит о "репрезентативных фигурах" или "репрезентативной речи" как способе воплотить типическое через индивидуальное. По функции, это что-то родственное юнгеровскому "гештальту". "Репрезентация" чрезвычайно важна для политики, но, как следует из примеров самого Шмитта, обнаруживающего кладезь "репрезентативных фигур" в католическом средневековье, она не может служить исчерпывающей спецификацией политической публичности. Пожалуй, самым надежным, хотя и банальным, пониманием публичности будет то, которое связывает ее с пресловутым "res publica". В любой политике есть что-то республиканское, а именно - "притязание на целостность". Публичность в этом смысле возникает вследствие отнесенности ее носителей – будь то люди или идеи – к идее целостности общества. В этом случае под категорию публичности подпадают и идеологические группировки, и институты государства, и отряды повстанцев, и регулярные армии, и цари, и революционеры. Там же, где нет представления о целом, нет и публичных отношений, а только частные (в том числе, и "власть" осуществляется как личная гегемония, и "войны" ведутся как столкновения банд). Этот тезис выглядит идеалистическим, поскольку отягощает великое и неоспоримое в своей фактичности право jus belli (решения о войне и мире), положенное Шмиттом в основу понятия политического, неким "метафизическим" контекстом. Но что поделать, если только в этом контексте оно и может иметь место.(2)
“
Введение "публичности" как самостоятельного критерия политики в дополнение к "размежеванию" позволяет прояснить еще одно темное место "Понятия политического". А именно, проблему генезиса политического. У Шмитта не совсем понятно, считает ли он политическое отношение извечным либо исторически сформированным. В частности, являются ли политическими феодальные системы организации войны и мира? Бессмысленно говорить однозначное "да" или "нет", слишком многое спрессовано в "феодализме". Но можно сказать, в какой мере они ими являются.
Право решать вопросы жизни и смерти было неотъемлемым достоянием средневекового государя и реализовывалось как через осуществление суда, так и через ведение войны. Оно могло рассматриваться либо как его личное право, которое передавалось, опять же, через частно-правовые отношения вниз по социальной лестнице; либо как право представительское по своей природе (представительство может быть свойственно и идее монархии, а совсем не только выборным институтам). В последнем случае, монарх решает для своих людей вопрос о жизни и смерти не от себя лично, а от имени целого, которому они сами принадлежат. Таким образом, отношения власти являются политическими постольку, поскольку решение ее носителя о жизни и смерти оказывается опосредовано его решением о друге и враге. В этом и только в этом случае власть приобретает качество суверенной.
Последнее может показаться спорным. Разве не более "суверенным" выглядит государь, принимающий "предельные" решения "от себя лично"? С точки зрения какого-нибудь "эволианства", безусловно так. Но в действительности, власть, вершащая дела жизни и смерти в частно-правовой логике, может быть подотчетна другой власти, более высоко стоящей на иерархической лестнице. И уж тем более, она не "контролирует" саму иерархическую лестницу, в рамках которой ее "индивидуальные" права только и мыслимы. Так строились отношения вассалитета. И напротив, государь решающий вопросы жизни и смерти как репрезентант целого, т.е. на основе решения о друге и враге (на основе публичного размежевания, предельного в своей интенсивности), не может знать над собой высшей земной власти. В худшем случае – лишь превосходящую силу.
Итак, различение "друг – враг", подразумевает как предельную интенсивность размежевания, так и его публичную природу. В сферу политики, как она выстроена вокруг этого различения, попадает все то, что в нее и должно попадать:
- гражданская война, как холодная, ведущаяся идеологическими лагерями, так и горячая;
- граничные переходы между гражданской войной и гражданским миром, которые обычно знаменуются революциями и диктатурами;
- международная война, как регулярная, так и партизанская;
- наконец, мир - будь то гражданский, или международный, - выстроенный исходя из реальной возможности войны.
Нация и свобода
Для того, чтобы продумать логику шмиттовской модели, возможно, будет полезно сравнить ее с возможной альтернативой. Универсалистская философия политики может предложить – и в разных версиях издавна предлагает – другую, и тоже вполне фундаментальную, пару категорий для осмысления специфики политического, в его отличии от этического, эстетического, экономического и так далее. Это категории "свобода" и "принуждение". Диалектика "свободы" и "принуждения" – центральный сюжет для договорной философии власти. Чтобы гарантировать свободу, люди учреждают принуждение и дальше начинают заботиться о том, чтобы созданное принуждение не нарушило исконной территории свободы. Такова главная интрига политического в ее либеральном прочтении. Для марксизма она тоже актуальна, но скорее в качестве критического описания политики как сферы, где осуществляется классовое принуждение от имени фетиша буржуазной политической свободы. Собственное, позитивное понятие свободы марксизм задает исходя из другого антонима – исходя из "отчуждения". Что, безусловно, выдает более глубокий взгляд, поскольку предполагает понятие свободы как полноты реализации человеком своей сущности. Но этот взгляд нацелен не на истолкование политического, а на его преодоление. Либеральная же версия Просвещения, напротив, ориентирована на поддержание баланса между свободой и принуждением, поэтому политическое обладает в ней собственной законной предметной сферой.
Этот вариант понятия политического можно было бы обойти молчанием или упомянуть лишь вскользь как не имеющий отношения к проблематике национализма. Однако так сложилось, что и в классически-европейском, и в современном российском контексте с ним оказывается связана определенная концепция национального. В частности, Борис Межуев в целом ряде статей использует определение "политической нации" как "союза людей, солидарных в защите своей свободы". Это определение выглядит вполне приемлемым – но лишь благодаря принципиальной многозначности или, можно сказать, безграничному семантическому богатству слова "свобода". Свобода, например, может пониматься как самоосуществление в том качестве, которое приоритетно для ее носителя. И если уж люди защищают нацию, то да, они защищают свою свободу в качестве ее членов. Это бесспорно. Но это тавтология: "политическая нация есть союз людей, защищающих свою свободу быть нацией". Впрочем, тавтология совсем не бессмысленная, поскольку она вводит в идею нации важное опосредование. Одно из существенных ее определений может звучать так: нация есть народ, который опосредует себя через безусловную ценность свободы.
Однако, если следовать собственным пояснениям философа, в приведенном определении политической нации речь идет о не о "позитивном", а о "негативном", собственно либеральном понятии свободы как независимости от власти. О свободе по Джону Стюарту Миллю, которая "есть не гарантированное вмешательство человека в дела власти, а гарантированное невмешательство власти в дела человека". Это понятие свободы помещается в центр политической современности. Оно является, по мысли Межуева, краеугольным камнем не только для институтов либеральной демократии, но и для институтов национального государства, поскольку противостоит не только внутренней тирании, но и внешней гегемонии. Т.е. требует сопротивления чрезмерным притязаниям как "собственной", так и "чужой" власти. Последнее вполне логично, однако не вполне достаточно для определения "политической нации". Ведь негативное понятие свободы не содержит критерия различения "своей" власти от "чужой" и вообще не интересуется этим различением. Оно интересуется балансом между уровнем обеспечиваемых властью "общественных благ" и степенью ее вмешательства в частную жизнь, т.е. чем-то подобным соотношению "цена – качество" во взаимоотношениях человека с властью. И нет ничего невозможного в том, чтобы внешняя власть оказалась по этому показателю "конкурентоспособнее" внутренней. Особенно в том случае, если она окажется открытой к гражданскому участию, т.е. "демократической". Почему бы и нет?
Последнее может показаться спорным. Разве не более "суверенным" выглядит государь, принимающий "предельные" решения "от себя лично"? С точки зрения какого-нибудь "эволианства", безусловно так. Но в действительности, власть, вершащая дела жизни и смерти в частно-правовой логике, может быть подотчетна другой власти, более высоко стоящей на иерархической лестнице. И уж тем более, она не "контролирует" саму иерархическую лестницу, в рамках которой ее "индивидуальные" права только и мыслимы. Так строились отношения вассалитета. И напротив, государь решающий вопросы жизни и смерти как репрезентант целого, т.е. на основе решения о друге и враге (на основе публичного размежевания, предельного в своей интенсивности), не может знать над собой высшей земной власти. В худшем случае – лишь превосходящую силу.
Итак, различение "друг – враг", подразумевает как предельную интенсивность размежевания, так и его публичную природу. В сферу политики, как она выстроена вокруг этого различения, попадает все то, что в нее и должно попадать:
- гражданская война, как холодная, ведущаяся идеологическими лагерями, так и горячая;
- граничные переходы между гражданской войной и гражданским миром, которые обычно знаменуются революциями и диктатурами;
- международная война, как регулярная, так и партизанская;
- наконец, мир - будь то гражданский, или международный, - выстроенный исходя из реальной возможности войны.
Нация и свобода
Для того, чтобы продумать логику шмиттовской модели, возможно, будет полезно сравнить ее с возможной альтернативой. Универсалистская философия политики может предложить – и в разных версиях издавна предлагает – другую, и тоже вполне фундаментальную, пару категорий для осмысления специфики политического, в его отличии от этического, эстетического, экономического и так далее. Это категории "свобода" и "принуждение". Диалектика "свободы" и "принуждения" – центральный сюжет для договорной философии власти. Чтобы гарантировать свободу, люди учреждают принуждение и дальше начинают заботиться о том, чтобы созданное принуждение не нарушило исконной территории свободы. Такова главная интрига политического в ее либеральном прочтении. Для марксизма она тоже актуальна, но скорее в качестве критического описания политики как сферы, где осуществляется классовое принуждение от имени фетиша буржуазной политической свободы. Собственное, позитивное понятие свободы марксизм задает исходя из другого антонима – исходя из "отчуждения". Что, безусловно, выдает более глубокий взгляд, поскольку предполагает понятие свободы как полноты реализации человеком своей сущности. Но этот взгляд нацелен не на истолкование политического, а на его преодоление. Либеральная же версия Просвещения, напротив, ориентирована на поддержание баланса между свободой и принуждением, поэтому политическое обладает в ней собственной законной предметной сферой.
Этот вариант понятия политического можно было бы обойти молчанием или упомянуть лишь вскользь как не имеющий отношения к проблематике национализма. Однако так сложилось, что и в классически-европейском, и в современном российском контексте с ним оказывается связана определенная концепция национального. В частности, Борис Межуев в целом ряде статей использует определение "политической нации" как "союза людей, солидарных в защите своей свободы". Это определение выглядит вполне приемлемым – но лишь благодаря принципиальной многозначности или, можно сказать, безграничному семантическому богатству слова "свобода". Свобода, например, может пониматься как самоосуществление в том качестве, которое приоритетно для ее носителя. И если уж люди защищают нацию, то да, они защищают свою свободу в качестве ее членов. Это бесспорно. Но это тавтология: "политическая нация есть союз людей, защищающих свою свободу быть нацией". Впрочем, тавтология совсем не бессмысленная, поскольку она вводит в идею нации важное опосредование. Одно из существенных ее определений может звучать так: нация есть народ, который опосредует себя через безусловную ценность свободы.
Однако, если следовать собственным пояснениям философа, в приведенном определении политической нации речь идет о не о "позитивном", а о "негативном", собственно либеральном понятии свободы как независимости от власти. О свободе по Джону Стюарту Миллю, которая "есть не гарантированное вмешательство человека в дела власти, а гарантированное невмешательство власти в дела человека". Это понятие свободы помещается в центр политической современности. Оно является, по мысли Межуева, краеугольным камнем не только для институтов либеральной демократии, но и для институтов национального государства, поскольку противостоит не только внутренней тирании, но и внешней гегемонии. Т.е. требует сопротивления чрезмерным притязаниям как "собственной", так и "чужой" власти. Последнее вполне логично, однако не вполне достаточно для определения "политической нации". Ведь негативное понятие свободы не содержит критерия различения "своей" власти от "чужой" и вообще не интересуется этим различением. Оно интересуется балансом между уровнем обеспечиваемых властью "общественных благ" и степенью ее вмешательства в частную жизнь, т.е. чем-то подобным соотношению "цена – качество" во взаимоотношениях человека с властью. И нет ничего невозможного в том, чтобы внешняя власть оказалась по этому показателю "конкурентоспособнее" внутренней. Особенно в том случае, если она окажется открытой к гражданскому участию, т.е. "демократической". Почему бы и нет?
Негативная свобода действительно может оказываться под угрозой и требовать от людей солидарных действий. Но она, как и всякое дитя Просвещения, ничего не может сказать о границах, внутри которых свобода преобразуется в солидарность, а индивидуальное в общественное. В лучшем случае, свобода может послужить делу нации там, где эти границы уже заданы, где существуют "свои", с которыми возможна вооруженная солидарность в противостоянии "чужим". Но последнее будет означать, что политическое отношение уже создано. А будет ли оно изъяснять себя через негативную идею свободы, как, например, в антиколониальных войнах, или через позитивную идею превосходства, как, в войнах колониальных, - это вопрос вторичный.
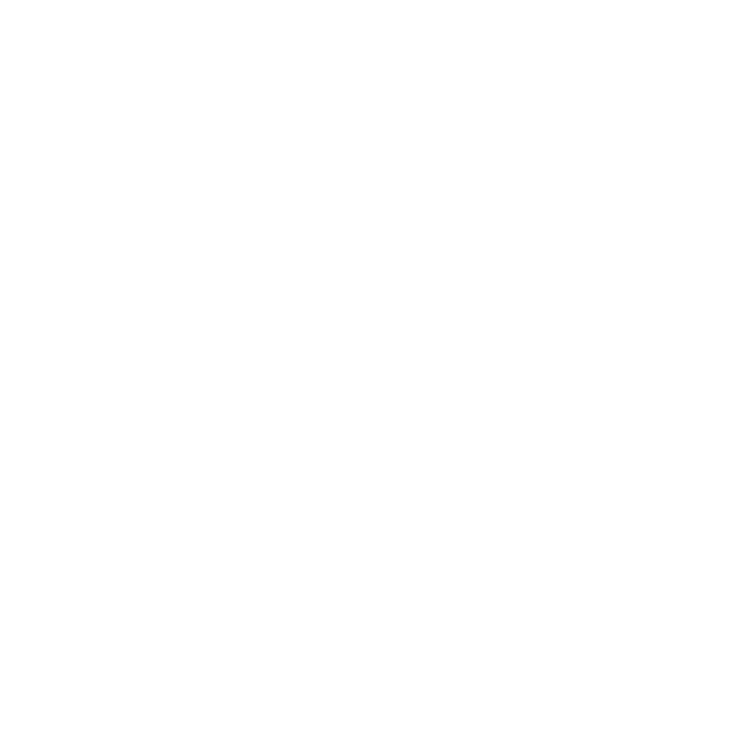
Политика и государство
В завершение разговора о шмиттовской модели, остается задать весьма важный вопрос: чем является в ней государство? Исходной ее точкой является попытка уйти от тавтологического определения "политического" через "государственное" и "государственного" через "политическое". Логически первичной он предлагает считать категорию "политического". "Понятие государства предполагает понятие политического" – такова первая фраза его легендарной работы. И ему действительно удается предложить свое понимание государства, исходя из намеченного понятия политики. Если политическое отношение есть предельное по своей интенсивности размежевание на "друзей" и "врагов", то государство является институционализацией этого отношения. Слово "институционализация" здесь понимается в
самом всеобъемлющем смысле. Это и стабилизация во времени, и закрепление в пространстве, и фиксация в языке символов, и, конечно же, организация в праве. В государстве и посредством государства решение о "друге" и "враге" становится организованным, зримым и принудительным. Речь уже не просто об интенсивном ощущении общности, а о всеобщей мобилизационной повинности, не просто о решении вопросов жизни и смерти, а о монополии на легитимное насилие, не просто об экзистенциальном различении своих и чужих, а о формальном гражданстве.
Это опосредование неформального политического отношения в формальных институтах совершенно необходимо. Без него не может быть создано никакой политической действительности. Но одновременно оно создает одну извечную для всех такого рода отношений (отношений институционализации) проблему: проблему отчуждения. Государственное, с одной стороны, оформляет политическое, но с другой - подменяет его, вытесняет, подвергает забвению. И в той мере, в какой ему это удается, государство теряет собственную сущность.
В значительной мере, анализу и преодолению этого отчуждения государства от политики служит другая, не менее известная, чем учение о "друге и враге", концепция Карла Шмитта – его философия суверенитета. "Суверенен тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении", - гласит первая фраза "Политической теологии". Может показаться странным, что в этой работе фактически никак не задействуется уже разработанная Шмиттом идея политики как сферы различения "друга" и "врага", в которой, казалось бы, идея суверенитета уже раскрыта. Но в действительности, это вполне закономерно. Если в "Понятии политического" Шмитт идет от "политики" к "государству", то цель "Политической теологии" – выстроить маршрут в обратном направлении. Т.е. взять в качестве точки отсчета наличную данность государственных институтов, всей системы государственного права, которая выстраивает себя как самодовлеющую и самодостаточную, и показать ее внутреннюю неполноту. Симптомом, обнаружением этой неполноты является то, что Шмитт называет "исключительной", или "чрезвычайной" ситуацией. Она и оказывается своего рода "окном" в политическое, которое, как правило, старательно задрапировано казуистикой правовой системы, но в любой момент может быть открыто.
С этой точки зрения, шмиттовская идея верховенства политического обретает двойной смысл. Во-первых, политическое объединение, т.е., де-факто, государство, верховно по отношению к корпорации, церкви, клубу по интересам и так далее, поскольку именно ему принадлежит прерогатива публичного определения "друга" и "врага". Во-вторых, политическое как сфера экзистенциального переживания и непосредственного осуществления мобилизационного единства верховно по отношению к формальным институтам, т.е., де-факто, - по отношению к самому государству.
Таким образом, отношения государственного и политического, как минимум, сложные. Одновременно предполагая друг друга и угрожая друг другу(3), они образуют конфликтное, можно сказать, диалектическое тождество. Причем это не диалектика единства и борьбы противоположностей, воспетая Гегелем, а диалектика опредмечивания, примерно в том виде, как она была воссоздана Хайдеггером.
Последний исходит из того, что, во-первых, история человека во многом является "историей сокрытия" некоего жизненного истока через его опредмечивание в вещах и понятиях (в частности, цивилизация приучает человека самого себя воспринимать как вещь); что, во-вторых, жизнь сама "хочет" быть сокрытой, поскольку опредмечивание спасает ее от ее собственного фундаментального беспокойства (в частности, мы живем так, чтобы вытеснять осознание смертности); что, в-третьих, философия должна быть деконструкцией опредмечивающей тенденции (в частности, категориального аппарата традиционной метафизики или фетишизма "естественно-научного мировоззрения") и принудительно возвращать жизнь к ее истоку. Каковым является "экзистенциальное" измерение внутреннего опыта (забота, совесть, смерть, временность, решимость…). Поддержание контакта с этим невещественным и непредикативным измерением для человека означает подлинность жизни.
И здесь сближение между Хайдеггером и Шмиттом, часто производимое, но редко объясняемое, становится вполне понятным. Оно простирается гораздо дальше употребления Шмиттом слова "экзистенциальный" при характеристике "врага". Шмиттовская аналитика государства и права есть не что иное, как деконструкция заложенной в них тенденции к опредмечиванию и забвению собственного истока (политического). Шмиттовская стратегия суверенитета есть не что иное, как политика подлинности, в смысле поддержания государством контакта с собственной до-правовой реальностью. В смысле сосредоточенной открытости пороговым ситуациям.
Кажется, это именно то, от чего предостерегал Теодор Адорно, утверждая, что в политике (и политической философии) "дискурс подлинности" приводит к фашизму. Подобные предостережения вряд ли должны кого-то смущать, поскольку теоретики франкфуртской школы сводили к фашизму едва ли не все лучшее в истории человечества – от патриархальной семьи до народной армии. В остальном же, высказывание не лишено смысла. Политика подлинности ищет способы преодолеть отчуждение, царящее в либеральном государстве. Она нацелена на сопряжение формальных институтов и социальных структур с опытом непосредственного переживания единства. И если говорить о сфере максимально интенсивного единства, то определение будет звучать так: политика подлинности нацелена на постоянное поддержание политического в государственном.
Государство и народ
Эта миссия (поддержание политического в государственном) представляет собой хорошую путеводную нить для понимания национализма. Не объяснения или обоснования, а именно понимания. Национализм явно или неявно исходит из двух предпосылок:
- во-первых, государство должно собой нечто выражать, репрезентировать, а не просто "обеспечивать порядок";
- во-вторых, то, что выражает собой государство, должно быть больше человеческой жизни.
Общность, идеально отвечающая этим двум критериям, есть народная (этническая) нация. "Нация" – поскольку она вправе потребовать от человека жизни. "Народная" – поскольку она "стоит" за государством как субстанциальная реальность, которую оно выражает. Причем, что не маловажно, эта реальность присутствует в государстве не только в моменты непосредственной остроты размежевания, а неизменно. Она ежеминутно наполняет государство смыслом. Именно поэтому определение государства как политически оформленного народа, хотя и берется Шмиттом в качестве исходного и формального, предопределяет базовую логику его построений.
В качестве противовеса "народной нации" часто рассматривается нация "гражданская". И если рассматривать ее именно в качестве противовеса, а не формального дополнения, то ставка на "гражданскую нацию", "гражданский национализм" будет хорошей иллюстрацией того, что прямо противоположно политике подлинности. Иллюстрацией политики отчуждения.
"Гражданская нация" требует не меньшего уровня лояльности, чем "народная". Т.е. она претендует быть максимально интенсивным единством. Но как образовано само это единство?
В одном варианте, более индивидуалистическом, "гражданский национализм" выводит его из статуса частных лиц, образующих договорное отношение. В этом случае вступает в силу уже упомянутое противоречие между инструментальным пониманием государства как гаранта индивидуальных прав и его политической природой как субъекта войны. Противоречие, "преодолеваемое" за счет элементарной непоследовательности и нечестности. Т.е. за счет подмены политики пропагандой (о чем уже шла речь). Можно сказать, что "гражданское общество" (т.е. договор граждан) может воображать себя нацией лишь ценой систематического самообмана.
В другом варианте, более этатистском, "гражданский национализм" выводит политическое единство из самих государственных институтов. Последние выступают, таким образом, не оформлением единства, а его первичным основанием. Вопрос же об их собственных основаниях выносится за скобки. Но в этом случае само государство становится исключительно данностью, а не ценностью! "Гражданский национализм" выводит все из государства, но само государство оставляет безосновательным и бессмысленным. (Если же его основание и смысл – охрана жизни и собственности граждан, то см. предыдущий пункт.)
Таким образом, мы предлагаем взглянуть на этнизацию политики как на решение проблемы отчуждения между формальными институтами государства и непосредственным опытом политического единства.
Главная трудность, возникающая в решении этой проблемы, состоит в следующем: как быть с тем, что опыт политического, по самой своей природе, дискретен? Политика в смысле реального опыта смертельной вражды к "чужим" и абсолютного братства среди "своих" существует в виде редких мгновений, вспышками озаряющих историю и разнесенных друг от друга на годы, десятилетия, а то и эпохи. Между этими "праздниками политического" лежат государственные будни, рутина отчуждения. Как возвращать государство к его политическому истоку? Вновь и вновь искусственно вызывая к жизни пограничные ситуации и пробуждая дух всеобщей мобилизации? Но духов судьбы вообще лучше не беспокоить попусту. Это было бы чрезвычайно романтической, то есть плохой политикой. Точно так же, как плохой философией было бы приравнять хайдеггеровское "бытие-к-смерти" к адреналиновой наркомании.
Наиболее яркий пример здесь – не набившие оскомину нацизм или фашизм, а их удивительный романтический прототип. Поэтическая диктатура Д'Аннуцио в городе Фиуме, захват которого был инспирирован им в ходе блестящего военно-политического маневра. Город превратился в экстерриториальный анклав под властью иррегулярного гарнизона, во главе которого стоял замечательный поэт и герой войны, истинный романтик "дружбы" и "вражды" Д'Аннуцио. Здесь он и попытался воплотить утопию политики как праздника, который всегда с тобой, – с парадами, речами, клятвами верности, изъявлениями мужества и последующими опьянениями женственностью. Все это продолжалось не более года. И не только по причинам внешнего толка, но и в силу естественной внутренней пресыщенности карнавалом мобилизации. Режимы адреналиновой наркомании всегда плохо заканчивают – самоубийством или фальшью, - и я даже не знаю, какой из сценариев хуже.
Поэтому нарочитое провоцирование либо имитация политических ситуаций не являются решением поставленного вопроса и, в конечном счете, лишь углубляют отчуждение между экзистенциальностью политического и рутинностью государственного. Это отчуждение может быть снято лишь на основе чего-то третьего. А именно, на основе органики национального.
Проведем мысленный эксперимент. Предположим, что нам дана политическая энергия, энергия, заключенная в различении "друга" и "врага". Мы знаем, что она по определению является преходящей. Наша задача – создать на ее основе стабильные социальные отношения. Если угодно, "пролонгировать" политическую общность. Для этого мы должны извлечь из данной энергии смысл. Причем такой смысл, который может быть мотивом и ориентиром для поведения людей в повседневных, а не только чрезвычайных ситуациях. Для этого, в свою очередь, необходимо "увековечить" признак, на основе которого произведено различение "друга" и "врага", обеспечив его наследование в поколениях (этничность и есть, в некотором роде, базовая способность различения "своих" и "чужих", передаваемая по наследству). А ту борьбу "не на жизнь, а на смерть", которую ведет сообщество "друзей" против "врагов", - превратить из однократной схватки на выживание в процесс непрерывного обеспечения жизни (этничность диктует восприятие коллективной истории в органических категориях).
"Жить в политике – значит очень серьезно заниматься жизнью," – говорил Ортега-и-Гассет. Поэтому можно сказать, что интересующая нас "пролонгация" политического отношения происходит за счет того, что ситуативное решение "о жизни и смерти" преобразуется в непрерывный процесс "занятия жизнью". Т.е. в осознанно-органический процесс.
Характеристика политики как осознанно-органического процесса (процесса "занятия жизнью") – последняя из тех, что были необходимы нам в данном разделе. Из всех приведенных она является наименее обязательной, поскольку мы не можем непосредственно "дедуцировать" ее из понятия политического, но, быть может, наиболее важной, поскольку мы можем увидеть в ней необходимое решение той проблемы отчуждения, которая заложена в понятии политического.
Можно сказать и так. Политическое, с одной стороны, суверенно. Но с другой – ситуативно. В этом диалектическое противоречие идеи политики. Его разрешение состоит в том, чтобы субстанциализировать и "одушевить" политическое единство, представив его как атрибут непрерывной народной жизни. Народ может испытывать то непосредственное, предельное в своей интенсивности, сокрушительное ощущение общности, о котором говорит Шмитт, всего несколько раз на протяжении столетий. Это всего лишь мгновения, мгновения политического. Но именно на них будет держаться вся его история. В том случае, если удастся сохранить этот исключительный опыт в структурах коллективной повседневности.
В завершение разговора о шмиттовской модели, остается задать весьма важный вопрос: чем является в ней государство? Исходной ее точкой является попытка уйти от тавтологического определения "политического" через "государственное" и "государственного" через "политическое". Логически первичной он предлагает считать категорию "политического". "Понятие государства предполагает понятие политического" – такова первая фраза его легендарной работы. И ему действительно удается предложить свое понимание государства, исходя из намеченного понятия политики. Если политическое отношение есть предельное по своей интенсивности размежевание на "друзей" и "врагов", то государство является институционализацией этого отношения. Слово "институционализация" здесь понимается в
самом всеобъемлющем смысле. Это и стабилизация во времени, и закрепление в пространстве, и фиксация в языке символов, и, конечно же, организация в праве. В государстве и посредством государства решение о "друге" и "враге" становится организованным, зримым и принудительным. Речь уже не просто об интенсивном ощущении общности, а о всеобщей мобилизационной повинности, не просто о решении вопросов жизни и смерти, а о монополии на легитимное насилие, не просто об экзистенциальном различении своих и чужих, а о формальном гражданстве.
Это опосредование неформального политического отношения в формальных институтах совершенно необходимо. Без него не может быть создано никакой политической действительности. Но одновременно оно создает одну извечную для всех такого рода отношений (отношений институционализации) проблему: проблему отчуждения. Государственное, с одной стороны, оформляет политическое, но с другой - подменяет его, вытесняет, подвергает забвению. И в той мере, в какой ему это удается, государство теряет собственную сущность.
В значительной мере, анализу и преодолению этого отчуждения государства от политики служит другая, не менее известная, чем учение о "друге и враге", концепция Карла Шмитта – его философия суверенитета. "Суверенен тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении", - гласит первая фраза "Политической теологии". Может показаться странным, что в этой работе фактически никак не задействуется уже разработанная Шмиттом идея политики как сферы различения "друга" и "врага", в которой, казалось бы, идея суверенитета уже раскрыта. Но в действительности, это вполне закономерно. Если в "Понятии политического" Шмитт идет от "политики" к "государству", то цель "Политической теологии" – выстроить маршрут в обратном направлении. Т.е. взять в качестве точки отсчета наличную данность государственных институтов, всей системы государственного права, которая выстраивает себя как самодовлеющую и самодостаточную, и показать ее внутреннюю неполноту. Симптомом, обнаружением этой неполноты является то, что Шмитт называет "исключительной", или "чрезвычайной" ситуацией. Она и оказывается своего рода "окном" в политическое, которое, как правило, старательно задрапировано казуистикой правовой системы, но в любой момент может быть открыто.
С этой точки зрения, шмиттовская идея верховенства политического обретает двойной смысл. Во-первых, политическое объединение, т.е., де-факто, государство, верховно по отношению к корпорации, церкви, клубу по интересам и так далее, поскольку именно ему принадлежит прерогатива публичного определения "друга" и "врага". Во-вторых, политическое как сфера экзистенциального переживания и непосредственного осуществления мобилизационного единства верховно по отношению к формальным институтам, т.е., де-факто, - по отношению к самому государству.
Таким образом, отношения государственного и политического, как минимум, сложные. Одновременно предполагая друг друга и угрожая друг другу(3), они образуют конфликтное, можно сказать, диалектическое тождество. Причем это не диалектика единства и борьбы противоположностей, воспетая Гегелем, а диалектика опредмечивания, примерно в том виде, как она была воссоздана Хайдеггером.
Последний исходит из того, что, во-первых, история человека во многом является "историей сокрытия" некоего жизненного истока через его опредмечивание в вещах и понятиях (в частности, цивилизация приучает человека самого себя воспринимать как вещь); что, во-вторых, жизнь сама "хочет" быть сокрытой, поскольку опредмечивание спасает ее от ее собственного фундаментального беспокойства (в частности, мы живем так, чтобы вытеснять осознание смертности); что, в-третьих, философия должна быть деконструкцией опредмечивающей тенденции (в частности, категориального аппарата традиционной метафизики или фетишизма "естественно-научного мировоззрения") и принудительно возвращать жизнь к ее истоку. Каковым является "экзистенциальное" измерение внутреннего опыта (забота, совесть, смерть, временность, решимость…). Поддержание контакта с этим невещественным и непредикативным измерением для человека означает подлинность жизни.
И здесь сближение между Хайдеггером и Шмиттом, часто производимое, но редко объясняемое, становится вполне понятным. Оно простирается гораздо дальше употребления Шмиттом слова "экзистенциальный" при характеристике "врага". Шмиттовская аналитика государства и права есть не что иное, как деконструкция заложенной в них тенденции к опредмечиванию и забвению собственного истока (политического). Шмиттовская стратегия суверенитета есть не что иное, как политика подлинности, в смысле поддержания государством контакта с собственной до-правовой реальностью. В смысле сосредоточенной открытости пороговым ситуациям.
Кажется, это именно то, от чего предостерегал Теодор Адорно, утверждая, что в политике (и политической философии) "дискурс подлинности" приводит к фашизму. Подобные предостережения вряд ли должны кого-то смущать, поскольку теоретики франкфуртской школы сводили к фашизму едва ли не все лучшее в истории человечества – от патриархальной семьи до народной армии. В остальном же, высказывание не лишено смысла. Политика подлинности ищет способы преодолеть отчуждение, царящее в либеральном государстве. Она нацелена на сопряжение формальных институтов и социальных структур с опытом непосредственного переживания единства. И если говорить о сфере максимально интенсивного единства, то определение будет звучать так: политика подлинности нацелена на постоянное поддержание политического в государственном.
Государство и народ
Эта миссия (поддержание политического в государственном) представляет собой хорошую путеводную нить для понимания национализма. Не объяснения или обоснования, а именно понимания. Национализм явно или неявно исходит из двух предпосылок:
- во-первых, государство должно собой нечто выражать, репрезентировать, а не просто "обеспечивать порядок";
- во-вторых, то, что выражает собой государство, должно быть больше человеческой жизни.
Общность, идеально отвечающая этим двум критериям, есть народная (этническая) нация. "Нация" – поскольку она вправе потребовать от человека жизни. "Народная" – поскольку она "стоит" за государством как субстанциальная реальность, которую оно выражает. Причем, что не маловажно, эта реальность присутствует в государстве не только в моменты непосредственной остроты размежевания, а неизменно. Она ежеминутно наполняет государство смыслом. Именно поэтому определение государства как политически оформленного народа, хотя и берется Шмиттом в качестве исходного и формального, предопределяет базовую логику его построений.
В качестве противовеса "народной нации" часто рассматривается нация "гражданская". И если рассматривать ее именно в качестве противовеса, а не формального дополнения, то ставка на "гражданскую нацию", "гражданский национализм" будет хорошей иллюстрацией того, что прямо противоположно политике подлинности. Иллюстрацией политики отчуждения.
"Гражданская нация" требует не меньшего уровня лояльности, чем "народная". Т.е. она претендует быть максимально интенсивным единством. Но как образовано само это единство?
В одном варианте, более индивидуалистическом, "гражданский национализм" выводит его из статуса частных лиц, образующих договорное отношение. В этом случае вступает в силу уже упомянутое противоречие между инструментальным пониманием государства как гаранта индивидуальных прав и его политической природой как субъекта войны. Противоречие, "преодолеваемое" за счет элементарной непоследовательности и нечестности. Т.е. за счет подмены политики пропагандой (о чем уже шла речь). Можно сказать, что "гражданское общество" (т.е. договор граждан) может воображать себя нацией лишь ценой систематического самообмана.
В другом варианте, более этатистском, "гражданский национализм" выводит политическое единство из самих государственных институтов. Последние выступают, таким образом, не оформлением единства, а его первичным основанием. Вопрос же об их собственных основаниях выносится за скобки. Но в этом случае само государство становится исключительно данностью, а не ценностью! "Гражданский национализм" выводит все из государства, но само государство оставляет безосновательным и бессмысленным. (Если же его основание и смысл – охрана жизни и собственности граждан, то см. предыдущий пункт.)
Таким образом, мы предлагаем взглянуть на этнизацию политики как на решение проблемы отчуждения между формальными институтами государства и непосредственным опытом политического единства.
Главная трудность, возникающая в решении этой проблемы, состоит в следующем: как быть с тем, что опыт политического, по самой своей природе, дискретен? Политика в смысле реального опыта смертельной вражды к "чужим" и абсолютного братства среди "своих" существует в виде редких мгновений, вспышками озаряющих историю и разнесенных друг от друга на годы, десятилетия, а то и эпохи. Между этими "праздниками политического" лежат государственные будни, рутина отчуждения. Как возвращать государство к его политическому истоку? Вновь и вновь искусственно вызывая к жизни пограничные ситуации и пробуждая дух всеобщей мобилизации? Но духов судьбы вообще лучше не беспокоить попусту. Это было бы чрезвычайно романтической, то есть плохой политикой. Точно так же, как плохой философией было бы приравнять хайдеггеровское "бытие-к-смерти" к адреналиновой наркомании.
Наиболее яркий пример здесь – не набившие оскомину нацизм или фашизм, а их удивительный романтический прототип. Поэтическая диктатура Д'Аннуцио в городе Фиуме, захват которого был инспирирован им в ходе блестящего военно-политического маневра. Город превратился в экстерриториальный анклав под властью иррегулярного гарнизона, во главе которого стоял замечательный поэт и герой войны, истинный романтик "дружбы" и "вражды" Д'Аннуцио. Здесь он и попытался воплотить утопию политики как праздника, который всегда с тобой, – с парадами, речами, клятвами верности, изъявлениями мужества и последующими опьянениями женственностью. Все это продолжалось не более года. И не только по причинам внешнего толка, но и в силу естественной внутренней пресыщенности карнавалом мобилизации. Режимы адреналиновой наркомании всегда плохо заканчивают – самоубийством или фальшью, - и я даже не знаю, какой из сценариев хуже.
Поэтому нарочитое провоцирование либо имитация политических ситуаций не являются решением поставленного вопроса и, в конечном счете, лишь углубляют отчуждение между экзистенциальностью политического и рутинностью государственного. Это отчуждение может быть снято лишь на основе чего-то третьего. А именно, на основе органики национального.
Проведем мысленный эксперимент. Предположим, что нам дана политическая энергия, энергия, заключенная в различении "друга" и "врага". Мы знаем, что она по определению является преходящей. Наша задача – создать на ее основе стабильные социальные отношения. Если угодно, "пролонгировать" политическую общность. Для этого мы должны извлечь из данной энергии смысл. Причем такой смысл, который может быть мотивом и ориентиром для поведения людей в повседневных, а не только чрезвычайных ситуациях. Для этого, в свою очередь, необходимо "увековечить" признак, на основе которого произведено различение "друга" и "врага", обеспечив его наследование в поколениях (этничность и есть, в некотором роде, базовая способность различения "своих" и "чужих", передаваемая по наследству). А ту борьбу "не на жизнь, а на смерть", которую ведет сообщество "друзей" против "врагов", - превратить из однократной схватки на выживание в процесс непрерывного обеспечения жизни (этничность диктует восприятие коллективной истории в органических категориях).
"Жить в политике – значит очень серьезно заниматься жизнью," – говорил Ортега-и-Гассет. Поэтому можно сказать, что интересующая нас "пролонгация" политического отношения происходит за счет того, что ситуативное решение "о жизни и смерти" преобразуется в непрерывный процесс "занятия жизнью". Т.е. в осознанно-органический процесс.
Характеристика политики как осознанно-органического процесса (процесса "занятия жизнью") – последняя из тех, что были необходимы нам в данном разделе. Из всех приведенных она является наименее обязательной, поскольку мы не можем непосредственно "дедуцировать" ее из понятия политического, но, быть может, наиболее важной, поскольку мы можем увидеть в ней необходимое решение той проблемы отчуждения, которая заложена в понятии политического.
Можно сказать и так. Политическое, с одной стороны, суверенно. Но с другой – ситуативно. В этом диалектическое противоречие идеи политики. Его разрешение состоит в том, чтобы субстанциализировать и "одушевить" политическое единство, представив его как атрибут непрерывной народной жизни. Народ может испытывать то непосредственное, предельное в своей интенсивности, сокрушительное ощущение общности, о котором говорит Шмитт, всего несколько раз на протяжении столетий. Это всего лишь мгновения, мгновения политического. Но именно на них будет держаться вся его история. В том случае, если удастся сохранить этот исключительный опыт в структурах коллективной повседневности.
Опубликовано на портале apn.ru, 5 сентября 2007 года
Примечания:
1. См. "Война, язык и неврастения".
2. И кстати, примерно таким критерием политического – публичность как отнесенность к целостности - пользуется сам Шмит в "Теории партизана", объясняя различие между "партизаном" с одной стороны, и "разбойником", "пиратом" – с другой - и говоря о том, что "политическое недостижимо из криминального".
3. Политическое для государственного – тот "отец", который, как "породил", так и "убъет" (государства разрушаются, когда политическое отношение претерпевает трансформацию и осуществляется новое различение "друга" и "врага"), государственное для политического – это "тело", постоянно норовящее забыть о "духе".
1. См. "Война, язык и неврастения".
2. И кстати, примерно таким критерием политического – публичность как отнесенность к целостности - пользуется сам Шмит в "Теории партизана", объясняя различие между "партизаном" с одной стороны, и "разбойником", "пиратом" – с другой - и говоря о том, что "политическое недостижимо из криминального".
3. Политическое для государственного – тот "отец", который, как "породил", так и "убъет" (государства разрушаются, когда политическое отношение претерпевает трансформацию и осуществляется новое различение "друга" и "врага"), государственное для политического – это "тело", постоянно норовящее забыть о "духе".
