Консерватизм сегодня: аналитический обзор
История консерватизма как партийного брэнда в России до сей поры резюмировалась фразой Владислава Суркова, оброненной на партсобрании "Единой России": "мы, безусловно, консерваторы, но пока не знаем что это такое". В рамках данного очерка мы будем стараться говорить о тех, кто "знает" или хотя бы думает, что знает, что это такое. То есть о консерватизме как идеологическом течении. Сначала попробуем перечислить, в первом приближении, наиболее заметные из консервативных фигур и институций.
Пожалуй, из интеллектуальных консерваторов наиболее близко к партийно-политическому "запросу на консерватизм" стоят идеологи "Серафимовского клуба", образованного в конце 2003 года группой известных журналистов — Александр Привалов, Михаил Леонтьев, Максим Соколов — и патриотических кинематографистов — Сергей Сельянов, Алексей Балабанов. Оперативным центром этой группы является журнал "Эксперт", видящий свою миссию в разработке "национально-либеральной" идеологии, причем, как правило, в экономикоцентричном ключе.
Тогда же, в 2003–2004 гг., на основе семинара "РЖ-Сценарии", действовавшего при "Русском журнале", сложился формат идеологического клуба консервативных экспертов и журналистов, получившего название "Консервативный пресс-клуб". "Кадровый костяк" клуба составили публицисты и ученые: Вадим Цымбурский, Виктор Милитарев, Юрий Солозобов, Борис Межуев, Константин Крылов, Егор Холмогоров, Андрей Окара. Своим культуроцентризмом он оттенял экономический крен "Серафимовского клуба", а в качестве полюса антилиберального консерватизма оппонировал "национал-либеральному синтезу". В качестве изданий, представляющих это направление, фигурировали в разное время — газета "Консерватор" (в 2003 году); политотдел сетевого "Русского журнала" (в 2001–2003 гг.); аналитический сайт Агентство политических новостей (с июня 2004 по настоящий момент) и альманах "Стратегический журнал", выпускаемые Институтом национальной стратегии; журнал "Русский предприниматель" (главный редактор — Андрей Кобяков) и некоторые другие издания.
Отдельно можно упомянуть направление православного консерватизма, которое не имеет четкой институциональной привязки, если не считать собственно церковных структур — таких, как Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата (митрополит Кирилл), или Сретенский монастырь (архимандрит Тихон Шевкунов). Это направление за последние годы заметно интеллектуализировалось благодаря деятельности таких изданий, как "Православие.ру" или "Правая.ру", лицом которых стали публицисты Виталий Аверьянов, Илья Бражников, Олег Беляков, Наталия Нарочницкая.
Среди сознательно "консервативных" общественных институций следует также назвать: литературно-философскую группу "Бастион", действующую на протяжении последних 6 лет, объединяющую писателей-фантастов и идеологов имперско-православно направления (Дмитрий Володихин, Эдуард Геворкян, Глеб Елисеев, Кирилл Бенедиктов и другие); фонд Культуры Никиты Михалкова, проводивший на протяжении нескольких лет философско-культурологический "Консервативный семинар". Существуют авторитетные центры, не декларирующие напрямую идеологический консерватизм, но имеющие к нему непосредственное отношение. Такие, как многолетний "Экспериментальный творческий центр" Сергея Кургиняна, издающий журнал "Россия XXI" и альманах "Школа целостного анализа", или Институт русской истории при РГГУ, возглавляемый Андреем Фурсовым, где выходит в свет "Русский исторический журнал".
Наконец, следует назвать несколько имен, которые сами по себе равнозначны "институтам" консервативного идейного поля. Это Александр Солженицын, покойный философ-политолог Александр Панарин, философ-геополитик Вадим Цымбурский, лево-консервативный мыслитель Сергей Кара-Мурза, консервативный "миссионер" и геополитик Александр Дугин, религиозный философ и историк Владимир Махнач, православный публицист Андрей Кураев…
Конечно, этот набор консервативных фигур и центров заведомо произволен и неполон. Систематизировать и расширять его — задача для историков и социологов. Наша задача в данном случае в другом: понять, что придает всему этому "социальному срезу" характер "интеллектуального поля"? И возможно, идеологического полюса.
Консерватизм в поисках "референта"
Едва только в консерватизме начали видеть некую идейно-политическую платформу, как консерваторы повели друг с другом борьбу за политическое определение консерватизма — за возможность дать полю свою разметку. Эта борьба не является признаком склочности. Она представляет собой естественную и вполне продуктивную реакцию на изначально проблематичный статус консерватизма как политической идеологии. Каждый назвавшийся "консерватором" слышал этот вопрос неоднократно: что вы собираетесь "консервировать" в России — стране с неоднократно прерванной традицией? Вопрос вполне уместный. Но именно как вопрос. А не как аргумент против российского консерватизма. Дело в том, что консерватизм как таковой выходит на сцену именно тогда, когда "консервировать" уже поздно. Когда символический порядок имперского и сословного общества, который, собственно, и мог служить предметом "консервации", — поскольку был равнозначен для религиозного сознания миропорядку — превратился в руины по мере продвижения "просвещения", "революции", "эмансипации". Консервативное сознание, пробужденное к жизни ощущением своей связи с уходящим миром, попадает в ситуацию конфликта, но конфликта продуктивного: вынуждающего консерватора "делать себя вместо того, чтобы просто быть". Обосновывать свое право на участие в политической современности консерватор может — лишь сознательно "моделируя" то, что подлежит "охранению".
Таким образом, исходное ретроспективное и негативное переживание, из которого "рождается" консерватизм еще не представляет собой никакой политической позиции. Политический статус консерватизма заведомо проблематичен: ощущение наследственной связи с "уходящим миром" должно быть рефлексивно переработано в претензию на участие в политическом настоящем. Консерватор вынужден дополнительно обосновывать свою политическую уместность. Стиль и метафизика этих обоснований могут быть весьма различны. Отсюда, во многом, и коренное различие в определениях и самоопределениях консерваторов.
Прежде, чем двигаться дальше, отметим один момент — важный не столько идеологически, сколько психологически. Если консерватизм рождается как реакция на "непоправимую утрату", то современный российский консерватизм, без сомнения, рожден как реакция на уничтожение и распад советской империи. Это и есть "старый порядок" современных консерваторов, который как таковой невозвратим ("реставрация — особая форма уничтожения реставрируемого", — предупреждал Карл Шмитт), но служит психологической точкой отсчета. Общность опыта утраты имеет большое эмоциональное значение: президент, сожалеющий об СССР — уже наполовину свой. (Конечно, это верно не для всех консерваторов. Взять того же А. Солженицына. Его ностальгическая родина — за пределами октября семнадцатого. Но своеобразие российского консерватизма во многом предопределяет именно изживание утраты советского "старого порядка".) Можно даже сформулировать методологическую максиму: первичное, психологическое понимание консерватизма должно ориентироваться на вопрос "что вы потеряли?". "Что вы намерены сохранять?" — это уже второй вопрос. Варианты ответа разные, но их не то, чтобы много.
Первая и простейшая реакция: сохранять то, что попадется под руку. "То, что создано за последние полтора десятка лет, хорошо бы сохранить. Надо признать, багаж получается не такой уж большой. Тем важнее его сберечь". Так говорит Владислав Сурков о правоконсервативном кредо Единой России. Но даже этот консерватизм статус-кво обладает лишь кажущейся простотой. Сознательное сохранение, воспроизводство любой развивающейся социальной системы требует прежде всего — способности теоретически различать в ней существенное и несущественное, а также практически отделять одно от другого. Т.е. некоего представления о сущности системы, которое никак не выводимо из ее данности. Иногда, впрочем, в данности и предлагают видеть суть дела. Но режим, легитимирующий себя через лозунг "стабильности", именно в силу этого имманентно нестабилен. Ведь нарушить информационный покой, интуитивно воспринимаемый как "стабильность", — дело техники.
Если отталкиваться от сегодняшних российских реалий, то возможен и оппозиционный вариант охранительного дискурса. В этом случае предметом сохранения мыслится не система власти, а то, за счет чего она существует: народ. Отсюда лозунг "сбережения народа" как выражение консервативного кредо по Солженицыну. Не важно, что слоган был повторен Путиным, важно, что в топике народнического сознания "сбережение" есть слово к неправедной власти, замолвленное о народе. "Неужели не образумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа?" (Пс. 13.4). Но и здесь не обойтись без уточнений: что делает, в глазах консерватора, народ — народом, т.е. чем-то достойным сознательной заботы и сбережения? В одном из первых номеров "второго" "Консерватора" Егор Холмогоров ставит в центр "народнического" понимания консерватизма — "предрассудки", безотчетно объединяющие "русских людей". Действительно, одна из традиционных миссий консервативного интеллектуала — в сознательной апологии бессознательной правды своего народа. Но есть ведь и такой парадокс: в нашем народе сколько угодно антинародных предрассудков. Каждый без труда вспомнит набор "самоедских" стереотипов русского народа (причем отнюдь не всегда "привнесенных"!), которые, как правило, не только могут, но и должны быть преодолены средствами просвещения. Отделение "истинного" бессознательного от "ложного" потребовало бы слишком глубокого погружения в метафизику "народного духа".
Самый метафизически заостренный ответ о предмете "сохранения" для консерватизма дается, пожалуй, религиозными консерваторами. Основа консервативной миссии, в их понимании, — сохранить в максимальной степени возможность спасения, которая, с одной стороны, сужается по мере нарастания "апостасии" (отпадения от веры), с другой — никогда не может быть полностью устранена. "В рамках воззрений органических, к которым консерватизм относится по определению, [охранительную миссию] невозможно мыслить, не апеллируя к понятию спасения". Это пишет Максим Соколов в рамках дискуссии о консерватизме в "Эксперте". Пожалуй, его ответ отсылает к наиболее прочному фундаменту. Но проблема в том, чтобы описать условия религиозного спасения в координатах политической миссии. Переход от естественно-охранительной установки "религии откровения" к сознательному политическому консерватизму — отдельная творческая задача, решаемая за пределами самой религии.
Консерватизм против консерватизма: методология реконструкции
Примеры подобных определений и самоопределений сегодняшнего консерватизма можно множить, но вряд ли они позволят нам увидеть его как целостный феномен. Чтобы всерьез говорить о политических идеологиях, опираться на самоназвания недостаточно. Необходим осознанный принцип селекции, хотя бы минимальная теоретическая почва для ответа на вопрос "что консервативно?". В первом приближении я бы выделил два принципиально различных методологических подхода к реконструкции консерватизма.
Первый из них рельефно выражен Сэмюэлем Хантингтоном. И, пожалуй, его точка зрения является преобладающей в политологической среде — хотя бы потому, что наиболее проста. "Обнаружения консерватизма, — пишет он, — представляют собой просто параллельные идеологические реакции на сходные социальные ситуации. Содержание консерватизма по существу статично. Его проявления исторически изолированы и дискретны. Таким образом, как ни парадоксально, консерватизм, будучи защитником традиции, сам существует без традиции. Консерватизм — этот призыв к истории, сам без истории". Утверждение Хантингтона выглядит как констатация, но по существу имеет полемический подтекст — заостренный против каких бы то ни было интегральных версий консерватизма. Этот подтекст отчасти ясен из энциклопедического комментария Леонида Полякова. Выражаемое Хантингтоном "понимание консерватизма, — пишет Поляков, — позволяет рассматривать эту политическую идеологию функционально — как ответ на вызовы, обращенные к конкретному обществу с его конкретной экономической, политической и культурной проблематикой. Нет необходимости ни сводить его всего лишь к аристократической реакции на Французскую революцию 1789, ни превращать в надисторическую "вечную" философию. Консерватизм как идеология, принципиально не имеющая идеала совершенного общественного строя (не существует "консервативной утопии"), определяется Хантингтоном как "институциональная", т.е. выступающая в защиту наличных социальных институтов, когда они оказываются под угрозой. В отличие от "идеационных" идеологий (либерализм и социализм), имеющих свой общественный идеал".
В рамках подобного понимания консерватизм, действительно, не может рассматриваться как самостоятельная традиция политического мышления. Он противостоит не другим идеологиям, а радикальным прочтениям любой из них. Как таковой, он не является политическим мировоззрением наряду с другими, но представляет собой формулу их практического компромисса — между собой и с действительностью. Именно так обосновывает понятие "либерального консерватизма" один из его отечественных идеологов Алексей Кара-Мурза, который не устает повторять, что консерватизм, в его понимании, — прежде всего прививка от "варварства", необходимая базовым политическим идеологиям, будь то либерализм или социализм. Вне зависимости от того, примем мы или оспорим эту формулировку, она позволяет отчетливее уяснить взаимосвязь между методологическим и политическим подходами к консерватизму. В частности, если мы методологически ставим цель воссоздать консерватизм как интеллектуальную традицию, то мы должны будем принять для него и иное политическое определение.
Именно такую цель ставит перед собой, пожалуй, наиболее проницательный исследователь консервативной мысли Карл Мангейм. Для Мангейма как социолога знания политические идеологии значимы как несводимые друг к другу "стили мышления" (рассматриваемые по аналогии со стилями в искусстве), имеющие свою морфологию и динамику. Французская революция катализировала поляризацию этих стилей мышления, но отнюдь не предопределила навеки ни их повестку, ни их временной горизонт. Воспроизведенное Л. Поляковым шаблонное противопоставление двух "неправильных" определений консерватизма — как "надисторической философии" и как "всего лишь аристократической реакции на 1789 год", — является для Мангейма совершенно ложным. Консерватизм — философия, вырастающая, вплоть до наших дней, из корня аристократической реакции на 1789 год. То есть, с одной стороны, никакая не "надисторическая", с другой — не замкнутая в интервале "от революции до реставрации". "Консерватизм, — пишет Мангейм, — представляет собой… исторически развитую динамичную объективную структурную конфигурацию. Люди переживают опыт и ведут себя консервативным образом (в отличие от традиционалистского) в той и только в той мере, в которой включаются в одну из фаз развития этой объективной мыслительной структуры (обычно в современную им фазу)". Понимание консерватизма как "объективной мыслительной структуры", имеющей свою морфологию и свою диалектику, явно идет в разрез с характеристиками, исходящими от Хантингтона. "Статичность" и "дискретность", приписываемые им консерватизму как таковому, для Мангейма являются атрибутами доидеологической формы консервативного сознания, именуемой "традиционализмом". "Традиционалистское поведение представляет собой практически чистую серию реакций на раздражители". Консерватизм идеологический также носит поначалу характер реакции — "реакции на тот факт, что "прогрессивность" оформилась в качестве определенной тенденции". Но, сообразуясь с характером самой "прогрессивности", эта реакция уже не могла оставаться спонтанной и дискретной, а становилась все более рефлексивной и комплексной.
Пожалуй, из интеллектуальных консерваторов наиболее близко к партийно-политическому "запросу на консерватизм" стоят идеологи "Серафимовского клуба", образованного в конце 2003 года группой известных журналистов — Александр Привалов, Михаил Леонтьев, Максим Соколов — и патриотических кинематографистов — Сергей Сельянов, Алексей Балабанов. Оперативным центром этой группы является журнал "Эксперт", видящий свою миссию в разработке "национально-либеральной" идеологии, причем, как правило, в экономикоцентричном ключе.
Тогда же, в 2003–2004 гг., на основе семинара "РЖ-Сценарии", действовавшего при "Русском журнале", сложился формат идеологического клуба консервативных экспертов и журналистов, получившего название "Консервативный пресс-клуб". "Кадровый костяк" клуба составили публицисты и ученые: Вадим Цымбурский, Виктор Милитарев, Юрий Солозобов, Борис Межуев, Константин Крылов, Егор Холмогоров, Андрей Окара. Своим культуроцентризмом он оттенял экономический крен "Серафимовского клуба", а в качестве полюса антилиберального консерватизма оппонировал "национал-либеральному синтезу". В качестве изданий, представляющих это направление, фигурировали в разное время — газета "Консерватор" (в 2003 году); политотдел сетевого "Русского журнала" (в 2001–2003 гг.); аналитический сайт Агентство политических новостей (с июня 2004 по настоящий момент) и альманах "Стратегический журнал", выпускаемые Институтом национальной стратегии; журнал "Русский предприниматель" (главный редактор — Андрей Кобяков) и некоторые другие издания.
Отдельно можно упомянуть направление православного консерватизма, которое не имеет четкой институциональной привязки, если не считать собственно церковных структур — таких, как Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата (митрополит Кирилл), или Сретенский монастырь (архимандрит Тихон Шевкунов). Это направление за последние годы заметно интеллектуализировалось благодаря деятельности таких изданий, как "Православие.ру" или "Правая.ру", лицом которых стали публицисты Виталий Аверьянов, Илья Бражников, Олег Беляков, Наталия Нарочницкая.
Среди сознательно "консервативных" общественных институций следует также назвать: литературно-философскую группу "Бастион", действующую на протяжении последних 6 лет, объединяющую писателей-фантастов и идеологов имперско-православно направления (Дмитрий Володихин, Эдуард Геворкян, Глеб Елисеев, Кирилл Бенедиктов и другие); фонд Культуры Никиты Михалкова, проводивший на протяжении нескольких лет философско-культурологический "Консервативный семинар". Существуют авторитетные центры, не декларирующие напрямую идеологический консерватизм, но имеющие к нему непосредственное отношение. Такие, как многолетний "Экспериментальный творческий центр" Сергея Кургиняна, издающий журнал "Россия XXI" и альманах "Школа целостного анализа", или Институт русской истории при РГГУ, возглавляемый Андреем Фурсовым, где выходит в свет "Русский исторический журнал".
Наконец, следует назвать несколько имен, которые сами по себе равнозначны "институтам" консервативного идейного поля. Это Александр Солженицын, покойный философ-политолог Александр Панарин, философ-геополитик Вадим Цымбурский, лево-консервативный мыслитель Сергей Кара-Мурза, консервативный "миссионер" и геополитик Александр Дугин, религиозный философ и историк Владимир Махнач, православный публицист Андрей Кураев…
Конечно, этот набор консервативных фигур и центров заведомо произволен и неполон. Систематизировать и расширять его — задача для историков и социологов. Наша задача в данном случае в другом: понять, что придает всему этому "социальному срезу" характер "интеллектуального поля"? И возможно, идеологического полюса.
Консерватизм в поисках "референта"
Едва только в консерватизме начали видеть некую идейно-политическую платформу, как консерваторы повели друг с другом борьбу за политическое определение консерватизма — за возможность дать полю свою разметку. Эта борьба не является признаком склочности. Она представляет собой естественную и вполне продуктивную реакцию на изначально проблематичный статус консерватизма как политической идеологии. Каждый назвавшийся "консерватором" слышал этот вопрос неоднократно: что вы собираетесь "консервировать" в России — стране с неоднократно прерванной традицией? Вопрос вполне уместный. Но именно как вопрос. А не как аргумент против российского консерватизма. Дело в том, что консерватизм как таковой выходит на сцену именно тогда, когда "консервировать" уже поздно. Когда символический порядок имперского и сословного общества, который, собственно, и мог служить предметом "консервации", — поскольку был равнозначен для религиозного сознания миропорядку — превратился в руины по мере продвижения "просвещения", "революции", "эмансипации". Консервативное сознание, пробужденное к жизни ощущением своей связи с уходящим миром, попадает в ситуацию конфликта, но конфликта продуктивного: вынуждающего консерватора "делать себя вместо того, чтобы просто быть". Обосновывать свое право на участие в политической современности консерватор может — лишь сознательно "моделируя" то, что подлежит "охранению".
Таким образом, исходное ретроспективное и негативное переживание, из которого "рождается" консерватизм еще не представляет собой никакой политической позиции. Политический статус консерватизма заведомо проблематичен: ощущение наследственной связи с "уходящим миром" должно быть рефлексивно переработано в претензию на участие в политическом настоящем. Консерватор вынужден дополнительно обосновывать свою политическую уместность. Стиль и метафизика этих обоснований могут быть весьма различны. Отсюда, во многом, и коренное различие в определениях и самоопределениях консерваторов.
Прежде, чем двигаться дальше, отметим один момент — важный не столько идеологически, сколько психологически. Если консерватизм рождается как реакция на "непоправимую утрату", то современный российский консерватизм, без сомнения, рожден как реакция на уничтожение и распад советской империи. Это и есть "старый порядок" современных консерваторов, который как таковой невозвратим ("реставрация — особая форма уничтожения реставрируемого", — предупреждал Карл Шмитт), но служит психологической точкой отсчета. Общность опыта утраты имеет большое эмоциональное значение: президент, сожалеющий об СССР — уже наполовину свой. (Конечно, это верно не для всех консерваторов. Взять того же А. Солженицына. Его ностальгическая родина — за пределами октября семнадцатого. Но своеобразие российского консерватизма во многом предопределяет именно изживание утраты советского "старого порядка".) Можно даже сформулировать методологическую максиму: первичное, психологическое понимание консерватизма должно ориентироваться на вопрос "что вы потеряли?". "Что вы намерены сохранять?" — это уже второй вопрос. Варианты ответа разные, но их не то, чтобы много.
Первая и простейшая реакция: сохранять то, что попадется под руку. "То, что создано за последние полтора десятка лет, хорошо бы сохранить. Надо признать, багаж получается не такой уж большой. Тем важнее его сберечь". Так говорит Владислав Сурков о правоконсервативном кредо Единой России. Но даже этот консерватизм статус-кво обладает лишь кажущейся простотой. Сознательное сохранение, воспроизводство любой развивающейся социальной системы требует прежде всего — способности теоретически различать в ней существенное и несущественное, а также практически отделять одно от другого. Т.е. некоего представления о сущности системы, которое никак не выводимо из ее данности. Иногда, впрочем, в данности и предлагают видеть суть дела. Но режим, легитимирующий себя через лозунг "стабильности", именно в силу этого имманентно нестабилен. Ведь нарушить информационный покой, интуитивно воспринимаемый как "стабильность", — дело техники.
Если отталкиваться от сегодняшних российских реалий, то возможен и оппозиционный вариант охранительного дискурса. В этом случае предметом сохранения мыслится не система власти, а то, за счет чего она существует: народ. Отсюда лозунг "сбережения народа" как выражение консервативного кредо по Солженицыну. Не важно, что слоган был повторен Путиным, важно, что в топике народнического сознания "сбережение" есть слово к неправедной власти, замолвленное о народе. "Неужели не образумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа?" (Пс. 13.4). Но и здесь не обойтись без уточнений: что делает, в глазах консерватора, народ — народом, т.е. чем-то достойным сознательной заботы и сбережения? В одном из первых номеров "второго" "Консерватора" Егор Холмогоров ставит в центр "народнического" понимания консерватизма — "предрассудки", безотчетно объединяющие "русских людей". Действительно, одна из традиционных миссий консервативного интеллектуала — в сознательной апологии бессознательной правды своего народа. Но есть ведь и такой парадокс: в нашем народе сколько угодно антинародных предрассудков. Каждый без труда вспомнит набор "самоедских" стереотипов русского народа (причем отнюдь не всегда "привнесенных"!), которые, как правило, не только могут, но и должны быть преодолены средствами просвещения. Отделение "истинного" бессознательного от "ложного" потребовало бы слишком глубокого погружения в метафизику "народного духа".
Самый метафизически заостренный ответ о предмете "сохранения" для консерватизма дается, пожалуй, религиозными консерваторами. Основа консервативной миссии, в их понимании, — сохранить в максимальной степени возможность спасения, которая, с одной стороны, сужается по мере нарастания "апостасии" (отпадения от веры), с другой — никогда не может быть полностью устранена. "В рамках воззрений органических, к которым консерватизм относится по определению, [охранительную миссию] невозможно мыслить, не апеллируя к понятию спасения". Это пишет Максим Соколов в рамках дискуссии о консерватизме в "Эксперте". Пожалуй, его ответ отсылает к наиболее прочному фундаменту. Но проблема в том, чтобы описать условия религиозного спасения в координатах политической миссии. Переход от естественно-охранительной установки "религии откровения" к сознательному политическому консерватизму — отдельная творческая задача, решаемая за пределами самой религии.
Консерватизм против консерватизма: методология реконструкции
Примеры подобных определений и самоопределений сегодняшнего консерватизма можно множить, но вряд ли они позволят нам увидеть его как целостный феномен. Чтобы всерьез говорить о политических идеологиях, опираться на самоназвания недостаточно. Необходим осознанный принцип селекции, хотя бы минимальная теоретическая почва для ответа на вопрос "что консервативно?". В первом приближении я бы выделил два принципиально различных методологических подхода к реконструкции консерватизма.
Первый из них рельефно выражен Сэмюэлем Хантингтоном. И, пожалуй, его точка зрения является преобладающей в политологической среде — хотя бы потому, что наиболее проста. "Обнаружения консерватизма, — пишет он, — представляют собой просто параллельные идеологические реакции на сходные социальные ситуации. Содержание консерватизма по существу статично. Его проявления исторически изолированы и дискретны. Таким образом, как ни парадоксально, консерватизм, будучи защитником традиции, сам существует без традиции. Консерватизм — этот призыв к истории, сам без истории". Утверждение Хантингтона выглядит как констатация, но по существу имеет полемический подтекст — заостренный против каких бы то ни было интегральных версий консерватизма. Этот подтекст отчасти ясен из энциклопедического комментария Леонида Полякова. Выражаемое Хантингтоном "понимание консерватизма, — пишет Поляков, — позволяет рассматривать эту политическую идеологию функционально — как ответ на вызовы, обращенные к конкретному обществу с его конкретной экономической, политической и культурной проблематикой. Нет необходимости ни сводить его всего лишь к аристократической реакции на Французскую революцию 1789, ни превращать в надисторическую "вечную" философию. Консерватизм как идеология, принципиально не имеющая идеала совершенного общественного строя (не существует "консервативной утопии"), определяется Хантингтоном как "институциональная", т.е. выступающая в защиту наличных социальных институтов, когда они оказываются под угрозой. В отличие от "идеационных" идеологий (либерализм и социализм), имеющих свой общественный идеал".
В рамках подобного понимания консерватизм, действительно, не может рассматриваться как самостоятельная традиция политического мышления. Он противостоит не другим идеологиям, а радикальным прочтениям любой из них. Как таковой, он не является политическим мировоззрением наряду с другими, но представляет собой формулу их практического компромисса — между собой и с действительностью. Именно так обосновывает понятие "либерального консерватизма" один из его отечественных идеологов Алексей Кара-Мурза, который не устает повторять, что консерватизм, в его понимании, — прежде всего прививка от "варварства", необходимая базовым политическим идеологиям, будь то либерализм или социализм. Вне зависимости от того, примем мы или оспорим эту формулировку, она позволяет отчетливее уяснить взаимосвязь между методологическим и политическим подходами к консерватизму. В частности, если мы методологически ставим цель воссоздать консерватизм как интеллектуальную традицию, то мы должны будем принять для него и иное политическое определение.
Именно такую цель ставит перед собой, пожалуй, наиболее проницательный исследователь консервативной мысли Карл Мангейм. Для Мангейма как социолога знания политические идеологии значимы как несводимые друг к другу "стили мышления" (рассматриваемые по аналогии со стилями в искусстве), имеющие свою морфологию и динамику. Французская революция катализировала поляризацию этих стилей мышления, но отнюдь не предопределила навеки ни их повестку, ни их временной горизонт. Воспроизведенное Л. Поляковым шаблонное противопоставление двух "неправильных" определений консерватизма — как "надисторической философии" и как "всего лишь аристократической реакции на 1789 год", — является для Мангейма совершенно ложным. Консерватизм — философия, вырастающая, вплоть до наших дней, из корня аристократической реакции на 1789 год. То есть, с одной стороны, никакая не "надисторическая", с другой — не замкнутая в интервале "от революции до реставрации". "Консерватизм, — пишет Мангейм, — представляет собой… исторически развитую динамичную объективную структурную конфигурацию. Люди переживают опыт и ведут себя консервативным образом (в отличие от традиционалистского) в той и только в той мере, в которой включаются в одну из фаз развития этой объективной мыслительной структуры (обычно в современную им фазу)". Понимание консерватизма как "объективной мыслительной структуры", имеющей свою морфологию и свою диалектику, явно идет в разрез с характеристиками, исходящими от Хантингтона. "Статичность" и "дискретность", приписываемые им консерватизму как таковому, для Мангейма являются атрибутами доидеологической формы консервативного сознания, именуемой "традиционализмом". "Традиционалистское поведение представляет собой практически чистую серию реакций на раздражители". Консерватизм идеологический также носит поначалу характер реакции — "реакции на тот факт, что "прогрессивность" оформилась в качестве определенной тенденции". Но, сообразуясь с характером самой "прогрессивности", эта реакция уже не могла оставаться спонтанной и дискретной, а становилась все более рефлексивной и комплексной.
“
"Идеологи консерватизма, — пишет, вторя Мангейму, Девид Блур, — стремились создать идеологию, которая во всех отношениях представляла бы альтернативу идеологии естественного закона того времени. Они также пытались пойти дальше этого, обнаружить и подвергнуть сомнению основные предпосылки, которые казались лежащими в основе притязаний, характерных для этой последней".
этом случае можно говорить о консерватизме не как о праксеологическом "антирадикализме", а как о целостном политическом мировоззрении, составляющем альтернативу таким политическим идеологиям современности, как либерализм и социализм. Или, точнее — всему семейству идеологий, основанных на предпосылках Просвещения.
Какой из подходов признать правильным? Если отталкиваться от опыта, то оба. "Разногласия" Мангейма и Хантингтона дают повод говорить не просто о разных подходах, но о разных "консерватизмах", один из которых можно назвать "ситуационным", или "институциональным" (коль скоро речь в нем — о сохранении реально сложившихся институтов), другой — "интегральным", или "идеологическим" (коль скоро речь в нем — о консерватизме как самостоятельной идеологии, оппонирующей либерализму и социализму). Каждый из них имеет свою доминанту, свою биографию, и рассматривать их лучше по отдельности.
Ситуационный консерватизм
Сначала, опять же, — о том, что проще. То есть — о ситуационно-охранительном консерватизме в сегодняшней России. Некоторые его представители уже названы. Но дело не в представителях, — таковые всегда найдутся, — а в общественной атмосфере. Настроения, питающие этот консерватизм статус-кво, стали ощутимы на стыке веков, то есть, попросту, в период утверждения Путина у власти. И дело не в том, что Путин стал лидером "охранительных" настроений или их объектом. Просто в его лице, популярная и подчеркнуто реалистичная власть позволила или, в каком-то смысле, заставила российское общество 90-х уверовать в собственную реальность. Ельцинская Россия ощущала себя как во сне, в ее событиях не было необратимости, в ее отношениях не было системности. Кто-то видел в этом дьявольский морок, кто-то — "уйму возможностей". Конечно, речь именно о самоощущении, но инстанция реальности, в том числе социальной, — и есть своего рода психологический конструкт. С появлением нарочито "вменяемой" власти, которая в России воспринимается как центр общества, реальность начала "обретать плоть". Вопреки многим ожиданиям, возникшая власть не повела народ прочь из безвременья, а предложила начать в нем обустраиваться. В этом и только в этом — суть консерватизма путинского призыва. Благодаря небольшому символическому довеску, броуновское движение 1990-х приобрело характер системы, в отношении которой можно занять позицию "охранения" или постепенного "улучшения".
Спонтанный консерватизм "путинской эпохи" выражается то в нарочитом социальном оптимизме, то в повышенной тревожности по поводу возможной потери достигнутого и сползания в хаос (что в принципе психологически свойственно консерватору), то в энтузиазме реформирования, то в критике "отдельных недостатков". Но все эти модальности стабилизационного консерватизма до сих пор остаются на уровне настроений и не образуют никакой охранительной "системы мысли", даже пунктирной. Чтобы таковая возникла, необходимо довести спонтанно-охранительную установку до уровня того институционального сознания, о котором говорит Хантингтон. Для начала — обозначить, вычленить в данном, реально существующем политическом режиме и социальном укладе собственно базовые институты — обеспечивающие социальное воспроизводство, оказывающиеся под угрозой и нуждающиеся в защите и дополнительной "культивации". К таким институтам в любом обществе относятся — реальные механизмы преемственности и ротации власти; корпоративная этика правящего слоя и бюрократии; механизмы регулирования хозяйственной системы; общенациональная идентичность и официальная историческая мифология; нормы публичной общественной морали и, по ситуации, многое другое. Определенность по этим позициям не дает ни истины, ни программы действий. Но она дает хотя бы модель институционального каркаса общества, к которой консерватор может апеллировать для обоснования своей охранительной миссии. Если такой модели нет, то об "институциональном" или "ситуативном" консерватизме как интеллектуальном явлении говорить не приходится.
Какой из подходов признать правильным? Если отталкиваться от опыта, то оба. "Разногласия" Мангейма и Хантингтона дают повод говорить не просто о разных подходах, но о разных "консерватизмах", один из которых можно назвать "ситуационным", или "институциональным" (коль скоро речь в нем — о сохранении реально сложившихся институтов), другой — "интегральным", или "идеологическим" (коль скоро речь в нем — о консерватизме как самостоятельной идеологии, оппонирующей либерализму и социализму). Каждый из них имеет свою доминанту, свою биографию, и рассматривать их лучше по отдельности.
Ситуационный консерватизм
Сначала, опять же, — о том, что проще. То есть — о ситуационно-охранительном консерватизме в сегодняшней России. Некоторые его представители уже названы. Но дело не в представителях, — таковые всегда найдутся, — а в общественной атмосфере. Настроения, питающие этот консерватизм статус-кво, стали ощутимы на стыке веков, то есть, попросту, в период утверждения Путина у власти. И дело не в том, что Путин стал лидером "охранительных" настроений или их объектом. Просто в его лице, популярная и подчеркнуто реалистичная власть позволила или, в каком-то смысле, заставила российское общество 90-х уверовать в собственную реальность. Ельцинская Россия ощущала себя как во сне, в ее событиях не было необратимости, в ее отношениях не было системности. Кто-то видел в этом дьявольский морок, кто-то — "уйму возможностей". Конечно, речь именно о самоощущении, но инстанция реальности, в том числе социальной, — и есть своего рода психологический конструкт. С появлением нарочито "вменяемой" власти, которая в России воспринимается как центр общества, реальность начала "обретать плоть". Вопреки многим ожиданиям, возникшая власть не повела народ прочь из безвременья, а предложила начать в нем обустраиваться. В этом и только в этом — суть консерватизма путинского призыва. Благодаря небольшому символическому довеску, броуновское движение 1990-х приобрело характер системы, в отношении которой можно занять позицию "охранения" или постепенного "улучшения".
Спонтанный консерватизм "путинской эпохи" выражается то в нарочитом социальном оптимизме, то в повышенной тревожности по поводу возможной потери достигнутого и сползания в хаос (что в принципе психологически свойственно консерватору), то в энтузиазме реформирования, то в критике "отдельных недостатков". Но все эти модальности стабилизационного консерватизма до сих пор остаются на уровне настроений и не образуют никакой охранительной "системы мысли", даже пунктирной. Чтобы таковая возникла, необходимо довести спонтанно-охранительную установку до уровня того институционального сознания, о котором говорит Хантингтон. Для начала — обозначить, вычленить в данном, реально существующем политическом режиме и социальном укладе собственно базовые институты — обеспечивающие социальное воспроизводство, оказывающиеся под угрозой и нуждающиеся в защите и дополнительной "культивации". К таким институтам в любом обществе относятся — реальные механизмы преемственности и ротации власти; корпоративная этика правящего слоя и бюрократии; механизмы регулирования хозяйственной системы; общенациональная идентичность и официальная историческая мифология; нормы публичной общественной морали и, по ситуации, многое другое. Определенность по этим позициям не дает ни истины, ни программы действий. Но она дает хотя бы модель институционального каркаса общества, к которой консерватор может апеллировать для обоснования своей охранительной миссии. Если такой модели нет, то об "институциональном" или "ситуативном" консерватизме как интеллектуальном явлении говорить не приходится.
Отсутствие этого институционального референта российские консерваторы статус-кво компенсируют ссылкой на "демократические завоевания" новой России. "Мы никогда от них не откажемся, потому что заплатили за них слишком большую цену. Эта парадоксальная формула Владимира Путина, недавно повторенная взыскующим "консерватизма" лидером "Наших" Василием Якеменко, в общем и целом, означает, что те институты либеральной демократии, которые были "импортированы", вкупе со всем остальным, после разрушения "железного занавеса", — и должны служить референтом охранительной идеологии постсоветской России.
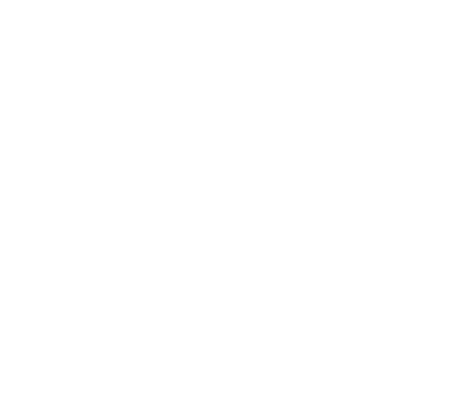
Институты либеральной демократии, в самом деле, по определению носят "базовый" характер. Но разве признание разрыва между фасадами либеральной демократии и реальным "modus vivendi" современной России — не является сегодня общим местом? Разумеется, всегда есть возможность сказать "тем хуже для фактов", то есть увидеть в этом знак порочности современной российской жизни и вектор ее преображения. Но подобный ход мысли будет как раз методологически антиконсервативным. Ведь сам пафос институционального консерватизма по Хантингтону состоит в том, чтобы не осуждать существующее от имени той или иной теории должного, а разобраться в том, как существует существующее, на основе какой внутренней логики и каких механизмов, — и произвести тонкую настройку, оптимизацию. Концепт "демократических завоеваний" — как блефа, купленного столь дорогой ценой, что теперь нельзя от него отказаться, — мешает постсоветским "охранителям" не только решить, но даже поставить эту задачу. Таким образом, современный институциональный консерватизм в России не является таковым даже по собственным критериям.
Но ведь он существует! — возразят мне. Произносятся речи, выходят книги, пишутся статьи, где идеи либеральной демократии и ценности рыночного общества аранжируются не утопическим гуманизмом, а охранительным патриотизмом, подчас даже с милитаристскими и алармистскими нотами. Т. е. аранжируются консервативно. Да, это характерное для современного западного консерватизма сочленение паттернов либерального и националистического сознания, — действительно наблюдается в определенных кругах российских интеллектуалов. И я в данном случае лишен возможности сказать "тем хуже для фактов". Поэтому, чтобы объяснить существование этого феномена на интеллектуальном поле, мне придется, ad hoc, ввести еще одно понятие консерватизма: эпигонский консерватизм. Ему особенно подвержены именно интеллектуалы, которым свойственно жить под обаянием философских, литературных, политических героев прошлого. Это консерватизм, который утверждает свою идентичность через повторение тех или иных известных истории способов быть консерватором. Так, например, консерваторами — в свое время и на своем месте — считались президент Рейган и романтик Новалис. Значит ли это, что, избрав себе в кумиры их лично, воспроизводя их образ действия или стиль мышления, мы сами становимся сертифицированными консерваторами? Для эпигонского мышления — да, безусловно, значит. Целая линия в дискуссиях о консерватизме основана на этом прецедентном подходе — одновременно бессистемном и антиисторичном.
Разумеется, англосаксонский буржуазный неоконсерватизм и реакционный феодальный романтизм имеют между собой мало общего. Но так же мало общего каждый из них имеет с ситуацией в современной России. Рейганизм был плодотворен и интересен в свое время и на своем месте — т.е. именно как ситуационный консерватизм, каковым он и мыслил себя сам. Его ситуация была задана несколькими доминантными факторами: моральный и экономический кризис "общества благосостояния" (вызов гедонистической и нигилистической контркультуры — пусть угасающий, но "неотвеченный" — на фоне кризиса кейнсианской модели роста) плюс тупик холодной войны (которая как модель отношений была во многом тупиковой именно для США. В этой и только в этой ситуации синтез рыночного и культурного фундаментализма, помноженный на милитаристский либерал-глобализм, был историчным и органичным для данного общества решением. В проекции на текущий этап российской истории этот синтез является абсолютной фикцией, симулякром консервативности. В нескольких работах я попытался показать, что ключевые сюжеты англосаксонского неоконсерватизма приобретают в устах его российских эпигонов прямо противоположное значение по сравнению с оригиналом, причем не по "субъективным", а по "объективным" причинам, в силу обстоятельств места и времени. Но здесь важно отметить другое. Со стороны отечественных рейганистов-тэтчеристов не было предпринято, насколько мне известно, попыток доказать, что историческая ситуация рейганистского ситуационного консерватизма изоморфна современной российской ситуации. Отстоять подобный тезис было бы сложно, но только он мог бы обосновать право на преемственность от одного ситуационного консерватизма к другому.
Интегральный консерватизм
Интеллектуальный контекст
Начиная разговор об "интегральном" консерватизме, т. е. о консерватизме как последовательном историческом оппоненте либерализма и социализма, а не страже статус-кво, следует признать, что его развитие в современной России также началось с эпигонской стадии. Начало и середина 90-х были периодом, когда новый консервативный романтик на вопрос о своем политическом кредо отвечал боевыми кличами "Юлиус Эвола", "Эрнст Юнгер", и далее по вкусу. Это был период консервативно-революционного просвещения, связанный, конечно же, с именем Александра Дугина. Его деятельность и идейно-политический профиль достаточно хорошо известны. Пожалуй, несколько экзотичным и непонятым, даже среди интеллектуалов, остается лишь популяризированное им самоназвание: "консервативная революция".
Самый простой ответ на вопрос "что это такое?" гласит: это философско-политическая школа в Германии первой трети ХХ века, "отцом" которой является Ницше, а представителями, в числе прочих, — Освальд Шпенглер, Эрнст Юнгер, Ханс Фрайер, в каком-то смысле, также Мартин Хайдеггер и Карл Шмитт. Даже среди специалистов по истории идей эту школу принято толковать как своего рода еретическое ответвление на древе консерватизма, берущее начало в экстатическом мышлении романтиков или в компромиссе с революционным активизмом левого движения. Однако в действительности гораздо вернее было бы увидеть в ней попытку возвращения к истокам консервативного мышления — не в смысле повторения его ранних форм, а в смысле воссоздания его собственных мировоззренческих оснований. Антибуржуазный "радикализм" этих консерваторов не является плодом диалектического компромисса с "радикалами" левацкого толка (как это подчас выглядит в изложении "национал-большевиков"). Скорее, напротив, он является попыткой реконструировать консервативное мышление в его собственной, идеологически чистой форме — без примеси "левой утопии", связанной с опытом Просвещения, Французской революции и, если брать шире, всей "западной метафизики". Именно поэтому о "радикальном консерватизме" можно говорить как о проявлении консерватизма интегрального.
В современной истории идей наиболее комплексная попытка реконструкции консерватизма как системы мышления принадлежит французским "новым правым" (школа GRECE во главе с Аленом де Бенуа), которые, наследуя "по прямой" школе "консервативной революции", дополняют ее опыт концепциями более нейтральных или смежных фигур: социологией Вильфредо Парето, религиозным психоанализом Карла Юнга, этологией Конрада Лоренца, антропологией Арнольда Гелена… Близость Александра Дугина французским "новым правым" способствовала, с самого начала 1990-х, активному импорту их культурно-философских "синтезов", образовавших интеллектуальную питательную среду российского интегрального консерватизма. Ключевую роль в этом процессе играли, конечно же, переводы. Поэтому основными столпами консервативно-революционного просвещения в России 90-х, под шумок разговоров о "Веймарской России", явились Шмитт, Хайдеггер, Юнгер собственной персоной. Их прочтение вызвало не только волну компиляций в публицистике, но и более качественный, хотя и узкий резонанс в виде исследований таких специалистов по немецкому радикальном консерватизму, как Александр Филиппов и Алексей Руткевич. Отечественная консервативная традиция играла, как мне кажется, "вторым номером". Но нет никаких сомнений, что "открытие" публицистики Константина Леонтьева или Розанова, наследия евразийства 1920–30-х годов, государственно-правовой мысли Тихомирова или Ильина, оказало большое формирующее воздействие на новые поколения консервативной интеллигенции.
Почему мы здесь вынуждены отдельно останавливаться на "идейных корнях"? Потому что интегральный консерватизм, по самому своему понятию, больше "зависит" от собственной интеллектуальной традиции, чем ситуационный. Но, безусловно, в анализе идеологий исследование преемственности не должно заменять понимания идентичности. Чтобы реконструировать идейно-политическое ядро интегрально-консервативной позиции, нам не избежать еще одного погружения в теорию.
Попытка понять консерватизм как полноценного оппонента либерализма и социализма обращает нас к "осевому времени" истории идеологий, каковым является эпоха Просвещения. Тот же Мангейм пишет, что "консервативная мысль появилась как независимое течение, когда ее вынудили к сознательной оппозиции буржуазно-революционной мысли, способу мышления, основанному на идее естественного права". Поскольку речь идет именно о способе мышления, а не об одной из частных теорий, Мангейм воссоздает его проекции в разных сферах (чтобы проявить структуру того вызова, на который "отвечает" консерватизм). Он выделяет несколько политических опорных идей естественно-правового мышления: натурализм (гипотеза "естественного состояния"), контрактный подход к обществу (абстракция "общественного договора"), демократизм (концепция народного суверенитета), метафизический эгалитаризм (доктрина неотъемлемых прав человека). И несколько методологических черт: рационализм, индивидуализм, универсализм в подходе к истории, атомизм и механицизм в социологии и так далее. Названные особенности "просвещенческого" мышления существуют в системе, "держатся друг за друга", поэтому организующая их изнутри "точка сборки" может видеться по-разному. Это не обязательно идея "естественного права" по Мангейму. Для тех же французских "новых правых" она сама — лишь проявление универсалистского подхода к миру, корень которого, на мой взгляд, не в идее универсальной применимости законов и норм, а в склонности Просвещения переживать всеобщность сознания как источник значимости, абстракцию как форму ценности. (Эта логика рождения ценностного из способности к абстракции звучит в категорическом императиве Канта: "Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства".)
Как бы то ни было, консервативная система мысли выстраивается как фронтальная оппозиция "буржуазно-революционному способу мышления" по всем названным линиям (и движется, через критику, к уяснению собственного внутреннего принципа). Контрактному подходу к обществу и методологическому индивидуализму оказываются противопоставлены органицизм, холизм, культурный фундаментализм — настаивающий не просто на солидарности, но на онтологическом первенстве сообществ по отношению к индивидам (сам "общественный договор" может быть заключен лишь на почве уже существующей общности). Рационализму сопротивляется философия жизни, отчасти, гегельянская диалектика и иные концепции, которые не просто противопоставляют амбициям "логоса" "иррационализм действительности", но "представляют сам Разум и его нормы как меняющиеся и находящиеся в движении". Вере во всеобщие социальные законы и универсальные ценности противостоит историзм, который релятивизирует "сознание" по отношению ко "времени", истолкованному подчас как заданная телеологическая структура, подчас — как субстанция действия. "Утопизму" как способу проектирования социального порядка в отрыве от "месторазвития (термин евразийца Савицкого) противостоят геополитика и цивилизационный подход как стратегии культивирования пространственной идентичности сообществ. Натурализму, левой вере в освобождение "естественного человека", противостоит культурная антропология, рассматривающая собственно человеческое в человеке как систему усвоенных им, "вросших" в него социальных институтов, в том числе, институтов власти (отсюда — консервативный принцип личности как единства человека и общества).
Но ведь он существует! — возразят мне. Произносятся речи, выходят книги, пишутся статьи, где идеи либеральной демократии и ценности рыночного общества аранжируются не утопическим гуманизмом, а охранительным патриотизмом, подчас даже с милитаристскими и алармистскими нотами. Т. е. аранжируются консервативно. Да, это характерное для современного западного консерватизма сочленение паттернов либерального и националистического сознания, — действительно наблюдается в определенных кругах российских интеллектуалов. И я в данном случае лишен возможности сказать "тем хуже для фактов". Поэтому, чтобы объяснить существование этого феномена на интеллектуальном поле, мне придется, ad hoc, ввести еще одно понятие консерватизма: эпигонский консерватизм. Ему особенно подвержены именно интеллектуалы, которым свойственно жить под обаянием философских, литературных, политических героев прошлого. Это консерватизм, который утверждает свою идентичность через повторение тех или иных известных истории способов быть консерватором. Так, например, консерваторами — в свое время и на своем месте — считались президент Рейган и романтик Новалис. Значит ли это, что, избрав себе в кумиры их лично, воспроизводя их образ действия или стиль мышления, мы сами становимся сертифицированными консерваторами? Для эпигонского мышления — да, безусловно, значит. Целая линия в дискуссиях о консерватизме основана на этом прецедентном подходе — одновременно бессистемном и антиисторичном.
Разумеется, англосаксонский буржуазный неоконсерватизм и реакционный феодальный романтизм имеют между собой мало общего. Но так же мало общего каждый из них имеет с ситуацией в современной России. Рейганизм был плодотворен и интересен в свое время и на своем месте — т.е. именно как ситуационный консерватизм, каковым он и мыслил себя сам. Его ситуация была задана несколькими доминантными факторами: моральный и экономический кризис "общества благосостояния" (вызов гедонистической и нигилистической контркультуры — пусть угасающий, но "неотвеченный" — на фоне кризиса кейнсианской модели роста) плюс тупик холодной войны (которая как модель отношений была во многом тупиковой именно для США. В этой и только в этой ситуации синтез рыночного и культурного фундаментализма, помноженный на милитаристский либерал-глобализм, был историчным и органичным для данного общества решением. В проекции на текущий этап российской истории этот синтез является абсолютной фикцией, симулякром консервативности. В нескольких работах я попытался показать, что ключевые сюжеты англосаксонского неоконсерватизма приобретают в устах его российских эпигонов прямо противоположное значение по сравнению с оригиналом, причем не по "субъективным", а по "объективным" причинам, в силу обстоятельств места и времени. Но здесь важно отметить другое. Со стороны отечественных рейганистов-тэтчеристов не было предпринято, насколько мне известно, попыток доказать, что историческая ситуация рейганистского ситуационного консерватизма изоморфна современной российской ситуации. Отстоять подобный тезис было бы сложно, но только он мог бы обосновать право на преемственность от одного ситуационного консерватизма к другому.
Интегральный консерватизм
Интеллектуальный контекст
Начиная разговор об "интегральном" консерватизме, т. е. о консерватизме как последовательном историческом оппоненте либерализма и социализма, а не страже статус-кво, следует признать, что его развитие в современной России также началось с эпигонской стадии. Начало и середина 90-х были периодом, когда новый консервативный романтик на вопрос о своем политическом кредо отвечал боевыми кличами "Юлиус Эвола", "Эрнст Юнгер", и далее по вкусу. Это был период консервативно-революционного просвещения, связанный, конечно же, с именем Александра Дугина. Его деятельность и идейно-политический профиль достаточно хорошо известны. Пожалуй, несколько экзотичным и непонятым, даже среди интеллектуалов, остается лишь популяризированное им самоназвание: "консервативная революция".
Самый простой ответ на вопрос "что это такое?" гласит: это философско-политическая школа в Германии первой трети ХХ века, "отцом" которой является Ницше, а представителями, в числе прочих, — Освальд Шпенглер, Эрнст Юнгер, Ханс Фрайер, в каком-то смысле, также Мартин Хайдеггер и Карл Шмитт. Даже среди специалистов по истории идей эту школу принято толковать как своего рода еретическое ответвление на древе консерватизма, берущее начало в экстатическом мышлении романтиков или в компромиссе с революционным активизмом левого движения. Однако в действительности гораздо вернее было бы увидеть в ней попытку возвращения к истокам консервативного мышления — не в смысле повторения его ранних форм, а в смысле воссоздания его собственных мировоззренческих оснований. Антибуржуазный "радикализм" этих консерваторов не является плодом диалектического компромисса с "радикалами" левацкого толка (как это подчас выглядит в изложении "национал-большевиков"). Скорее, напротив, он является попыткой реконструировать консервативное мышление в его собственной, идеологически чистой форме — без примеси "левой утопии", связанной с опытом Просвещения, Французской революции и, если брать шире, всей "западной метафизики". Именно поэтому о "радикальном консерватизме" можно говорить как о проявлении консерватизма интегрального.
В современной истории идей наиболее комплексная попытка реконструкции консерватизма как системы мышления принадлежит французским "новым правым" (школа GRECE во главе с Аленом де Бенуа), которые, наследуя "по прямой" школе "консервативной революции", дополняют ее опыт концепциями более нейтральных или смежных фигур: социологией Вильфредо Парето, религиозным психоанализом Карла Юнга, этологией Конрада Лоренца, антропологией Арнольда Гелена… Близость Александра Дугина французским "новым правым" способствовала, с самого начала 1990-х, активному импорту их культурно-философских "синтезов", образовавших интеллектуальную питательную среду российского интегрального консерватизма. Ключевую роль в этом процессе играли, конечно же, переводы. Поэтому основными столпами консервативно-революционного просвещения в России 90-х, под шумок разговоров о "Веймарской России", явились Шмитт, Хайдеггер, Юнгер собственной персоной. Их прочтение вызвало не только волну компиляций в публицистике, но и более качественный, хотя и узкий резонанс в виде исследований таких специалистов по немецкому радикальном консерватизму, как Александр Филиппов и Алексей Руткевич. Отечественная консервативная традиция играла, как мне кажется, "вторым номером". Но нет никаких сомнений, что "открытие" публицистики Константина Леонтьева или Розанова, наследия евразийства 1920–30-х годов, государственно-правовой мысли Тихомирова или Ильина, оказало большое формирующее воздействие на новые поколения консервативной интеллигенции.
Почему мы здесь вынуждены отдельно останавливаться на "идейных корнях"? Потому что интегральный консерватизм, по самому своему понятию, больше "зависит" от собственной интеллектуальной традиции, чем ситуационный. Но, безусловно, в анализе идеологий исследование преемственности не должно заменять понимания идентичности. Чтобы реконструировать идейно-политическое ядро интегрально-консервативной позиции, нам не избежать еще одного погружения в теорию.
Попытка понять консерватизм как полноценного оппонента либерализма и социализма обращает нас к "осевому времени" истории идеологий, каковым является эпоха Просвещения. Тот же Мангейм пишет, что "консервативная мысль появилась как независимое течение, когда ее вынудили к сознательной оппозиции буржуазно-революционной мысли, способу мышления, основанному на идее естественного права". Поскольку речь идет именно о способе мышления, а не об одной из частных теорий, Мангейм воссоздает его проекции в разных сферах (чтобы проявить структуру того вызова, на который "отвечает" консерватизм). Он выделяет несколько политических опорных идей естественно-правового мышления: натурализм (гипотеза "естественного состояния"), контрактный подход к обществу (абстракция "общественного договора"), демократизм (концепция народного суверенитета), метафизический эгалитаризм (доктрина неотъемлемых прав человека). И несколько методологических черт: рационализм, индивидуализм, универсализм в подходе к истории, атомизм и механицизм в социологии и так далее. Названные особенности "просвещенческого" мышления существуют в системе, "держатся друг за друга", поэтому организующая их изнутри "точка сборки" может видеться по-разному. Это не обязательно идея "естественного права" по Мангейму. Для тех же французских "новых правых" она сама — лишь проявление универсалистского подхода к миру, корень которого, на мой взгляд, не в идее универсальной применимости законов и норм, а в склонности Просвещения переживать всеобщность сознания как источник значимости, абстракцию как форму ценности. (Эта логика рождения ценностного из способности к абстракции звучит в категорическом императиве Канта: "Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства".)
Как бы то ни было, консервативная система мысли выстраивается как фронтальная оппозиция "буржуазно-революционному способу мышления" по всем названным линиям (и движется, через критику, к уяснению собственного внутреннего принципа). Контрактному подходу к обществу и методологическому индивидуализму оказываются противопоставлены органицизм, холизм, культурный фундаментализм — настаивающий не просто на солидарности, но на онтологическом первенстве сообществ по отношению к индивидам (сам "общественный договор" может быть заключен лишь на почве уже существующей общности). Рационализму сопротивляется философия жизни, отчасти, гегельянская диалектика и иные концепции, которые не просто противопоставляют амбициям "логоса" "иррационализм действительности", но "представляют сам Разум и его нормы как меняющиеся и находящиеся в движении". Вере во всеобщие социальные законы и универсальные ценности противостоит историзм, который релятивизирует "сознание" по отношению ко "времени", истолкованному подчас как заданная телеологическая структура, подчас — как субстанция действия. "Утопизму" как способу проектирования социального порядка в отрыве от "месторазвития (термин евразийца Савицкого) противостоят геополитика и цивилизационный подход как стратегии культивирования пространственной идентичности сообществ. Натурализму, левой вере в освобождение "естественного человека", противостоит культурная антропология, рассматривающая собственно человеческое в человеке как систему усвоенных им, "вросших" в него социальных институтов, в том числе, институтов власти (отсюда — консервативный принцип личности как единства человека и общества).
Опубликовано в издании "Наследие Евразии", 20 марта 2006 года
