Проект «Государство-цивилизация»
Концепция государства-цивилизации и учредительные принципы нового строя - по материалам пресс-конференции ИНС.
О мотивах пересмотра действующей конституции и ее системных недостатках в разное время было сказано уже достаточно. Сегодня важно включить этот вопрос в контекст обсуждения образа будущего страны и перейти от частностей к ревизии самой концепции государства.
Действующая конституция, действительно, была создана как переходный регламент, но именно в этом качестве сыграла позитивную историческую роль. Она законсервировала страну в промежутке между двумя распадами: состоявшимся распадом СССР и возможным распадом РФ. Но проблема была лишь законсервирована и отсрочена, а не решена. Действующая конституция — это документ, который либо просто потеряет смысл в ходе политико-территориального распада, либо будет пересмотрен при учреждении полноценного государства исторической России.
Почему Российская Федерация не является таковым? Патриоты говорят в этой связи о размерах нынешней РФ, которые не соответствуют представлениям о естественных границах, сложившимся в ходе нашей истории. На мой взгляд, дело не только и не столько в размерах. Дело в том, что сама РФ конституирована не как ядро тысячелетней государственности, а как осколок советской империи, который существует среди других таких же осколков, договорившихся о своей дальнейшей неделимости. Это делает Россию неспособной различать центробежные и центростремительные процессы на постсоветском пространстве. Примером чему является позиция по «непризнанным государствам». Возможно, власти хотели бы решить проблему их признания, но конституционный дизайн самой РФ этому препятствует, т.к. единственным основанием ее целостности на данный момент является — круговая порука взаимного признания границ. В современном мире, где действует новый имперский центр и где многие тектонические слои пришли в движение, фундамент статус-кво является крайне ненадежным.
Причина этого системного дефекта в том, что за основу конституционного строительства начала 90-х была взята модель государства-нации, не жизнеспособная в современных условиях и не соответствующая исторической России.
Можно выделить три признака этой модели, обусловливающие ее неадекватность:
- Административная концепция нации, согласно которой не нация образует и поддерживает границы государства, а границы создают нацию. Т.н. «гражданские нации» создаются по формальному признаку — по приписке людей к юрисдикции государств, поэтому их учредительная претензия в отношении своих государств является заведомо ложной. Так, «Российская Федерация» — государство, которое учреждено «многонациональным народом России», но сам «многонациональный народ России» — это всего лишь совокупность жителей «Российской Федерации». Внутри этого порочного тавтологического круга сама государственность остается безосновной, а миллионы русских и других людей, считающих Россию Родиной, оказываются вне политической общности российского государства.
- Зависимость от международной круговой поруки. Нации-государства всегда существуют в рамках системы взаимного признания, эта система исторически замещает роль имперского арбитра, имперского метасуверена, предусматривавшуюся политическим строем средневековой Европы. Но сегодня имперский арбитр возвращается, и система взаимного признания государств-наций уже не является гарантией суверенитета. Напротив, она становится матрицей для формирования неоимперского правового поля в мировом масштабе.
- Приоритет принципов Просвещения и французской революции. Государства-нации — это государства-единомышленники. Их взаимное признание опосредовано и обусловлено верховенством общих идеалов, что отражено во множестве формальных и неформальных конвенций.
В совокупности все это означает, что в модель государства-нации встроена логика ограниченного суверенитета: во-первых, ключи от суверенитета наций-государств находятся не у себя дома, а внутри некоей международной системы, во-вторых, верховенство «прав человека» и универсальность либерально-демократического стандарта превращается в механизм десуверенизации в руках определенных государств и групп государств. Что касается России, то ее суверенитет в рамках этой модели является не только ограниченным, но и второсортным, т.к. она не входит в ядро того цивилизационного проекта, с которым связаны принципы Просвещения и французской революции.
Действующая конституция, действительно, была создана как переходный регламент, но именно в этом качестве сыграла позитивную историческую роль. Она законсервировала страну в промежутке между двумя распадами: состоявшимся распадом СССР и возможным распадом РФ. Но проблема была лишь законсервирована и отсрочена, а не решена. Действующая конституция — это документ, который либо просто потеряет смысл в ходе политико-территориального распада, либо будет пересмотрен при учреждении полноценного государства исторической России.
Почему Российская Федерация не является таковым? Патриоты говорят в этой связи о размерах нынешней РФ, которые не соответствуют представлениям о естественных границах, сложившимся в ходе нашей истории. На мой взгляд, дело не только и не столько в размерах. Дело в том, что сама РФ конституирована не как ядро тысячелетней государственности, а как осколок советской империи, который существует среди других таких же осколков, договорившихся о своей дальнейшей неделимости. Это делает Россию неспособной различать центробежные и центростремительные процессы на постсоветском пространстве. Примером чему является позиция по «непризнанным государствам». Возможно, власти хотели бы решить проблему их признания, но конституционный дизайн самой РФ этому препятствует, т.к. единственным основанием ее целостности на данный момент является — круговая порука взаимного признания границ. В современном мире, где действует новый имперский центр и где многие тектонические слои пришли в движение, фундамент статус-кво является крайне ненадежным.
Причина этого системного дефекта в том, что за основу конституционного строительства начала 90-х была взята модель государства-нации, не жизнеспособная в современных условиях и не соответствующая исторической России.
Можно выделить три признака этой модели, обусловливающие ее неадекватность:
- Административная концепция нации, согласно которой не нация образует и поддерживает границы государства, а границы создают нацию. Т.н. «гражданские нации» создаются по формальному признаку — по приписке людей к юрисдикции государств, поэтому их учредительная претензия в отношении своих государств является заведомо ложной. Так, «Российская Федерация» — государство, которое учреждено «многонациональным народом России», но сам «многонациональный народ России» — это всего лишь совокупность жителей «Российской Федерации». Внутри этого порочного тавтологического круга сама государственность остается безосновной, а миллионы русских и других людей, считающих Россию Родиной, оказываются вне политической общности российского государства.
- Зависимость от международной круговой поруки. Нации-государства всегда существуют в рамках системы взаимного признания, эта система исторически замещает роль имперского арбитра, имперского метасуверена, предусматривавшуюся политическим строем средневековой Европы. Но сегодня имперский арбитр возвращается, и система взаимного признания государств-наций уже не является гарантией суверенитета. Напротив, она становится матрицей для формирования неоимперского правового поля в мировом масштабе.
- Приоритет принципов Просвещения и французской революции. Государства-нации — это государства-единомышленники. Их взаимное признание опосредовано и обусловлено верховенством общих идеалов, что отражено во множестве формальных и неформальных конвенций.
В совокупности все это означает, что в модель государства-нации встроена логика ограниченного суверенитета: во-первых, ключи от суверенитета наций-государств находятся не у себя дома, а внутри некоей международной системы, во-вторых, верховенство «прав человека» и универсальность либерально-демократического стандарта превращается в механизм десуверенизации в руках определенных государств и групп государств. Что касается России, то ее суверенитет в рамках этой модели является не только ограниченным, но и второсортным, т.к. она не входит в ядро того цивилизационного проекта, с которым связаны принципы Просвещения и французской революции.
В совокупности все это означает, что в модель государства-нации встроена логика ограниченного суверенитета: во-первых, ключи от суверенитета наций-государств находятся не у себя дома, а внутри некоей международной системы, во-вторых, верховенство «прав человека» и универсальность либерально-демократического стандарта превращается в механизм десуверенизации в руках определенных государств и групп государств. Что касается России, то ее суверенитет в рамках этой модели является не только ограниченным, но и второсортным, т.к. она не входит в ядро того цивилизационного проекта, с которым связаны принципы Просвещения и французской революции.
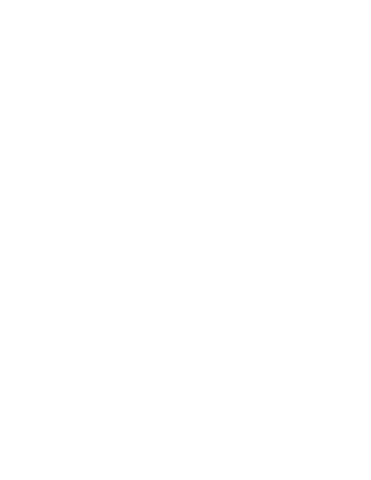
Это путь зависимого развития, которое не может быть в современном мире ничем иным, как развитием недоразвитости.
Таким образом, РФ не состоялась и не могла состояться как государство-нация. Подступаясь к новому конституционному проектированию, мы должны исходить из того, что система государственных институтов, отвечающих за незыблемость суверенитета, должна базироваться на внутреннем цивилизационном стандарте и иметь защиту от взлома. Это значит, что в основу конституционного строительства должна быть положена принципиально иная концепция. Мы называем ее — концепцией «государства-цивилизации».
По перечисленным трем параметрам она означает, что:
- Россия складывалась не как «гражданская нация», а как исторический проект определенного союза народов, ядром которого являются русские;
- Россия составляет часть международной системы, но, во-первых, абсолютно не зависит от нее в смысле своей легитимности, во-вторых, рассматривает себя как гарант стабильности на постсоветском пространстве, т.е. стремится к оформлению локальной международной системы, внутри которой она сама могла бы выступать легитимизирующим центром;
- Россия не является государством, берущим исток во французской революции и не признает верховенства ее принципов. Она является локальной цивилизацией с собственными культурно-географическими константами.
В последнем пункте требуется сделать одно важное уточнение. Действительно, мы исходим из модели сосуществования локальных цивилизаций, которые во многом отличаются по способам переживания ценностей, по-разному представляют себе соотношение человека, мира, Бога и общества. Эти различия существуют органически, независимо от того, насколько мы осведомлены от них. Но на определенном этапе над ними надстраивается то, что можно назвать «цивилизационным проектом», который создается из самого разного исторического материала. В этом смысле Европа как локальная цивилизация и европейский цивилизационный проект, — вещи очень различные. Этот цивилизационный проект — секуляристский, техницистский, индивидуалистический. В ходе его кристаллизации были отброшены многие возможности иной Европы — к которым Россия имеет самое прямое отношение. Как наследница Византии, как держава, покровительствовавшая на протяжении нескольких веков консервативной, а затем социалистической Европе, — Россия должна интегрировать в своем цивилизационном проекте ресурсы другой Европы. Это сделает ее фокусом притяжения тех внутриевропейских сил, которые оказываются за бортом неолиберального по сути проекта Евросоюза.
Но, разумеется, главная задача российского цивилизационного проекта состоит в том, чтобы дать российской цивилизации ту систему эталонов, через которые она могла бы опознавать саму себя. То есть перевести ее из органического и полубессознательного состояния в состояние самореферентной социальной системы — социальной системы, способной воспроизводить себя через соотнесение с собственным цивилизационным стандартом, включающим самые разные измерения — от конституционного права до образной географии, от академической философии до массовой культуры.
Таковы общие предпосылки концепции государства-цивилизации. На ближайшую перспективу стоит задача раскрытия ее конституционно-правовых следствий применительно к России. В качестве первого шага, можно вычленить несколько учредительных принципов будущего конституционного строя.
Таким образом, РФ не состоялась и не могла состояться как государство-нация. Подступаясь к новому конституционному проектированию, мы должны исходить из того, что система государственных институтов, отвечающих за незыблемость суверенитета, должна базироваться на внутреннем цивилизационном стандарте и иметь защиту от взлома. Это значит, что в основу конституционного строительства должна быть положена принципиально иная концепция. Мы называем ее — концепцией «государства-цивилизации».
По перечисленным трем параметрам она означает, что:
- Россия складывалась не как «гражданская нация», а как исторический проект определенного союза народов, ядром которого являются русские;
- Россия составляет часть международной системы, но, во-первых, абсолютно не зависит от нее в смысле своей легитимности, во-вторых, рассматривает себя как гарант стабильности на постсоветском пространстве, т.е. стремится к оформлению локальной международной системы, внутри которой она сама могла бы выступать легитимизирующим центром;
- Россия не является государством, берущим исток во французской революции и не признает верховенства ее принципов. Она является локальной цивилизацией с собственными культурно-географическими константами.
В последнем пункте требуется сделать одно важное уточнение. Действительно, мы исходим из модели сосуществования локальных цивилизаций, которые во многом отличаются по способам переживания ценностей, по-разному представляют себе соотношение человека, мира, Бога и общества. Эти различия существуют органически, независимо от того, насколько мы осведомлены от них. Но на определенном этапе над ними надстраивается то, что можно назвать «цивилизационным проектом», который создается из самого разного исторического материала. В этом смысле Европа как локальная цивилизация и европейский цивилизационный проект, — вещи очень различные. Этот цивилизационный проект — секуляристский, техницистский, индивидуалистический. В ходе его кристаллизации были отброшены многие возможности иной Европы — к которым Россия имеет самое прямое отношение. Как наследница Византии, как держава, покровительствовавшая на протяжении нескольких веков консервативной, а затем социалистической Европе, — Россия должна интегрировать в своем цивилизационном проекте ресурсы другой Европы. Это сделает ее фокусом притяжения тех внутриевропейских сил, которые оказываются за бортом неолиберального по сути проекта Евросоюза.
Но, разумеется, главная задача российского цивилизационного проекта состоит в том, чтобы дать российской цивилизации ту систему эталонов, через которые она могла бы опознавать саму себя. То есть перевести ее из органического и полубессознательного состояния в состояние самореферентной социальной системы — социальной системы, способной воспроизводить себя через соотнесение с собственным цивилизационным стандартом, включающим самые разные измерения — от конституционного права до образной географии, от академической философии до массовой культуры.
Таковы общие предпосылки концепции государства-цивилизации. На ближайшую перспективу стоит задача раскрытия ее конституционно-правовых следствий применительно к России. В качестве первого шага, можно вычленить несколько учредительных принципов будущего конституционного строя.
Принцип разделения власти и управления — не отменяет принципа разделения властей, но существенно видоизменяет его. Уже сегодня президентская власть моноцентрична и во многих отношениях стоит над разделением властей. Эту тенденцию нужно радикализировать. Хочу подчеркнуть, что наша программа, в отличие от озвучиваемых идей «парламентской республики», — это программа укрепления верховной власти. Но именно для того, чтобы отвести верховной власти ту роль, которую она занимает в русской политической культуре, — роль центра общества и даже, в определенном смысле, роль центра земного мира, гаранта правового и нравственного порядка — необходимо институционально поднять ее над рутиной управления и конъюнктурой общественных дискуссий. В противном случае роль Главы государства как гаранта доверия — нивелируется, что, к сожалению, мы и наблюдаем сегодня.
При этом само управление должно быть не технократическим (или псевдотехнократическим, как сегодня), а непосредственно связанным с повесткой и балансом общественно-политической дискуссии. Иными словами, правительство как вершина исполнительной власти — формируется парламентом.
Глава государства, который «властвует, но не управляет», на первый взгляд, может напомнить об «английской королеве», которая «царствует, но не правит». Чтобы отбросить эту ложную ассоциацию, нужно понять, что логика власти и логика управления действительно качественно различны, они имеют разный корень. Что это значит с точки зрения разграничения компетенций? Во-первых, Глава государства — гарант суверенитета. Он обладает исключительным правом на введение чрезвычайного положения, безусловным контролем над вооруженными силами страны, приоритетом в формировании повестки безопасности и международной политики. Во-вторых, Глава государства — гарант практической справедливости. Он формирует судебную, надзорную, контрольно-ревизионную власть. В-третьих, Глава государства — гарант общественного патриотического консенсуса. Не будучи исполнителем социально-экономических программ, он вправе ставить вопрос об их соответствии приоритетам страны — в режиме императивного всенародного референдума. В соответствии с духом «народной монархии», именно он держит в своих руках этот важнейший инструмент прямой демократии — плебисцит.
Разумеется, так понятый институт Главы государства не должен предусматривать каких-либо ограничений по количеству сроков исполнения полномочий.
При этом само управление должно быть не технократическим (или псевдотехнократическим, как сегодня), а непосредственно связанным с повесткой и балансом общественно-политической дискуссии. Иными словами, правительство как вершина исполнительной власти — формируется парламентом.
Глава государства, который «властвует, но не управляет», на первый взгляд, может напомнить об «английской королеве», которая «царствует, но не правит». Чтобы отбросить эту ложную ассоциацию, нужно понять, что логика власти и логика управления действительно качественно различны, они имеют разный корень. Что это значит с точки зрения разграничения компетенций? Во-первых, Глава государства — гарант суверенитета. Он обладает исключительным правом на введение чрезвычайного положения, безусловным контролем над вооруженными силами страны, приоритетом в формировании повестки безопасности и международной политики. Во-вторых, Глава государства — гарант практической справедливости. Он формирует судебную, надзорную, контрольно-ревизионную власть. В-третьих, Глава государства — гарант общественного патриотического консенсуса. Не будучи исполнителем социально-экономических программ, он вправе ставить вопрос об их соответствии приоритетам страны — в режиме императивного всенародного референдума. В соответствии с духом «народной монархии», именно он держит в своих руках этот важнейший инструмент прямой демократии — плебисцит.
Разумеется, так понятый институт Главы государства не должен предусматривать каких-либо ограничений по количеству сроков исполнения полномочий.
Принцип неделимости и неотчуждаемости суверенитета. Принцип неделимости суверенитета направлен против определенных трактовок федерализма — концепций договорной федерации и частичного суверенитета субъектов федерации. Федерализм в России должен означать не дробление суверенной власти, а политическое участие всех регионов России в общефедеральном правлении. Действующая конституция не фиксирует этого достаточно четко и содержит рецидивы договорного федерализма, забрезжившего в начале 90-х в связи с практикой заключения договоров между «центром» и «субъектами».
Принцип неотчуждаемости суверенитета призван гарантировать нас от проектов наднациональной интеграции и наднационального контроля. По оценке некоторых экспертов, действующая конституция писалась в расчете на гипотетическую интеграцию в ЕС. Поэтому она не только не обеспечивает неотчуждаемости суверенитета, но включает в себя механизм признания высшей юрисдикции наднациональных правовых инстанций. Таких, как Страсбургский суд (который недавно был назван председателем Конституционного суда РФ Зорькиным — инстанцией высшей юрисдикции). С точки зрения концепции цивилизационного суверенитета, цивилизационного правового стандарта, это категорически неприемлемо. Будущая конституция должна раз и навсегда вывести Россию из-под юрисдикции внешних правовых инстанций. Судя по всему, это может быть обеспечено только при условии провозглашения приоритета конституционного права над международным.(1)
Принцип неотчуждаемости суверенитета призван гарантировать нас от проектов наднациональной интеграции и наднационального контроля. По оценке некоторых экспертов, действующая конституция писалась в расчете на гипотетическую интеграцию в ЕС. Поэтому она не только не обеспечивает неотчуждаемости суверенитета, но включает в себя механизм признания высшей юрисдикции наднациональных правовых инстанций. Таких, как Страсбургский суд (который недавно был назван председателем Конституционного суда РФ Зорькиным — инстанцией высшей юрисдикции). С точки зрения концепции цивилизационного суверенитета, цивилизационного правового стандарта, это категорически неприемлемо. Будущая конституция должна раз и навсегда вывести Россию из-под юрисдикции внешних правовых инстанций. Судя по всему, это может быть обеспечено только при условии провозглашения приоритета конституционного права над международным.(1)
Верховенство «гражданской свободы» над «правами человека». Принцип верховенства «прав человека» — важнейший элемент западного цивилизационного стандарта в конституционном проектировании. Он, безусловно, должен быть пересмотрен. И не потому, что концепция «западная», а мы якобы не хотим иметь «общих ценностей». Просто общие ценности бывают разные. Есть такие общие ценности, которые взаимно исключают право на вмешательство, а есть такие, которые его создают. «Верховенство прав человека» — создает право на вмешательство. В этой концепции речь идет не только об утверждении определенного набора неотъемлемых прав. Речь идет о принудительном определении государства как института реализации личных «прав». В этой логике государство Россия не может обосновать смысл своего существования и свою целостность. (Например, не сложно представить себе, что Брюссель в скором будущем ничуть не хуже обеспечит неотъемлемые права жителей Северо-запада России, чем Москва…). Другой мотив ревизии связан с внутренним изъяном концепции «прав человека», как она принята в европейском цивилизационном проекте. В самой просвещенческой концепции естественных и неотчуждаемых прав пропущено одно важное звено, без которого все разваливается. Звено социально-религиозных предпосылок. «Права человека» не являются природными, т.к. в природе не существует «прав». Права рождаются в момент признания их сообществом. Но если при этом сообщество признает их в качестве неотъемлемых — то единственным основанием к тому является религиозная идея равенства перед Богом. Таким образом, признание и осуществление «прав человека» опосредовано религиозной идентичностью сообщества.
Но и в этом переосмысленном качестве «права человека» создают лишь некий минимум личной автономии, пространство «негативной свободы», «свободы от угнетения», которая не является полноценной свободой. Полноценной, положительной свободой человек обладает лишь в качестве члена государственного сообщества, то есть гражданина. Поэтому понятие «гражданской свободы», в отличие от минимума «свобод», упакованных в стандарте «прав человека», включает в себя — участие в государстве как политическом союзе. Базисом гражданской свободы является суверенитет государства, и в этом смысле «гражданская свобода» — пример такой общей ценности (общей с другими цивилизациями), которая не создает, а исключает право на вмешательство в международных отношениях.
Но и в этом переосмысленном качестве «права человека» создают лишь некий минимум личной автономии, пространство «негативной свободы», «свободы от угнетения», которая не является полноценной свободой. Полноценной, положительной свободой человек обладает лишь в качестве члена государственного сообщества, то есть гражданина. Поэтому понятие «гражданской свободы», в отличие от минимума «свобод», упакованных в стандарте «прав человека», включает в себя — участие в государстве как политическом союзе. Базисом гражданской свободы является суверенитет государства, и в этом смысле «гражданская свобода» — пример такой общей ценности (общей с другими цивилизациями), которая не создает, а исключает право на вмешательство в международных отношениях.
Правосубъектность народов. «Многонациональный народ РФ», как уже было сказано, по определению не способен учредить и гарантировать данное государство, потому что как таковой он производен от его границ и юрисдикции. Эта формула фактически перекочевала из советской концепции, в рамках которой множественность национальных субъектов снималась под знаком единства «народа» как социального субъекта. Но и этот идеологически консолидирующий социальный подтекст оказался утрачен. Сегодня формула о «многонациональном народе» категорически неприемлема, т.к. она оставляет за рамками российской государственности соотечественников за рубежом и лишает учредительного статуса исторически существующие в России народы. Государствообразующим субъектом должен быть признан русский народ в союзе с коренными народами России.(2) Этот союз рассматривается как открытый для всех народов исторической России (территория Российской империи и СССР).
Принцип государства-убежища. Гражданами России априори признаются представители всех коренных народов страны, не имеющих государственности вне России. Каждый представитель такого народа за рубежом может оформить свое гражданство в российском посольстве. Это четко определяет статус соотечественников и создает льготный режим репатриации.
Институт ассоциированного членства. Принцип неотчуждаемости суверенитета исключает для России какие бы то ни было формы наднациональной политической интеграции. Это не значит, что мы не стремимся к добровольному воссоединению братских народов исторической России. Но матрицей этого воссоединения должна стать именно модель России как государства-цивилизации. Для этого механизмы инкорпорирования должны быть достаточно гибкими. В частности, целесообразно предусмотреть институт ассоциированного членства как обязывающую форму военно-политического, геоэкономического и геокультурного союза.
Принцип общенациональной собственности на землю, воздух и недра. Общенациональный характер этой собственности коренится в том, что исторически субъектом присвоения и освоения жизненного пространства является — только политическое сообщество. Как следствие, она не "принадлежит" ни правительству, ни отдельным группам граждан, ни даже всем гражданам страны в совокупности — ведь в эту совокупность не включены прошедшие и будущие поколения. Она является основой исторического выживания народов России, базой ее цивилизационного проекта. В отношении природных богатств ныне живущие — только попечители. Поэтому свои отношения с общенациональным достоянием субъекты разного уровня устанавливают не в режиме собственности, а в режиме владения.
Публичный статус традиционных конфессий. В России действуют принципы свободы совести и разделения церкви и государства. Мы не берем за основу модель «религиозного государства». Но мы стремимся к социальному осуществлению принципа «верующего общества». В качестве социальных корпораций, гарантирующих историческую преемственность, нравственный порядок общества и легитимность государственной власти, традиционные конфессии (православие, ислам, буддизм, иудаизм), пользуются поддержкой государства и могут вступать с ним в отношения конкордата в рамках определенных сфер социализации граждан.
Разумеется, этот набор учредительных принципов заведомо неполон и пока бессистемен. Он служит лишь постановке вопроса о российском цивилизационном стандарте в конституционном праве. Дискуссия о концепции конституционного проекта для России будет продолжена на страницах АПН и в стенах Института национальной стратегии.
Опубликовано на портале apn.ru, 9 февраля 2005 года
Примечания:
1. Как обеспечивать инстанцию высшей метаправовой справедливости — отдельный вопрос. Но она, безусловно, должна быть внутри государства, иначе его просто не будет.
2. Таким образом решается не только «русский вопрос» (напомню, русские сегодня — единственный крупный народ России, не имеющий собственной государственности), но и все народы России получают учредительный статус на всей территории страны, а не только в «титульных» республиках. Это обстоятельство может выразиться в признании официального статуса всех языков народов России, наряду с единственным государственным — русским.
1. Как обеспечивать инстанцию высшей метаправовой справедливости — отдельный вопрос. Но она, безусловно, должна быть внутри государства, иначе его просто не будет.
2. Таким образом решается не только «русский вопрос» (напомню, русские сегодня — единственный крупный народ России, не имеющий собственной государственности), но и все народы России получают учредительный статус на всей территории страны, а не только в «титульных» республиках. Это обстоятельство может выразиться в признании официального статуса всех языков народов России, наряду с единственным государственным — русским.
